Текст книги "Накануне. Записки охотника (сборник)"
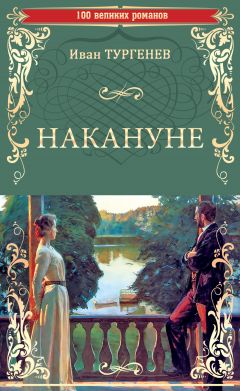
Автор книги: Иван Тургенев
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 34 страниц)
Глава II
Молодые люди спустились к Москве-реке и пошли вдоль ее берега. От воды веяло свежестью, и тихий плеск небольших волн ласкал слух.
– Я бы опять выкупался, – заговорил Шубин, – да боюсь опоздать. Посмотри на реку: она словно нас манит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о нимфа! мы толстокожие скифы.
– У нас есть русалки, – заметил Берсенев.
– Поди ты с своими русалками! На что мне, ваятелю, эти исчадия запуганной, холодной фантазии, эти образы, рожденные в духоте избы, во мраке зимних ночей? Мне нужно света, простора… Когда же, Боже мой, поеду я в Италию? Когда…
– То есть, ты хочешь сказать, в Малороссию?
– Стыдно тебе, Андрей Петрович, упрекать меня в необдуманной глупости, в которой я и без того горько раскаиваюсь. Ну да, я поступил, как дурак: добрейшая Анна Васильевна дала мне денег на поездку в Италию, а я отправился к хохлам, есть галушки, и…
– Не договаривай, пожалуйста, – перебил Берсенев.
– И все-таки я скажу, что эти деньги не были истрачены даром. Я увидал там такие типы, особенно женские… Конечно, я знаю: вне Италии нет спасения!
– Ты поедешь в Италию, – проговорил Берсенев, не оборачиваясь к нему, – и ничего не сделаешь. Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь. Знаем мы вас!
– Ставассер полетел же… И не он один. А не полечу – значит, я пингуин морской, без крыльев. Мне душно здесь, в Италию хочу, – продолжал Шубин, – там солнце, там красота…
Молодая девушка, в широкой соломенной шляпе, с розовым зонтиком на плече, показалась в это мгновение на тропинке, по которой шли приятели.
– Но что я вижу? И здесь к нам навстречу идет красота! Привет смиренного художника очаровательной Зое! – крикнул вдруг Шубин, театрально размахнув шляпой.
Молодая девушка, к которой относилось это восклицание, остановилась, погрозила ему пальцем и, допустив до себя обоих приятелей, проговорила звонким голоском и чуть-чуть картавя:
– Что же вы это, господа, обедать не идете? Стол накрыт.
– Что я слышу? – заговорил, всплеснув руками, Шубин. – Неужели вы, восхитительная Зоя, в такую жару решились идти нас отыскивать? Так ли я должен понять смысл вашей речи? Скажите, неужели? Или нет, лучше не произносите этого слова: раскаяние убьет меня мгновенно.
– Ах, перестаньте, Павел Яковлевич, – возразила не без досады девушка, – отчего вы никогда не говорите со мной серьезно? Я рассержусь, – прибавила она с кокетливой ужимкой и надула губки.
– Вы не рассердитесь на меня, идеальная Зоя Никитишна; вы не захотите повергнуть меня в мрачную бездну исступленного отчаяния. А серьезно я говорить не умею, потому что я не серьезный человек.
Девушка пожала плечом и обратилась к Берсеневу:
– Вот он всегда так: обходится со мной, как с ребенком; а мне уж восемнадцать лет минуло. Я уже большая.
– О Боже! – простонал Шубин и закатил глаза под лоб, а Берсенев усмехнулся молча.
Девушка топнула ножкой.
– Павел Яковлевич! Я рассержусь! Helene пошла было со мною, – продолжала она, – да осталась в саду. Ее жара испугала, но я не боюсь жары. Пойдемте.
Она отправилась вперед по тропинке, слегка раскачивая свой тонкий стан при каждом шаге и откидывая хорошенькою ручкой, одетой в черную митенку, мягкие длинные локоны от лица.
Приятели пошли за нею (Шубин то безмолвно прижимал руки к сердцу, то поднимал их выше головы) и несколько мгновений спустя очутились перед одною из многочисленных дач, окружающих Кунцово. Небольшой деревянный домик с мезонином, выкрашенный розовою краской, стоял посреди сада и как-то наивно выглядывал из-за зелени деревьев. Зоя первая отворила калитку, вбежала в сад и закричала: «Привела скитальцев!» Молодая девушка с бледным и выразительным лицом поднялась со скамейки близ дорожки, а на пороге дома показалась дама в лиловом шелковом платье и, подняв вышитый батистовый платок над головою для защиты от солнца, улыбнулась томно и вяло.
Глава III
Анна Васильевна Стахова, урожденная Шубина, семи лет осталась круглой сиротою и наследницей довольно значительного имения. У нее были родственники очень богатые и очень бедные; бедные по отцу, богатые по матери: сенатор Волгин, князья Чикурасовы. Князь Ардалион Чикурасов, назначенный к ней опекуном, поместил ее в лучший московский пансион, а по выходе ее из пансиона взял ее к себе в дом. Он жил открыто и давал зимой балы. Будущий муж Анны Васильевны, Николай Артемьевич Стахов, завоевал ее на одном из этих балов, где она была в «прелестном розовом платье с куафюрой из маленьких роз». Она берегла эту куафюру… Николай Артемьевич Стахов, сын отставного капитана, раненного в двенадцатом году и получившего доходное место в Петербурге, шестнадцати лет поступил в юнкерскую школу и вышел в гвардию. Он был красив собою, хорошо сложен и считался едва ли не лучшим кавалером на вечеринках средней руки, которые посещал преимущественно: в большой свет ему не было дороги. Смолоду его занимали две мечты: попасть в флигель-адъютанты и выгодно жениться: с первою мечтой он скоро расстался, но тем крепче держался за вторую. Вследствие этого он каждую зиму ездил в Москву. Николай Артемьевич порядочно говорил по-французски и слыл философом, потому что не кутил. Будучи только прапорщиком, он уже любил настойчиво поспорить, например, о том, можно ли человеку в течение всей своей жизни объездить весь земной шар, можно ли ему знать, что происходит на дне морском, – и всегда держался того мнения, что нельзя.
Николаю Артемьевичу минуло двадцать пять лет, когда он «подцепил» Анну Васильевну; он вышел в отставку и поехал в деревню хозяйничать. Деревенское житье ему скоро надоело, имение же было оброчное; он поселился в Москве, в доме жены. В молодости он ни в какие игры не играл, а тут пристрастился к лото, а когда запретили лото, к ералашу. Дома он скучал; сошелся со вдовой немецкого происхождения и проводил у ней почти все время. На лето пятьдесят третьего года он не переехал в Кунцово: он остался в Москве, будто бы для того, чтобы пользоваться минеральными водами; в сущности, ему не хотелось расстаться с своею вдовой. Впрочем, он и с ней разговаривал мало, а также больше спорил о том, можно ли предвидеть погоду и т. д. Раз кто-то назвал его frondeur; это название очень ему понравилось. «Да, – думал он, самодовольно опуская углы губ и покачиваясь, – меня удовлетворить не легко; меня не надуешь». Фрондерство Николая Артемьевича состояло в том, что он услышит, например, слово «нервы» и скажет: «А что такое нервы?» – или кто-нибудь упомянет при нем об успехах астрономии, а он скажет: «А вы верите в астрономию?» Когда же он хотел окончательно сразить противника, он говорил: «Все это одни фразы». Должно сознаться, что многим лицам такого рода возражения казались (и до сих пор кажутся) неопровержимыми; но Николай Артемьевич никак не подозревал того, что Августина Христиановна в письмах к своей кузине, Феодолинде Петерзилиус, называла его: Mein Pinselchen[2]2
Мой дурачок (нем.).
[Закрыть].
Жена Николая Артемьевича, Анна Васильевна, была маленькая и худенькая женщина, с тонкими чертами лица, склонная к волнению и грусти. В пансионе она занималась музыкой и читала романы, потом все это бросила: стала рядиться, и это оставила; занялась было воспитанием дочери, и тут ослабела и передала ее на руки к гувернантке; кончилось тем, что она только и делала что грустила и тихо волновалась. Рождение Елены Николаевны расстроило ее здоровье, и она уже не могла более иметь детей; Николай Артемьевич намекал на это обстоятельство, оправдывая свое знакомство с Августиной Христиановной. Неверность мужа очень огорчала Анну Васильевну; особенно больно ей было то, что он однажды обманом подарил своей немке пару серых лошадей с ее, Анны Васильевны, собственного завода. В глаза она его никогда не упрекала, но украдкой жаловалась на него поочередно всем в доме, даже дочери. Анна Васильевна не любила выезжать; ей было приятно, когда у ней сидел гость и рассказывал что-нибудь; в одиночестве она тотчас занемогала. Сердце у ней было очень любящее и мягкое: жизнь ее скоро перемолола.
Павел Яковлевич Шубин доводился ей троюродным племянником. Отец его служил в Москве. Братья его поступили в кадетские корпуса; он был самый младший, любимец матери, нежного телосложения: он остался дома. Его назначали в университет и с трудом поддерживали в гимназии. С ранних лет начал он оказывать наклонность к ваянию; тяжеловесный сенатор Волгин увидал однажды одну его статуэтку у его тетки (ему было тогда лет шестнадцать) и объявил, что намерен покровительствовать юному таланту. Внезапная смерть отца Шубина чуть было не изменила всей будущности молодого человека. Сенатор, покровитель талантов, подарил ему гипсовый бюст Гомера – и только; но Анна Васильевна помогла ему деньгами, и он, с грехом пополам, девятнадцати лет поступил в университет, на медицинский факультет. Павел не чувствовал никакого расположения к медицине, но, по существовавшему в то время штату студентов, ни в какой другой факультет поступить было невозможно; притом он надеялся поучиться анатомии. Но он не выучился анатомии; на второй курс он не перешел и, не дождавшись экзамена, вышел из университета, с тем чтобы посвятиться исключительно своему призванию. Он трудился усердно, но урывками; скитался по окрестностям Москвы, лепил и рисовал портреты крестьянских девок, сходился с разными лицами, молодыми и старыми, высокого и низкого полета, италиянскими формовщиками и русскими художниками, слышать не хотел об академии и не признавал ни одного профессора. Талантом он обладал положительным: его начали знать по Москве. Мать его, парижанка родом, хорошей фамилии, добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась о нем денно и нощно, гордилась им и, умирая еще в молодых летах от чахотки, упросила Анну Васильевну взять его к себе на руки. Ему тогда уже пошел двадцать первый год. Анна Васильевна исполнила ее последнее желание: он занимал небольшую комнатку во флигеле дачи.
Глава IV
– Пойдемте же кушать, пойдемте, – проговорила жалостным голосом хозяйка, и все отправились в столовую. – Сядьте подле меня, Zoé, – промолвила Анна Васильевна, – а ты, Нélènе, займи гостя, а ты, Paul, пожалуйста, не шали и не дразни Zoé. У меня голова болит сегодня.
Шубин опять возвел глаза к небу; Zoé ответила ему полуулыбкой. Эта Zoé, или, говоря точнее, Зоя Никитишна Мюллер, была миленькая, немного косенькая русская немочка с раздвоенным на конце носиком и красными крошечными губками, белокурая, пухленькая. Она очень недурно пела русские романсы, чистенько разыгрывала на фортепьяно разные то веселенькие, то чувствительные штучки; одевалась со вкусом, но как-то по-детски и уже слишком опрятно. Анна Васильевна взяла ее в компаньонки к своей дочери и почти постоянно держала ее при себе. Елена на это не жаловалась: она решительно не знала, о чем ей говорить с Зоей, когда ей случалось остаться с ней наедине.
Обед продолжался довольно долго; Берсенев разговаривал с Еленой об университетской жизни, о своих намерениях и надеждах; Шубин прислушивался и молчал, ел с преувеличенною жадностию, изредка бросая комически унылые взоры на Зою, которая отвечала ему все тою же флегматической улыбочкой. После обеда Елена с Берсеневым и Шубиным отправились в сад; Зоя посмотрела им вслед и, слегка пожав плечиком, села за фортепьяно. Анна Васильевна проговорила было: «Отчего же вы не идете тоже гулять? – но, не дождавшись ответа, прибавила: – Сыграйте мне что-нибудь такое грустное…»
– «La dernière pensée» de Weber?[3]3
«Последнюю думу» Вебера? (фр.)
[Закрыть] – спросила Зоя.
– Ax да, Вебера, – промолвила Анна Васильевна, опустилась в кресла, и слеза навернулась на ее ресницу.
Между тем Елена повела обоих приятелей в беседку из акаций, с деревянным столиком посередине и скамейками вокруг. Шубин оглянулся, подпрыгнул несколько раз и, промолвив шепотом: «Подождите!», сбегал к себе в комнату, принес кусок глины и начал лепить фигуру Зои, покачивая головой, бормоча и посмеиваясь.
– Опять старые шутки, – произнесла Елена, взглянув на его работу, и обратилась к Берсеневу, с которым продолжала разговор, начатый за обедом.
– Старые шутки, – повторил Шубин. – Предмет-то больно неистощимый! Сегодня особенно она меня из терпения выводит.
– Это почему? – спросила Елена. – Подумаешь, вы говорите о какой-нибудь злой, неприятной старухе. Хорошенькая молоденькая девочка…
– Конечно, – перебил ее Шубин, – она хорошенькая, очень хорошенькая; я уверен, что всякий прохожий, взглянув на нее, непременно должен подумать: вот бы с кем отлично… польку протанцевать; я также уверен, что она это знает и что это ей приятно… К чему же эти стыдливые ужимки, эта скромность? Ну, да вам известно, что я хочу сказать, – прибавил он сквозь зубы. – Впрочем, вы теперь другим заняты.
И, сломив фигуру Зои, Шубин принялся торопливо и словно с досадой лепить и мять глину.
– Итак, вы желали бы быть профессором? – спросила Елена Берсенева.
– Да, – возразил тот, втискивая между колен свои красные руки. – Это моя любимая мечта. Конечно, я очень хорошо знаю все, чего мне недостает для того, чтобы быть достойным такого высокого… Я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен, но я надеюсь получить позволение съездить за границу; пробуду там три-четыре года, если нужно, и тогда…
Он остановился, потупился, потом быстро вскинул глаза и, неловко улыбаясь, поправил волосы. Когда Берсенев говорил с женщиной, речь его становилась еще медлительнее и он еще более пришепетывал.
– Вы хотите быть профессором истории? – спросила Елена.
– Да, или философии, – прибавил он, понизив голос, – если это будет возможно.
– Он уже теперь силен, как черт, в философии, – заметил Шубин, проводя глубокие черты ногтем по глине, – на что ему за границу ездить?
– И вы будете вполне довольны вашим положением? – спросила Елена, подпершись локтем и глядя ему прямо в лицо.
– Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же может быть лучше призвание? Помилуйте, пойти по следам Тимофея Николаевича… Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением, да… смущением, которого… которое происходит от сознания моих малых сил. Покойный батюшка благословил меня на это дело… Я никогда не забуду его последних слов.
– Ваш батюшка скончался нынешнею зимой?
– Да, Елена Николаевна, в феврале.
– Говорят, – продолжала Елена, – он оставил замечательное сочинение в рукописи; правда ли это?
– Да, оставил. Это был чудесный человек. Вы бы полюбили его, Елена Николаевна.
– Я в этом уверена. А какое содержание этого сочинения?
– Содержание этого сочинения, Елена Николаевна, передать вам в немногих словах несколько трудно. Мой отец был человек очень ученый, шеллингианец, он употреблял выражения не всегда ясные…
– Андрей Петрович, – перебила его Елена, – извините мое невежество, что такое значит: шеллингианец?
Берсенев слегка улыбнулся.
– Шеллингианец, это значит последователь Шеллинга, немецкого философа, а в чем состояло учение Шеллинга…
– Андрей Петрович! – воскликнул вдруг Шубин, – ради самого Бога! Уж не хочешь ли ты прочесть Елене Николаевне лекцию о Шеллинге? Пощади!
– Вовсе не лекцию, – пробормотал Берсенев и покраснел, – я хотел…
– А почему ж бы и не лекцию, – подхватила Елена. – Нам с вами лекции очень нужны, Павел Яковлевич.
Шубин уставился на нее и вдруг захохотал.
– Чему же вы смеетесь? – спросила она холодно и почти резко.
Шубин умолк.
– Ну полноте, не сердитесь, – промолвил он спустя немного. – Я виноват. Но в самом деле, что за охота, помилуйте, теперь, в такую погоду, под этими деревьями, толковать о философии? Давайте лучше говорить о соловьях, о розах, о молодых глазах и улыбках.
– Да; и о французских романах, о женских тряпках, – продолжала Елена.
– Пожалуй, и о тряпках, – возразил Шубин, – если они красивы.
– Пожалуй. Но если нам не хочется говорить о тряпках? Вы величаете себя свободным художником, зачем же вы посягаете на свободу других? И позвольте вас спросить, при таком образе мыслей зачем вы нападаете на Зою? С ней особенно удобно говорить о тряпках и о розах.
Шубин вдруг вспыхнул и приподнялся со скамейки.
– А, вот как? – начал он нервным голосом. – Я понимаю ваш намек; вы меня отсылаете к ней, Елена Николаевна. Другими словами, я здесь лишний?
– Я не думала отсылать вас отсюда.
– Вы хотите сказать, – продолжал запальчиво Шубин, – что я не стою другого общества, что я ей под пару, что я так же пуст, и вздорен, и мелок, как эта сладковатая немочка? Не так ли-с?
Елена нахмурила брови.
– Вы не всегда так о ней отзывались, Павел Яковлевич, – заметила она.
– А! упрек! упрек теперь! – воскликнул Шубин. – Ну да, я не скрываю, была минута, именно одна минута, когда эти свежие, пошлые щечки… Но если б я захотел отплатить вам упреком и напомнить вам… Прощайте-с, – прибавил он вдруг, – я готов завраться.
И, ударив рукой по слепленной в виде головы глине, он выбежал из беседки и ушел к себе в комнату.
– Дитя, – проговорила Елена, поглядев ему вслед.
– Художник, – промолвил с тихой улыбкой Берсенев. – Все художники таковы. Надобно им прощать их капризы. Это их право.
– Да, – возразила Елена, – но Павел до сих пор еще ничем не упрочил за собой этого права. Что он сделал до сих пор? Дайте мне руку и пойдемте по аллее. Он помешал нам. Мы говорили о сочинении вашего батюшки.
Берсенев взял руку Елены и пошел за ней по саду, но начатый разговор, слишком рано прерванный, не возобновился; Берсенев снова принялся излагать свои воззрения на профессорское звание, на будущую свою деятельность. Он тихо двигался рядом с Еленой, неловко выступал, неловко поддерживал ее руку, изредка толкал ее плечом и ни разу не взглянул на нее; но речь его текла легко, если не совсем свободно, он выражался просто и верно, и в глазах его, медленно блуждавших по стволам деревьев, по песку дорожки, по траве, светилось тихое умиление благородных чувств, а в успокоенном голосе слышалась радость человека, который сознает, что ему удается высказываться перед другим, дорогим ему человеком. Елена слушала его внимательно и, обернувшись к нему вполовину, не отводила взора от его слегка побледневшего лица, от глаз его, дружелюбных и кротких, хотя избегавших встречи с ее глазами. Душа ее раскрывалась, и что-то нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее сердце, не то вырастало в нем.
Глава V
Шубин не выходил из своей комнаты до самой ночи. Уже совсем стемнело, неполный месяц стоял высоко на небе, Млечный Путь забелел и звезды запестрели, когда Берсенев, простившись с Анной Васильевной, Еленой и Зоей, подошел к двери своего приятеля. Он нашел ее запертою и постучался.
– Кто там? – раздался голос Шубина.
– Я, – отвечал Берсенев.
– Чего тебе?
– Впусти меня, Павел, полно капризничать; как тебе не стыдно?
– Я не капризничаю, я сплю и вижу во сне Зою.
– Перестань, пожалуйста. Ты не ребенок. Впусти меня. Мне нужно с тобою поговорить.
– Ты не наговорился еще с Еленой?
– Полно же, полно; впусти меня!
Шубин отвечал притворным храпеньем. Берсенев пожал плечами и отправился домой.
Ночь была тепла и как-то особенно безмолвна, точно все кругом прислушивалось и караулило; и Берсенев, охваченный неподвижною мглою, невольно останавливался и тоже прислушивался и караулил. Легкий шорох, подобный шелесту женского платья, поднимался по временам в верхушках близких деревьев и возбуждал в Берсеневе ощущение сладкое и жуткое, ощущение полустраха. Мурашки пробегали по его щекам, глаза холодели от мгновенной слезы: ему бы хотелось выступать совсем неслышно, прятаться, красться. Резкий ветерок набежал на него сбоку: он чуть-чуть вздрогнул и замер на месте; сонный жук свалился с ветки и стукнулся о дорогу: Берсенев тихо воскликнул: «А!» – и опять остановился. Но он начал думать о Елене, и все эти мимолетные ощущения исчезли разом: оставалось одно живительное впечатление ночной свежести и ночной прогулки; всю душу его занял образ молодой девушки. Берсенев шел, потупя голову, и припоминал ее слова, ее вопросы. Топот быстрых шагов почудился ему сзади. Он приник ухом: кто-то бежал, кто-то догонял его; послышалось прерывистое дыхание, и вдруг перед ним, из черного круга тени, падавшей от большого дерева, без шапки на растрепанных волосах, весь бледный при свете луны, вынырнул Шубин.
– Я рад, что ты пошел по этой дороге, – с трудом проговорил он, – я бы всю ночь не заснул, если б я не догнал тебя. Дай мне руку. Ведь ты домой идешь?
– Домой.
– Я тебя провожу.
– Да как же ты пойдешь без шапки?
– Ничего. Я и галстух снял. Теперь тепло.
Приятели сделали несколько шагов.
– Не правда ли, я был очень глуп сегодня? – спросил внезапно Шубин.
– Откровенно говоря, да. Я тебя понять не мог. Я тебя таким никогда не видал. И отчего ты рассердился, помилуй! Из-за каких пустяков?
– Гм, – промычал Шубин. – Вот как ты выражаешься, а мне не до пустяков. Видишь ли, – прибавил он, – я должен тебе заметить, что я… что… Думай обо мне, что хочешь… я… ну да! я влюблен в Елену.
– Ты влюблен в Елену! – повторил Берсенев и остановился.
– Да, – с принужденною небрежностию продолжал Шубин. – Это тебя удивляет? Скажу тебе более. До нынешнего вечера я мог надеяться, что и она со временем меня полюбит. Но сегодня я убедился, что мне надеяться нечего. Она полюбила другого.
– Другого? кого же?
– Кого? Тебя! – воскликнул Шубин и ударил Берсенева по плечу.
– Меня!
– Тебя, – повторил Шубин.
Берсенев отступил шаг назад и остался неподвижен. Шубин зорко посмотрел на него.
– И это тебя удивляет? Ты скромный юноша. Но она тебя любит. На этот счет ты можешь быть спокоен.
– Что за вздор ты мелешь! – произнес наконец с досадой Берсенев.
– Нет, не вздор. А впрочем, что же мы стоим? Пойдем вперед. На ходу легче. Я ее давно знаю, и хорошо ее знаю. Я не могу ошибиться. Ты пришелся ей по сердцу. Было время, я ей нравился: но, во-первых, я для нее слишком легкомысленный молодой человек, а ты существо серьезное, ты нравственно и физически опрятная личность, ты… постой, я не кончил, ты добросовестно-умеренный энтузиаст, истый представитель тех жрецов науки, которыми, – нет, не которыми, – коими столь справедливо гордится класс среднего русского дворянства! А во-вторых, Елена на днях застала меня целующим руки у Зои!
– У Зои?
– Да, у Зои. Что прикажешь делать? У нее плечи так хороши.
– Плечи?
– Ну да, плечи, руки, не все ли равно? Елена застала меня посреди этих свободных занятий после обеда, а перед обедом я в ее присутствии бранил Зою. Елена, к сожалению, не понимает всей естественности подобных противоречий. Тут ты подвернулся: ты веришь… во что бишь ты веришь?.. ты краснеешь, смущаешься, толкуешь о Шиллере, о Шеллинге (она же все отыскивает замечательных людей), вот ты и победил, а я, несчастный, стараюсь шутить… и… между тем…
Шубин вдруг заплакал, отошел в сторону, присел на землю и схватил себя за волосы.
Берсенев приблизился к нему.
– Павел, – начал он, – что это за детство? Помилуй! Что с тобою сегодня? Бог знает, какой вздор взбрел тебе в голову, и ты плачешь. Мне, право, кажется, что ты притворяешься.
Шубин поднял голову. Слезы блистали на его щеках в лучах луны, но лицо его улыбалось.
– Андрей Петрович, – заговорил он, – ты можешь думать обо мне, что тебе угодно. Я даже готов согласиться, что у меня теперь истерика, но я, ей-богу, влюблен в Елену, и Елена тебя любит. Впрочем, я обещал проводить тебя до дому и сдержу свое обещание.
Он встал.
– Какая ночь! серебристая, темная, молодая! Как хорошо теперь тем, кого любят! Как им весело не спать! Ты будешь спать, Андрей Петрович?
Берсенев ничего не отвечал и ускорил шаги.
– Куда ты торопишься? – продолжал Шубин. – Поверь моим словам, такой ночи в твоей жизни не повторится, а дома ждет тебя Шеллинг. Правда, он сослужил тебе сегодня службу; но ты все-таки не спеши. Пой, если умеешь, пой еще громче; если не умеешь – сними шляпу, закинь голову и улыбайся звездам. Они все на тебя смотрят, на одного тебя: звезды только и делают, что смотрят на влюбленных людей, – оттого они так прелестны. Ведь ты влюблен, Андрей Петрович?.. Ты не отвечаешь мне… Отчего ты не отвечаешь? – заговорил опять Шубин. – О, если ты чувствуешь себя счастливым, молчи, молчи! Я болтаю, потому что я горемыка, я нелюбимый, я фокусник, артист, фигляр; но какие безмолвные восторги пил бы я в этих ночных струях, под этими звездами, под этими алмазами, если б я знал, что меня любят!.. Берсенев, ты счастлив?
Берсенев по-прежнему молчал и быстро шел по ровной дороге. Впереди, между деревьями, замелькали огни деревеньки, в которой он жил; она вся состояла из десятка небольших дач. При самом ее начале, направо от дороги, под двумя развесистыми березами, находилась мелочная лавочка; окна в ней уже были все заперты, но широкая полоса света падала веером из растворенной двери на притоптанную траву и била вверх по деревьям, резко озаряя беловатую изнанку сплошных листьев. Девушка, с виду горничная, стояла в лавке спиной к порогу и торговалась с хозяином: из-под красного платка, который она накинула себе на голову и придерживала обнаженной рукой у подбородка, едва виднелась ее круглая щечка и тонкая шейка. Молодые люди вступили в полосу света, Шубин глянул во внутренность лавки, остановился и кликнул: «Аннушка!» Девушка живо обернулась. Показалось миловидное, немножко широкое, но свежее лицо с веселыми карими глазами и черными бровями. «Аннушка!» – повторил Шубин. Девушка всмотрелась в него, испугалась, застыдилась и, не кончив покупки, спустилась с крылечка, проворно скользнула мимо и, чуть-чуть озираясь, пошла через дорогу, налево. Лавочник, человек пухлый и равнодушный ко всему на свете, как все загородные молочные торговцы, крякнул и зевнул ей вслед, а Шубин обратился к Берсеневу со словами: «Это… это, вот видишь… тут есть у меня знакомое семейство… так это у них… ты не подумай…» – и, не докончив речи, побежал за уходившею девушкой.
– Утри по крайней мере свои слезы, – крикнул ему Берсенев и не мог удержаться от смеха. Но когда он вернулся домой, на лице его не было веселого выражения; он не смеялся более. Он ни на одно мгновение не поверил тому, что сказал ему Шубин, но слово, им произнесенное, запало глубоко ему в душу. «Павел меня дурачил, – думал он, – но она когда-нибудь полюбит… Кого полюбит она?» У Берсенева в комнате стояло фортепьяно, небольшое и не новое, но с мягким и приятным, хоть и не совсем чистым тоном. Берсенев присел к нему и начал брать аккорды. Как все русские дворяне, он в молодости учился музыке, и, как почти все русские дворяне, играл очень плохо; но он страстно любил музыку. Собственно говоря, он любил в ней не искусство, не формы, в которых она выражается (симфонии и сонаты, даже оперы наводили на него уныние), а ее стихию: любил те смутные и сладкие, беспредметные и всеобъемлющие ощущения, которые возбуждаются в душе сочетанием и переливами звуков. Более часа не отходил он от фортепьяно, много раз повторяя одни и те же аккорды, неловко отыскивая новые, останавливаясь и замирая на уменьшенных септимах. Сердце в нем ныло, и глаза не однажды наполнялись слезами. Он не стыдился их: он проливал их в темноте. «Прав Павел, – думал он, – я предчувствую: этот вечер не повторится». Наконец он встал, зажег свечку, накинул халат, достал с полки второй том «Истории Гогенштауфенов» Payмера – и, вздохнув раза два, прилежно занялся чтением.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































