Текст книги "Накануне. Записки охотника (сборник)"
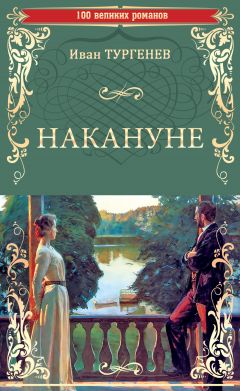
Автор книги: Иван Тургенев
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 34 страниц)
– Бабки длинны.
– Что за длинны – помилосердуйте! Пробеги-ка, Петя, пробеги, да рысью, рысью, рысью… не давай скакать.
Петя опять пробежал по двору с Горностаем. Мы все помолчали.
– Ну, поставь его на место, – проговорил Ситников, – да Сокола нам подай.
Сокол, вороной, как жук, жеребец голландской породы, со свислым задом и поджарый, оказался немного получше Горностая. Он принадлежал к числу лошадей, о которых говорят охотники, что «они секут и рубят, и в полон берут», то есть на ходу вывертывают и выкидывают передними ногами направо и налево, а вперед мало подвигаются. Купцы средних лет подлюбливают таких лошадей: побежка их напоминает ухарскую походку бойкого полового; они хороши в одиночку, для гулянья после обеда: выступая фертом и скрутив шею, усердно везут они аляповатые дрожки, нагруженные наевшимся до онеменья кучером, придавленным купцом, страдающим изжогой, и рыхлой купчихой в голубом шелковом салопе и лиловом платочке на голове. Я отказался и от Сокола. Ситников показал мне еще несколько лошадей… Одна наконец, серый в яблоках жеребец воейковской породы, мне понравилась. Я не мог удержаться и с удовольствием потрепал ее по холке. Ситников тотчас прикинулся равнодушным.
– А что, он едет хорошо? – спросил я. (О рысаке не говорят: бежит.)
– Едет, – спокойно ответил барышник.
– Нельзя ли посмотреть?..
– Отчего же, можно-с. Эй, Кузя, Догоняя в дрожки заложить.
Кузя, наездник, мастер своего дела, проехал раза три мимо нас по улице. Хорошо бежит лошадь, не сбивается, задом не подбрасывает, ногу выносит свободно, хвост отделяет и «держит», редкомах.
– А что вы за него просите?
Ситников заломил цену небывалую. Мы начали торговаться тут же на улице, как вдруг из-за угла с громом вылетела мастерски подобранная ямская тройка и лихо остановилась перед воротами Ситникова дома. На охотницкой, щегольской тележке сидел князь Н.; возле него торчал Хлопаков. Баклага правил лошадьми… и как правил! сквозь сережку бы проехал, разбойник! Гнедые пристяжные, маленькие, живые, черноглазые, черноногие, так и горят, так и поджимаются; свистни только – пропали! Караковая коренная стоит себе, закинув шею, словно лебедь, грудь вперед, ноги как стрелы, знай головой помахивает да гордо щурится… Хорошо! Хоть бы царю Ивану Васильевичу в светлый праздник прокатиться!
– Ваше сиятельство! милости просим! – закричал Ситников.
Князь соскочил с телеги. Хлопаков медленно слез с другой стороны.
– Здравствуй, брат… Есть лошади?
– Как не быть для вашего сиятельства! Пожалуйте, войдите… Петя, Павлина подай! да Похвального чтоб готовили. А с вами, батюшка, – продолжал он, обращаясь ко мне, – мы в другое время покончим… Фомка, лавку его сиятельству.
Из особенной, мною сперва не замеченной, конюшни вывели Павлина. Могучий, темно-гнедой конь так и взвился всеми ногами на воздух. Ситников даже голову отвернул и зажмурился.
– У, рракалион! – провозгласил Хлопаков. – Жэмса.
Князь засмеялся.
Павлина остановили не без труда; он таки повозил конюха по двору; наконец его прижали к стене. Он храпел, вздрагивал и поджимался, а Ситников еще дразнил его, замахиваясь на него кнутом.
– Куда глядишь? вот я те! у! – говорил барышник с ласковой угрозой, сам невольно любуясь своим конем.
– Сколько? – спросил князь.
– Для вашего сиятельства пять тысяч.
– Три.
– Нельзя-с, ваше сиятельство, помилуйте…
– Говорят, три, рракалион, – подхватил Хлопаков.
Я не дождался конца сделки и ушел. У крайнего угла улицы заметил я на воротах сероватого домика приклеенный большой лист бумаги. Наверху был нарисован пером конь с хвостом в виде трубы и нескончаемой шеей, а под копытами коня стояли следующие слова, написанные старинным почерком:
«Здесь продаются разных мастей лошади, приведенные на Лебедянскую ярмарку с известного степного завода Анастасея Иваныча Чернобая, тамбовского помещика. Лошади сии отличных статей: выезжены в совершенстве и кроткого нрава. Господа покупатели благоволят спросить самого Анастасея Иваныча; буде же Анастасей Иваныч в отсутствии, то спросить кучера Назара Кубышкина. Господа покупатели, милости просим почтить старичка!»
Я остановился. Дай, думаю, посмотрю лошадей известного степного заводчика г-на Чернобая.
Я хотел было войти в калитку, но, против обыкновения, нашел ее запертой. Я постучался.
– Кто там?.. Покупатель? – пропищал женский голос.
– Покупатель.
– Сейчас, батюшка, сейчас.
Калитка растворилась. Я увидал бабу лет пятидесяти, простоволосую, в сапогах и в тулупе нараспашку.
– Извольте, кормилец, войти, а я сейчас пойду Анастасею Иванычу доложу… Назар, а Назар!
– Чего? – прошамшил из конюшни голос семидесятилетнего старца.
– Лошадок приготовь; покупатель пришел.
Старуха побежала в дом.
– Покупатель, покупатель, – проворчал ей в ответ Назар. – Я им еще не всем хвосты подмыл.
«О, Аркадия!» – подумал я.
– Здравствуй, батюшка, милости просим, – медленно раздался за моей спиной сочный и приятный голос. Я оглянулся: передо мною, в синей долгополой шинели, стоял старик среднего роста, с белыми волосами, любезной улыбкой и с прекрасными голубыми глазами.
– Лошадок тебе? Изволь, батюшка, изволь… Да не хочешь ли ко мне сперва чайку зайти напиться?
Я отказался и поблагодарил.
– Ну, как тебе угодно. Ты меня, батюшка, извини: ведь я по старине. (Г-н Чернобай говорил не спеша и на о.) У меня все по простоте, знаешь… Назар, а Назар, – прибавил он протяжно и не возвышая голоса.
Назар, сморщенный старичишка, с ястребиным носиком и клиновидной бородкой, показался на пороге конюшни.
– Каких тебе, батюшка, лошадей требуется? – продолжал г-н Чернобай.
– Не слишком дорогих, езжалых, в кибитку.
– Изволь… и такие есть, изволь… Назар, Назар, покажи барину серенького меренка, знаешь, что с краю-то стоит, да гнедую с лысиной, а не то – другую гнедую, что от Красотки, знаешь?
Назар вернулся в конюшню.
– Да ты на недоуздках так их и выведи! – закричал ему вслед г-н Чернобай. – У меня, батюшка, – продолжал он, ясно и кротко глядя мне в лицо, – не то, что у барышников, чтоб им пусто было! у них там имбири разные пойдут, соль, барда[88]88
От барды и соли лошадь скоро тучнеет. – Примеч. автора.
[Закрыть], бог с ними совсем!.. А у меня, изволишь видеть, все на ладони, без хитростей.
Вывели лошадей. Не понравились они мне.
– Ну, поставь их с богом на место, – проговорил Анастасей Иваныч. – Других нам покажи.
Показали других. Я наконец выбрал одну, подешевле. Начали мы торговаться. Г-н Чернобай не горячился, говорил так рассудительно, с такою важностью призывал господа бога во свидетели, что я не мог не «почтить старичка»: дал задаток.
– Ну, теперь, – промолвил Анастасей Иваныч, – позволь мне, по старому обычаю, тебе лошадку из полы в полу передать… Будешь за нее меня благодарить… ведь свеженькая! словно орешек… нетронутая… степнячо-ок! Во всякую упряжь ходит.
Он перекрестился, положил полу своей шинели себе на руку, взял недоуздок и передал мне лошадь.
– Владей с богом теперь… А чайку все не хочешь?
– Нет, покорно вас благодарю: мне домой пора.
– Как угодно… А мой кучерок теперь за тобой лошадку поведет?
– Да, теперь, если позволите.
– Изволь, голубчик, изволь… Василий, а Василий, ступай с барином; лошадку сведи и деньги получи. Ну, прощай, батюшка, с богом.
– Прощайте, Анастасей Иваныч.
Привели мне лошадь на дом. На другой же день она оказалась запаленной и хромой. Вздумал я было ее заложить: пятится моя лошадь назад, а ударишь ее кнутом – заартачится, побрыкает, да и ляжет. Я тотчас отправился к г-ну Чернобаю. Спрашиваю:
– Дома?
– Дома.
– Что ж это вы, – говорю, – ведь вы мне запаленную лошадь продали.
– Запаленную?.. Сохрани бог!
– Да она еще и хромая, притом и с норовом.
– Хромая? Не знаю, видно, твой кучерок ее как-нибудь попортил… а я, как перед богом…
– Вы, по-настоящему, Анастасей Иваныч, ее назад взять должны.
– Нет, батюшка, не прогневайся: уж коли со двора долой – кончено. Прежде бы изволил смотреть.
Я понял, в чем дело, покорился своей участи, рассмеялся и ушел. К счастью, я за урок не слишком дорого заплатил.
Дня через два я уехал, а через неделю опять завернул в Лебедянь на возвратном пути. В кофейной я нашел почти те же лица и опять застал князя Н. за биллиардом. Но в судьбе господина Хлопакова уже успела произойти обычная перемена. Белокурый офицерик сменил его в милостях князя. Бедный отставной поручик попытался еще раз при мне пустить в ход свое словечко – авось, дескать, понравится по-прежнему, – но князь не только не улыбнулся, даже нахмурился и пожал плечом. Господин Хлопаков потупился, съежился, пробрался в уголок и начал втихомолку набивать себе трубочку…
Татьяна Борисовна и ее племянник
Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной. Погода прекрасная; кротко синеет майское небо; гладкие молодые листья ракит блестят, словно вымытые; широкая, ровная дорога вся покрыта той мелкой травой с красноватым стебельком, которую так охотно щиплют овцы; направо и налево, по длинным скатам пологих холмов, тихо зыблется зеленая рожь; жидкими пятнами скользят по ней тени небольших тучек. В отдаленье темнеют леса, сверкают пруды, желтеют деревни; жаворонки сотнями поднимаются, поют, падают стремглав, вытянув шейки торчат на глыбочках; грачи на дороге останавливаются, глядят на вас, приникают к земле, дают вам проехать и, подпрыгнув раза два, тяжко отлетают в сторону; на горе, за оврагом, мужик пашет; пегий жеребенок, с куцым хвостиком и взъерошенной гривкой, бежит на неверных ножках вслед за матерью: слышится его тонкое ржанье. Мы въезжаем в березовую рощу; крепкий, свежий запах приятно стесняет дыхание. Вот околица. Кучер слезает, лошади фыркают, пристяжные оглядываются, коренная помахивает хвостом и прислоняет голову к дуге… со скрипом отворяется воротище. Кучер садится… Трогай! перед нами деревня. Миновав дворов пять, мы сворачиваем вправо, спускаемся в лощинку, въезжаем на плотину. За небольшим прудом, из-за круглых вершин яблонь и сиреней, виднеется тесовая крыша, некогда красная, с двумя трубами; кучер берет вдоль забора налево и при визгливом и сиплом лае трех престарелых шавок въезжает в настежь раскрытые ворота, лихо мчится кругом по широкому двору мимо конюшни и сарая, молодецки кланяется старухе ключнице, шагнувшей боком через высокий порог в раскрытую дверь кладовой, и останавливается наконец перед крылечком темного домика с светлыми окнами… Мы у Татьяны Борисовны. Да вот и она сама отворяет форточку и кивает нам головой… Здравствуйте, матушка!
Татьяна Борисовна – женщина лет пятидесяти, с большими серыми глазами навыкате, несколько тупым носом, румяными щеками и двойным подбородком. Лицо ее дышит приветом и лаской. Она когда-то была замужем, но скоро овдовела. Татьяна Борисовна весьма замечательная женщина. Живет она безвыездно в своем маленьком поместье, с соседями мало знается, принимает и любит одних молодых людей. Родилась она от весьма бедных помещиков и не получила никакого воспитания, то есть не говорит по-французски; в Москве даже никогда не бывала – и, несмотря на все эти недостатки, так просто и хорошо себя держит, так свободно чувствует и мыслит, так мало заражена обыкновенными недугами мелкопоместной барыни, что поистине невозможно ей не удивляться… И в самом деле: женщина круглый год живет в деревне, в глуши – и не сплетничает, не пищит, не приседает, не волнуется, не давится, не дрожит от любопытства… чудеса! Ходит она обыкновенно в сером тафтяном платье и белом чепце с висячими лиловыми лентами; любит покушать, но без излишества; варенье, сушенье и соленье предоставляет ключнице. Чем же она занимается целый день? – спросите вы… Читает? – Нет, не читает; да и правду сказать, книги не для нее печатаются… Если нет у ней гостя, сидит себе моя Татьяна Борисовна под окном и чулок вяжет – зимой; летом в сад ходит, цветы сажает и поливает, с котятами играет по целым часам, голубей кормит… Хозяйством она мало занимается. Но если заедет к ней гость, молодой какой-нибудь сосед, которого она жалует, – Татьяна Борисовна вся оживится; усадит его, напоит чаем, слушает его рассказы, смеется, изредка его по щеке потреплет, но сама говорит мало; в беде, в горе утешит, добрый совет подаст. Сколько людей поверили ей свои домашние, задушевные тайны, плакали у ней на руках! Бывало, сядет она против гостя, обопрется тихонько на локоть и с таким участием смотрит ему в глаза, так дружелюбно улыбается, что гостю невольно в голову придет мысль: «Какая же ты славная женщина, Татьяна Борисовна! Дай-ка я тебе расскажу, что у меня на сердце». В ее небольших, уютных комнатках хорошо, тепло человеку; у ней всегда в доме прекрасная погода, если можно так выразиться. Удивительная женщина Татьяна Борисовна, а никто ей не удивляется: ее здравый смысл, твердость и свобода, горячее участие в чужих бедах и радостях, словом, все ее достоинства точно родились с ней, никаких трудов и хлопот ей не стоили… Ее иначе и вообразить невозможно; стало быть, и не за что ее благодарить. Особенно любит она глядеть на игры и шалости молодежи; сложит руки под грудью, закинет голову, прищурит глаза и сидит, улыбаясь, да вдруг вздохнет и скажет: «Ах вы, детки мои, детки!..» Так, бывало, и хочется подойти к ней, взять ее за руку и сказать: «Послушайте, Татьяна Борисовна, вы себе цены не знаете, ведь вы, при всей вашей простоте и неучености, – необыкновенное существо!» Одно имя ее звучит чем-то знакомым, приветным, охотно произносится, возбуждает дружелюбную улыбку. Сколько раз мне, например, случалось спросить у встречного мужика: как, братец, проехать, положим, в Грачовку? «А вы, батюшка, ступайте сперва на Вязовое, а оттоле на Татьяну Борисовну, а от Татьяны Борисовны всяк вам укажет». И при имени Татьяны Борисовны мужик как-то особенно головой тряхнет. Прислугу она держит небольшую, по состоянью. Домом, прачешной, кладовой и кухней заведывает у нее ключница Агафья, бывшая ее няня, добрейшее, слезливое и беззубое существо; две здоровые девки, с крепкими сизыми щеками, вроде антоновских яблок, состоят под ее начальством. Должность камердинера, дворецкого и буфетчика занимает семидесятилетний слуга Поликарп, чудак необыкновенный, человек начитанный, отставной скрипач и поклонник Виотти, личный враг Наполеона, или, как он говорит, Бонапартишки, и страстный охотник до соловьев. Он их всегда держит пять или шесть у себя в комнате; ранней весной по целым дням сидит возле клеток, выжидая первого «рокотанья», и, дождавшись, закроет лицо руками и застонет: «Ох, жалко, жалко!» – и в три ручья зарыдает. К Поликарпу на подмогу приставлен его же внук, Вася, мальчик лет двенадцати, кудрявый и быстроглазый; Поликарп любит его без памяти и ворчит на него с утра до вечера. Он же занимается и его воспитанием. «Вася, говорит, скажи: Бонапартишка разбойник». – «А что дашь, тятя?» – «Что дам?.. ничего я тебе не дам… Ведь ты кто? Русский ты?» – «Я амчанин, тятя: в Амченске[89]89
В простонародье город Мценск называется Амченском, а жители – амчанами. Амчане ребята бойкие; недаром у нас недругу сулят «амчанина на двор». – Примеч. автора.
[Закрыть] родился». – «О, глупая голова! да Амченск-то где?» – «А я почем знаю?» – «В России Амченск, глупый». – «Так что ж что в России?» – «Как что? Бонапартишку-то его светлейшество покойный князь Михайло Илларионович Голенищев-Кутузов Смоленский, с божиею помощью, из российских пределов выгнать изволил. По эвтому случаю и песня сочинена: Бонапарту не до пляски, растерял свои подвязки… Понимаешь: отечество освободил твое». – «А мне что за дело?» – «Ах ты, глупый мальчик, глупый! Ведь если бы светлейший князь Михайло Илларионович не выгнал Бонапартишки, ведь тебя бы теперь какой-нибудь мусье палкой по маковке колотил. Подошел бы этак к тебе, сказал бы: коман ву порте ву?[90]90
Как вы поживаете? (фр.)
[Закрыть] – да и стук, стук». – «А я бы его в пузо кулаком». – «А он бы тебе: бонжур, бонжур, вене иси[91]91
Здравствуйте, здравствуйте, идите сюда (фр.).
[Закрыть], – да за хохол, за хохол». – «А я бы его по ногам, по ногам, по цыбулястым-то». – «Оно точно, ноги у них цыбулястые… Ну, а как он бы руки тебе стал вязать?» – «А я бы не дался; Михея кучера на помощь бы позвал». – «А что, Вася, ведь французу с Михеем не сладить?» – «Где сладить? Михей-то во как здоров!» – «Ну, и что ж бы вы его?» – «Мы бы его по спине, да по спине». – «А он бы пардон закричал: пардон, пардон, севуплей!» – «А мы бы ему: нет тебе севуплея, француз ты этакой!..» – «Молодец, Вася!.. Ну, так кричи же: “Разбойник Бонапартишка!” – “А ты мне сахару дай!”» – «Экой!..»
С помещицами Татьяна Борисовна мало водится; они неохотно к ней ездят, и она не умеет их занимать, засыпает под шумок их речей, вздрагивает, силится раскрыть глаза и снова засыпает. Татьяна Борисовна вообще не любит женщин. У одного из ее приятелей, хорошего и смирного молодого человека, была сестра, старая девица лет тридцати восьми с половиной, существо добрейшее, но исковерканное, натянутое и восторженное. Брат ей часто рассказывал о своей соседке. В одно прекрасное утро моя старая девица, не говоря худого слова, велела оседлать себе лошадь и отправилась к Татьяне Борисовне. В длинном своем платье, со шляпой на голове, зеленым вуалем и распущенными кудрями, вошла она в переднюю и, минуя оторопелого Васю, принявшего ее за русалку, вбежала в гостиную. Татьяна Борисовна испугалась, хотела было приподняться, да ноги подкосились. «Татьяна Борисовна, – заговорила умоляющим голосом гостья, – извините мою смелость; я сестра вашего приятеля, Алексея Николаевича К ***, и столько наслышалась от него об вас, что решилась познакомиться с вами». – «Много чести», – пробормотала изумленная хозяйка. Гостья сбросила с себя шляпу, тряхнула кудрями, уселась подле Татьяны Борисовны, взяла ее за руку… «Итак, вот она, – начала она голосом задумчивым и тронутым, – вот это доброе, ясное, благородное, святое существо! Вот она, эта простая и вместе с тем глубокая женщина! Как я рада, как я рада! Как мы будем любить друг друга! Я отдохну наконец… Я ее себе именно такою воображала», – прибавила она шепотом, упираясь глазами в глаза Татьяны Борисовны. «Не правда ли, вы не сердитесь на меня, добрая моя, хорошая моя?» – «Помилуйте, я очень рада… Не хотите ли вы чаю?» Гостья снисходительно улыбнулась: «Wie wahr, wie unreflectirt»[92]92
Как правдива, как непосредственна (нем.).
[Закрыть], – прошептала она словно про себя. – «Позвольте обнять вас, моя милая!»
Старая девица высидела у Татьяны Борисовны три часа, не умолкая ни на мгновенье. Она старалась растолковать новой своей знакомой собственное ее значенье. Тотчас после ухода нежданной гостьи бедная помещица отправилась в баню, напилась липового чаю и легла в постель. Но на другой же день старая девица вернулась, просидела четыре часа и удалилась с обещаньем посещать Татьяну Борисовну ежедневно. Она, изволите видеть, вздумала окончательно развить, довоспитать такую, как она выражалась, богатую природу и, вероятно, уходила бы ее наконец совершенно, если бы, во-первых, недели через две не разочаровалась «вполне» насчет приятельницы своего брата, а во-вторых, если бы не влюбилась в молодого проезжего студента, с которым тотчас же вступила в деятельную и жаркую переписку; в посланиях своих она, как водится, благословляла его на святую и прекрасную жизнь, приносила «всю себя» в жертву, требовала одного имени сестры, вдавалась в описания природы, упоминала о Гёте, Шиллере, Беттине и немецкой философии – и довела наконец бедного юношу до мрачного отчаяния. Но молодость взяла свое: в одно прекрасное утро проснулся он с такой остервенелой ненавистью к своей «сестре и лучшему другу», что едва, сгоряча, не прибил своего камердинера и долгое время чуть не кусался при малейшем намеке на возвышенную и бескорыстную любовь… Но с тех пор Татьяна Борисовна стала еще более прежнего избегать сближения с своими соседками.
Увы! ничто не прочно на земле. Все, что я вам рассказал о житье-бытье моей доброй помещицы, – дело прошедшее; тишина, господствовавшая в ее доме, нарушена навеки. У ней теперь, вот уж более года, живет племянник, художник из Петербурга. Вот как это случилось.
Лет восемь тому назад проживал у Татьяны Борисовны мальчик лет двенадцати, круглый сирота, сын ее покойного брата, Андрюша. У Андрюши были большие светлые, влажные глаза, маленький ротик, правильный нос и прекрасный возвышенный лоб. Он говорил тихим и сладким голосом, держал себя опрятно и чинно, ласкался и прислуживался к гостям, с сиротливой чувствительностию целовал ручку у тетушки. Бывало, не успеете вы показаться – глядь, уж он несет вам кресла. Шалостей за ним не водилось никаких: не стукнет, бывало; сидит себе в уголку за книжечкой, и так скромно и смирно, даже к спинке стула не прислоняется. Гость войдет – мой Андрюша приподнимется, прилично улыбнется и покраснеет; гость выйдет – он сядет опять, достанет из кармашика щеточку с зеркальцем и волосики себе причешет. С самых ранних лет почувствовал он охоту к рисованью. Попадался ли ему клочок бумаги, он тотчас выпрашивал у Агафьи ключницы ножницы, тщательно выкраивал из бумажки правильный четвероугольник, проводил кругом каемочку и принимался за работу: нарисует глаз с огромным зрачком, или греческий нос, или дом с трубой и дымом в виде винта, собаку «en face», похожую на скамью, деревцо с двумя голубками и подпишет: «Рисовал Андрей Беловзоров, такого-то числа, такого-то года, село Малые Брыки». С особенным усердием трудился он недели за две до именин Татьяны Борисовны: являлся первый с поздравлением и подносил свиток, повязанный розовой ленточкой. Татьяна Борисовна целовала племянника в лоб и распутывала узелок: свиток раскрывался и представлял любопытному взору зрителя круглый, бойко оттушеванный храм с колоннами и алтарем посередине; на алтаре пылало сердце и лежал венок, а вверху, на извилистой бандероле, четкими буквами стояло: «Тетушке и благодетельнице Татьяне Борисовне Богдановой от почтительного и любящего племянника, в знак глубочайшей привязанности». Татьяна Борисовна снова его целовала и дарила ему целковый. Большой, однако, привязанности она к нему не чувствовала: подобострастие Андрюши ей не совсем нравилось. Между тем Андрюша подрастал; Татьяна Борисовна начинала беспокоиться о его будущности. Неожиданный случай вывел ее из затруднения…
А именно: однажды, лет восемь тому назад, заехал к ней некто г-н Беневоленский, Петр Михайлыч, коллежский советник и кавалер. Г-н Беневоленский некогда состоял на службе в ближайшем уездном городе и прилежно посещал Татьяну Борисовну; потом переехал в Петербург, вступил в министерство, достиг довольно важного места и в одну из частых своих поездок по казенной надобности вспомнил о своей старинной знакомой и завернул к ней с намерением отдохнуть дня два от забот служебных «на лоне сельской тишины». Татьяна Борисовна приняла его с обыкновенным своим радушием, и г. Беневоленский… Но прежде чем мы приступим к продолжению рассказа, позвольте, любезный читатель, познакомить вас с этим новым лицом.
Г-н Беневоленский был человек толстоватый, среднего роста, мягкий на вид, с коротенькими ножками и пухленькими ручками; носил он просторный и чрезвычайно опрятный фрак, высокий и широкий галстух, белое, как снег, белье, золотую цепочку на шелковом жилете, перстень с камнем на указательном пальце и белокурый парик; говорил убедительно и кротко, выступал без шума, приятно улыбался, приятно поводил глазами, приятно погружал подбородок в галстух: вообще приятный был человек. Сердцем его тоже господь наделил добрейшим: плакал он и восторгался легко; сверх того, пылал бескорыстной страстью к искусству, и уж подлинно бескорыстной, потому что именно в искусстве г. Беневоленский, коли правду сказать, решительно ничего не смыслил. Даже удивительно, откуда, в силу каких таинственных и непонятных законов взялась у него эта страсть? Кажется, человек он был положительный, даже дюжинный… впрочем, у нас на Руси таких людей довольно много.
Любовь к художеству и художникам придает этим людям приторность неизъяснимую; знаться с ними, с ними разговаривать – мучительно: настоящие дубины, вымазанные медом. Они, например, никогда не называют Рафаэля – Рафаэлем, Корреджио – Корреджием: «Божественный Санцио, неподражаемый де Аллегрис», – говорят они, и говорят непременно на о. Всякий доморощенный, самолюбивый, перехитренный и посредственный талант величают они гением, или, правильнее, «хэнием»; синее небо Италии, южный лимон, душистые пары берегов Бренты не сходят у них с языка. «Эх, Ваня, Ваня», или: «Эх, Саша, Саша, – с чувством говорят они друг другу, – на юг бы нам, на юг… ведь мы с тобою греки душою, древние греки!» Наблюдать их можно на выставках, перед иными произведениями иных российских живописцев. (Должно заметить, что по большей части все эти господа патриоты страшные.) То отступят они шага на два и закинут голову, то снова придвинутся к картине; глазки их покрываются масленистою влагой… «Фу ты, боже мой, – говорят они наконец разбитым от волнения голосом, – души-то, души-то что! эка, сердца-то, сердца! эка души-то напустил! тьма души!.. А задумано-то как! мастерски задумано!» А что у них самих в гостиных за картины! Что за художники ходят к ним по вечерам, пьют у них чай, слушают их разговоры! Какие они им подносят перспективные виды собственных комнат с щеткой на правом плане, грядкой copy на вылощенном полу, желтым самоваром на столе возле окна и самим хозяином, в халате и ермолке, с ярким бликом света на щеке! Что за длинноволосые питомцы муз с лихорадочно-презрительной улыбкой их посещают! Что за бледно-зеленые барышни взвизгивают у них за фортепьянами! Ибо у нас уже так на Руси заведено: одному искусству человек предаваться не может, – подавай ему все. И потому нисколько не удивительно, что эти господа любители также оказывают сильное покровительство русской литературе, особенно драматической… «Джакобы Саназары» писаны для них: тысячи раз изображенная борьба непризнанного таланта с людьми, с целым миром потрясает их до дна души…
На другой же день после приезда г-н Беневоленского Татьяна Борисовна, за чаем, велела племяннику показать гостю свои рисунки. «А он у вас рисует?» – не без удивления произнес г. Беневоленский и с участием обратился к Андрюше. «Как же, рисует, – сказала Татьяна Борисовна. – Такой охотник! и ведь один, без учителя». – «Ах, покажите, покажите», – подхватил г. Беневоленский. Андрюша, краснея и улыбаясь, поднес гостю свою тетрадку. Г-н Беневоленский начал, с видом знатока, ее перелистывать. «Хорошо, молодой человек, – промолвил он наконец, – хорошо, очень хорошо». И он погладил Андрюшу по головке. Андрюша на лету поцеловал его руку. «Скажите, какой талант!.. Поздравляю вас, Татьяна Борисовна, поздравляю». – «Да что, Петр Михайлыч, здесь учителя не могу ему сыскать. Из города – дорого; у соседей у Артамоновых есть живописец, и, говорят, отличный, да барыня ему запрещает чужим людям уроки давать. Говорит, вкус себе испортит». – «Гм, – произнес г-н Беневоленский, задумался и поглядел исподлобья на Андрюшу. – Ну, мы об этом потолкуем», – прибавил он вдруг и потер себе руки. В тот же день он попросил у Татьяны Борисовны позволения поговорить с ней наедине. Они заперлись. Через полчаса кликнули Андрюшу. Андрюша вошел. Г-н Беневоленский стоял у окна с легкой краской на лице и сияющими глазами. Татьяна Борисовна сидела в углу и утирала слезы. «Ну, Андрюша, – заговорила она наконец, – благодари Петра Михайлыча: он берет тебя на свое попечение, увозит тебя в Петербург». Андрюша так и замер на месте. «Вы мне скажите откровенно, – начал г-н Беневоленский голосом, исполненным достоинства и снисходительности, – желаете ли вы быть художником, молодой человек, чувствуете ли вы священное призвание к искусству?» – «Я желаю быть художником, Петр Михайлыч», – трепетно подтвердил Андрюша. «В таком случае я очень рад. Вам, конечно, – продолжал г-н Беневоленский, – тяжко будет расстаться с вашей почтенной тетушкой; вы должны чувствовать к ней живейшую благодарность». – «Я обожаю мою тетушку», – прервал его Андрюша и заморгал глазами. «Конечно, конечно, это весьма понятно и делает вам много чести; но зато, вообразите, какую радость со временем… ваши успехи…» – «Обними меня, Андрюша», – пробормотала добрая помещица, Андрюша бросился ей на шею. «Ну а теперь поблагодари своего благодетеля…» Андрюша обнял живот г-н Беневоленского, поднялся на цыпочки и достал-таки его руку, которую благодетель, правда, принимал, но не слишком спешил принять… Надо ж потешить, удовлетворить ребенка, ну и себя можно побаловать. Дня через два г. Беневоленский уехал и увез своего нового питомца.
В течение первых трех лет разлуки Андрюша писал довольно часто, прилагал иногда к письмам рисунки. Г-н Беневоленский изредка прибавлял также несколько слов от себя, большей частью одобрительных; потом письма реже стали, реже, наконец совсем прекратились. Целый год безмолвствовал племянник; Татьяна Борисовна начинала уже беспокоиться, как вдруг получила записочку следующего содержания:
«Любезная тетушка!
Четвертого дня Петра Михайловича, моего покровителя, не стало. Жестокий удар паралича лишил меня сей последней опоры. Конечно, мне уже теперь двадцатый год пошел; в течение семи лет я сделал значительные успехи; я сильно надеюсь на свой талант и могу посредством его жить; я не унываю, но все-таки, если можете, пришлите мне, на первый случай, двести пятьдесят рублей ассигнациями. Целую ваши ручки и остаюсь» и т. д.
Татьяна Борисовна отправила к племяннику двести пятьдесят рублей. Через два месяца он потребовал еще; она собрала последнее и выслала еще. Не прошло шести недель после вторичной присылки, он попросил в третий раз, будто на краски для портрета, заказанного ему княгиней Тертерешеневой. Татьяна Борисовна отказала. «В таком случае, – написал он ей, – я намерен приехать к вам в деревню для поправления моего здоровья». И действительно, в мае месяце того же года Андрюша вернулся в Малые Брыки.
Татьяна Борисовна сначала его не узнала. По письму его она ждала человека болезненного и худого, а увидела малого плечистого, толстого, с лицом широким и красным, с курчавыми и жирными волосами. Тоненький и бледненький Андрюша превратился в дюжего Андрея Иванова Беловзорова. Не одна наружность в нем изменилась. Щепетильную застенчивость, осторожность и опрятность прежних лет заменило небрежное молодечество, неряшество нестерпимое; он на ходу качался вправо и влево, бросался в кресла, обрушался на стол, разваливался, зевал во все горло; с теткой, с людьми обращался дерзко. Я, дескать, художник, вольный казак! Знай наших! Бывало, по целым дням кисти в руки не берет; найдет на него так называемое вдохновенье – ломается, словно с похмелья, тяжело, неловко, шумно; грубой краской разгорятся щеки, глаза посоловеют; пустится толковать о своем таланте, о своих успехах, о том, как он развивается, идет вперед… На деле же оказалось, что способностей его чуть-чуть хватало на сносные портретики. Невежда он был круглый, ничего не читал, да и на что художнику читать? Природа, свобода, поэзия – вот его стихии. Знай потряхивай кудрями, да заливайся соловьем, да затягивайся Жуковым взасос! Хороша русская удаль, да не многим она к лицу; а бездарные Полежаевы второй руки невыносимы. Зажился наш Андрей Иваныч у тетушки: даровой хлеб, видно, по вкусу пришелся. На гостей нагонял он тоску смертельную. Сядет, бывало, за фортепьяны (у Татьяны Борисовны и фортепьяны водились) и начнет одним пальцем отыскивать «Тройку удалую»; аккорды берет, стучит по клавишам; по целым часам мучительно завывает романсы Варламова: «Уединенная сосна» или «Нет, доктор, нет, не приходи», а у самого глаза заплыли жиром, и щеки лоснятся, как барабан… А то вдруг грянет: «Уймитесь, волнения страсти»… Татьяна Борисовна так и вздрогнет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































