Текст книги "Накануне. Записки охотника (сборник)"
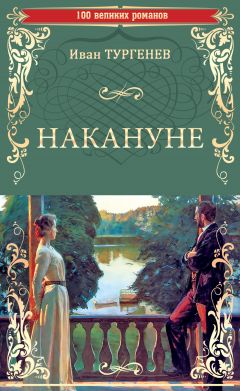
Автор книги: Иван Тургенев
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
Два помещика
Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ соседей; позвольте же мне теперь, кстати (для нашего брата писателя все кстати), познакомить вас еще с двумя помещиками, у которых я часто охотился, с людьми весьма почтенными, благонамеренными и пользующимися всеобщим уважением нескольких уездов.
Сперва опишу вам отставного генерал-майора Вячеслава Илларионовича Хвалынского. Представьте себе человека высокого и когда-то стройного, теперь же несколько обрюзглого, но вовсе не дряхлого, даже не устарелого, человека в зрелом возрасте, в самой, как говорится, поре. Правда, некогда правильные и теперь еще приятные черты лица его немного изменились, щеки повисли, частые морщины лучеобразно расположились около глаз, иных зубов уже нет, как сказал Саади, по уверению Пушкина; русые волосы, по крайней мере все те, которые остались в целости, превратились в лиловые благодаря составу, купленному на Роменской конной ярмарке у жида, выдававшего себя за армянина; но Вячеслав Илларионович выступает бойко, смеется звонко, позвякивает шпорами, крутит усы, наконец называет себя старым кавалеристом, между тем как известно, что настоящие старики сами никогда не называют себя стариками. Носит он обыкновенно сюртук, застегнутый доверху, высокий галстух с накрахмаленными воротничками и панталоны серые с искрой, военного покроя; шляпу же надевает прямо на лоб, оставляя весь затылок наружи. Человек он очень добрый, но с понятиями и привычками довольно странными. Например: он никак не может обращаться с дворянами небогатыми или нечиновными, как с равными себе людьми. Разговаривая с ними, он обыкновенно глядит на них сбоку, сильно опираясь щекою в твердый и белый воротник, или вдруг возьмет да озарит их ясным и неподвижным взором, помолчит и двинет всею кожей под волосами на голове; даже слова иначе произносит и не говорит, например: «Благодарю, Павел Васильич», или: «Пожалуйте сюда, Михайло Иваныч», а: «Боллдарю, Палл Асилич», или: «Па-ажалте сюда, Михал Ваныч». С людьми же, стоящими на низших ступенях общества, он обходится еще страннее: вовсе на них не глядит и, прежде чем объяснит им свое желание или отдаст приказ, несколько раз сряду, с озабоченным и мечтательным видом, повторит: «Как тебя зовут?.. как тебя зовут?», ударяя необыкновенно резко на первом слове «как», а остальные произнося очень быстро, что придает всей поговорке довольно близкое сходство с криком самца-перепела. Хлопотун он и жила страшный, а хозяин плохой: взял к себе в управители отставного вахмистра, малоросса, необыкновенно глупого человека. Впрочем, в деле хозяйничества никто у нас еще не перещеголял одного петербургского важного чиновника, который, усмотрев из донесений своего приказчика, что овины у него в имении часто подвергаются пожарам, отчего много хлеба пропадает, – отдал строжайший приказ: вперед до тех пор не сажать снопов в овин, пока огонь совершенно не погаснет. Тот же самый сановник вздумал было засеять все свои поля маком, вследствие весьма, по-видимому, простого расчета: мак, дескать, дороже ржи, следовательно, сеять мак выгоднее. Он же приказал своим крепостным бабам носить кокошники по высланному из Петербурга образцу; и действительно, до сих пор в имениях его бабы носят кокошники… только сверху кичек… Но возвратимся к Вячеславу Илларионовичу. Вячеслав Илларионович ужасный охотник до прекрасного пола и, как только увидит у себя в уездном городе на бульваре хорошенькую особу, немедленно пустится за нею вслед, но тотчас же и захромает, – вот что замечательное обстоятельство. В карты играть он любит, но только с людьми звания низшего; они-то ему: «Ваше превосходительство», а он-то их пушит и распекает, сколько душе его угодно. Когда ж ему случится играть с губернатором или с каким-нибудь чиновным лицом – удивительная происходит в нем перемена: и улыбается-то он, и головой кивает, и в глаза-то им глядит – медом так от него и несет… Даже проигрывает и не жалуется. Читает Вячеслав Илларионыч мало, при чтении беспрестанно поводит усами и бровями, словно волну снизу вверх по лицу пускает. Особенно замечательно это волнообразное движение на лице Вячеслава Илларионыча, когда ему случается (при гостях, разумеется) пробегать столбцы «Journal des Debats». На выборах играет он роль довольно значительную, но от почетного звания предводителя, по скупости, отказывается. «Господа, – говорит он обыкновенно приступающим к нему дворянам, и говорит голосом, исполненным покровительства и самостоятельности, – много благодарен за честь; но я решился посвятить свой досуг уединению». И, сказавши эти слова, поведет головой несколько раз направо и налево, а потом с достоинством наляжет подбородком и щеками на галстух. Состоял он в молодые годы адъютантом у какого-то значительного лица, которого иначе и не называет как по имени и по отчеству; говорят, будто бы он принимал на себя не одни адъютантские обязанности, будто бы, например, облачившись в полную парадную форму и даже застегнув крючки, парил своего начальника в бане – да не всякому слуху можно верить. Впрочем, и сам генерал Хвалынский о своем служебном поприще не любит говорить, что вообще довольно странно; на войне он тоже, кажется, не бывал. Живет генерал Хвалынский в небольшом домике, один; супружеского счастья он в своей жизни не испытал и потому до сих пор еще считается женихом, и даже выгодным женихом. Зато ключница у него, женщина лет тридцати пяти, черноглазая, чернобровая, полная, свежая и с усами, по буднишним дням ходит в накрахмаленных платьях, а по воскресеньям и кисейные рукава надевает. Хорош бывает Вячеслав Илларионович на больших званых обедах, даваемых помещиками в честь губернаторов и других властей: тут он, можно сказать, совершенно в своей тарелке. Сидит он обыкновенно в таких случаях если не по правую руку губернатора, то и не в далеком от него расстоянии; в начале обеда более придерживается чувства собственного достоинства и, закинувшись назад, но не оборачивая головы, сбоку пускает взор вниз по круглым затылкам и стоячим воротникам гостей; зато к концу стола развеселяется, начинает улыбаться во все стороны (в направлении губернатора он с начала обеда улыбался), а иногда даже предлагает тост в честь прекрасного пола, украшения нашей планеты, по его словам. Также недурен генерал Хвалынский на всех торжественных и публичных актах, экзаменах, церковных освященьях, собраньях и выставках; под благословение тоже подходить мастер. На разъездах, переправах и в других тому подобных местах люди Вячеслава Илларионыча не шумят и не кричат; напротив, раздвигая народ или вызывая карету, говорят приятным горловым баритоном: «Позвольте, позвольте, дайте генералу Хвалынскому пройти», или: «Генерала Хвалынского экипаж…» Экипаж, правда, у Хвалынского формы довольно старинной: на лакеях ливрея довольно потертая (о том, что она серая с красными выпушками, кажется, едва ли нужно упомянуть); лошади тоже довольно пожили и послужили на своем веку, но на щегольство Вячеслав Илларионыч притязаний не имеет и не считает даже званию своему приличным пускать пыль в глаза. Особенным даром слова Хвалынский не владеет или, может быть, не имеет случая высказать свое красноречие, потому что не только спора, но вообще возраженья не терпит и всяких длинных разговоров, особенно с молодыми людьми, тщательно избегает. Оно действительно вернее; а то с нынешним народом беда: как раз из повиновения выйдет и уважение потеряет. Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует, а к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, но с которыми только и знается, держит речи отрывистые и резкие, беспрестанно употребляя выраженья, подобные следующим: «Это, однако, вы пус-тя-ки говорите», или: «Я наконец вынужденным нахожусь, милосвый сдарь мой, вам поставить на вид», или: «Наконец вы должны, однако же, знать, с кем имеете дело», и пр. Особенно боятся его почтмейстеры, непременные заседатели и станционные смотрители. Дома он у себя никого не принимает и живет, как слышно, скрягой. Со всем тем он прекрасный помещик. «Старый служака, человек бескорыстный, с правилами, vieux grognard»[87]87
Старый ворчун (фр.).
[Закрыть], – говорят про него соседи. Один прокурор губернский позволяет себе улыбаться, когда при нем упоминают об отличных и солидных качествах генерала Хвалынского, – да чего не делает зависть!..
А впрочем, перейдем теперь к другому помещику.
Мардарий Аполлоныч Стегунов ни в чем не походил на Хвалынского; он едва ли где-нибудь служил и никогда красавцем не почитался. Мардарий Аполлоныч старичок низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. Он большой хлебосол и балагур; живет, как говорится, в свое удовольствие; зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вате. В одном он только сошелся с генералом Хвалынским: он тоже холостяк. У него пятьсот душ. Мардарий Аполлоныч занимается своим именьем довольно поверхностно; купил, чтобы не отстать от века, лет десять тому назад, у Бутенопа в Москве молотильную машину, запер ее в сарай, да и успокоился. Разве в хороший летний день велит заложить беговые дрожки и съездит в поле на хлеба посмотреть да васильков нарвать. Живет Мардарий Аполлоныч совершенно на старый лад. И дом у него старинной постройки: в передней, как следует, пахнет квасом, сальными свечами и кожей; тут же направо буфет с трубками и утиральниками; в столовой фамильные портреты, мухи, большой горшок ерани и кислые фортепьяны; в гостиной три дивана, три стола, два зеркала и сиплые часы, с почерневшей эмалью и бронзовыми, резными стрелками; в кабинете стол с бумагами, ширмы синеватого цвета с наклеенными картинками, вырезанными из разных сочинений прошедшего столетия, шкафы с вонючими книгами, пауками и черной пылью, пухлое кресло, итальянское окно да наглухо заколоченная дверь в сад… Словом, все как водится. Людей у Мардария Аполлоныча множество, и все одеты по-старинному: в длинные синие кафтаны с высокими воротниками, панталоны мутного колорита и коротенькие желтоватые жилетцы. Гостям они говорят: «батюшка». Хозяйством у него заведывает бурмистр из мужиков, с бородой во весь тулуп; домом – старуха, повязанная коричневым платком, сморщенная и скупая. На конюшне у Мардария Аполлоныча стоит тридцать разнокалиберных лошадей; выезжает он в домоделанной коляске в полтораста пуд. Гостей принимает очень радушно и угощает на славу, то есть благодаря одуряющим свойствам русской кухни, лишает их вплоть до самого вечера всякой возможности заняться чем-нибудь, кроме преферанса. Сам же никогда ничем не занимается и даже «Сонник» перестал читать. Но таких помещиков у нас на Руси еще довольно много; спрашивается: с какой стати я заговорил о нем и зачем?.. А вот позвольте вместо ответа рассказать вам одно из моих посещений у Мардария Аполлоныча.
Приехал я к нему летом, часов в семь вечера. У него только что отошла всенощная, и священник, молодой человек, по-видимому, весьма робкий и недавно вышедший из семинарии, сидел в гостиной возле двери, на самом краюшке стула. Мардарий Аполлоныч, по обыкновению, чрезвычайно ласково меня принял: он непритворно радовался каждому гостю, да и человек он был вообще предобрый. Священник встал и взялся за шляпу.
– Погоди, погоди, батюшка, – заговорил Мардарий Аполлоныч, не выпуская моей руки, – не уходи… Я велел тебе водки принести.
– Я не пью-с, – с замешательством пробормотал священник и покраснел до ушей.
– Что за пустяки! как в вашем званье не пить! – отвечал Мардарий Аполлоныч. – Мишка! Юшка! водки батюшке!
Юшка, высокий и худощавый старик лет восьмидесяти, вошел с рюмкой водки на темном крашеном подносе, испещренном пятнами телесного цвета.
Священник начал отказываться.
– Пей, батюшка, не ломайся, нехорошо, – заметил помещик с укоризной.
Бедный молодой человек повиновался.
– Ну, теперь, батюшка, можешь идти.
Священник начал кланяться.
– Ну, хорошо, хорошо, ступай… Прекрасный человек, – продолжал Мардарий Аполлоныч, глядя ему вслед, – очень я им доволен; одно – молод еще. Всё проповеди держит, да вот вина не пьет. Но вы-то как, мой батюшка?.. Что вы, как вы? Пойдемте-ка на балкон – вишь, вечер какой славный.
Мы вышли на балкон, сели и начали разговаривать. Мардарий Аполлоныч взглянул вниз и вдруг пришел в ужасное волненье.
– Чьи это куры? чьи это куры? – закричал он, – чьи это куры по саду ходят?.. Юшка! Юшка! поди узнай сейчас, чьи это куры по саду ходят?.. Чьи это куры? Сколько раз я запрещал, сколько раз говорил!
Юшка побежал.
– Что за беспорядки! – твердил Мардарий Аполлоныч, – это ужас!
Несчастные куры, как теперь помню, две крапчатые и одна белая с хохлом, преспокойно продолжали ходить под яблонями, изредка выражая свои чувства продолжительным крехтаньем, как вдруг Юшка, без шапки, с палкой в руке, и трое других совершеннолетних дворовых, все вместе дружно ринулись на них. Пошла потеха. Курицы кричали, хлопали крыльями, прыгали, оглушительно кудахтали; дворовые люди бегали, спотыкались, падали; барин с балкона кричал, как исступленный: «Лови, лови! лови, лови! лови, лови, лови!.. Чьи это куры, чьи это куры?» Наконец одному дворовому человеку удалось поймать хохлатую курицу, придавив ее грудью к земле, и в то же самое время через плетень сада, с улицы, перескочила девочка лет одиннадцати, вся растрепанная и с хворостиной в руке.
– А, вот чьи куры! – с торжеством воскликнул помещик. – Ермила кучера куры! вон он свою Наталку загнать их выслал… Небось Параши не выслал, – присовокупил помещик вполголоса и значительно ухмыльнулся. – Эй, Юшка! брось куриц-то: поймай-ка мне Наталку.
Но прежде чем запыхавшийся Юшка успел добежать до перепуганной девчонки – откуда ни возьмись ключница, схватила ее за руку и несколько раз шлепнула ее по спине…
– Вот тэк, э вот тэк, – подхватил помещик, – те, те, те! те, те, те!.. А кур-то отбери, Авдотья, – прибавил он громким голосом и с светлым лицом обратился ко мне: – Какова, батюшка, травля была, ась? Вспотел даже, посмотрите.
И Мардарий Аполлоныч расхохотался.
Мы остались на балконе. Вечер был действительно необыкновенно хорош.
Нам подали чай.
– Скажите-ка, – начал я, – Мардарий Аполлоныч, ваши это дворы выселены, вон там, на дороге, за оврагом?
– Мои… а что?
– Как же это вы, Мардарий Аполлоныч? Ведь это грешно. Избенки отведены мужикам скверные, тесные; деревца кругом не увидишь; сажалки даже нету; колодезь один, да и тот никуда не годится. Неужели вы другого места найти не могли?.. И, говорят, вы у них даже старые конопляники отняли?
– А что будешь делать с размежеваньем? – отвечал мне Мардарий Аполлоныч. – У меня это размежевание вот где сидит. (Он указал на свой затылок.) И никакой пользы я от этого размежевания не предвижу. А что я конопляники у них отнял и сажалки, что ли, там у них не выкопал, – уж про это, батюшка, я сам знаю. Я человек простой, по-старому поступаю. По-моему: коли барин – так барин, а коли мужик – так мужик… Вот что.
На такой ясный и убедительный довод отвечать, разумеется, было нечего.
– Да притом, – продолжал он, – и мужики-то плохие, опальные. Особенно там две семьи; еще батюшка покойный, дай бог ему царство небесное, их не жаловал, больно не жаловал. А у меня, скажу вам, такая примета: коли отец вор, то и сын вор; уж там как хотите… О, кровь, кровь – великое дело! Я, признаться вам откровенно, из тех-то двух семей и без очереди в солдаты отдавал и так рассовывал – кой-куды; да не переводятся, что будешь делать? Плодущи, проклятые.
Между тем воздух затих совершенно. Лишь изредка ветер набегал струями и, в последний раз замирая около дома, донес до нашего слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни. Мардарий Аполлоныч только что донес к губам налитое блюдечко и уже расширил было ноздри, без чего, как известно, ни один коренной русак не втягивает в себя чая, – но остановился, прислушался, кивнул головой, хлебнул и, ставя блюдечко на стол, произнес с добрейшей улыбкой и как бы невольно вторя ударам: «Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!»
– Это что такое? – спросил я с изумлением.
– А там, по моему приказу, шалунишку наказывают… Васю буфетчика изволите знать?
– Какого Васю?
– Да вот что намедни за обедом нам служил. Еще с такими большими бакенбардами ходит.
Самое лютое негодование не устояло бы против ясного и кроткого взора Мардария Аполлоныча.
– Что вы, молодой человек, что вы? – заговорил он, качая головой. – Что я, злодей, что ли, что вы на меня так уставились? Любяй да наказует: вы сами знаете.
Через четверть часа я простился с Мардарием Аполлонычем. Проезжая через деревню, увидел я буфетчика Васю.
Он шел по улице и грыз орехи. Я велел кучеру остановить лошадей и подозвал его.
– Что, брат, тебя сегодня наказали? – спросил я его.
– А вы почем знаете? – отвечал Вася.
– Мне твой барин сказывал.
– Сам барин?
– За что ж тебя велел наказать?
– А поделом, батюшка, поделом. У нас по пустякам не наказывают; такого заведенья у нас нету – ни, ни. У нас барин не такой; у нас барин… такого барина в целой губернии не сыщешь.
– Пошел! – сказал я кучеру. «Вот она, старая-то Русь!» – думал я на возвратном пути.
Лебедянь
Одна из главных выгод охоты, любезные мои читатели, состоит в том, что она заставляет вас беспрестанно переезжать с места на место, что для человека незанятого весьма приятно. Правда, иногда (особенно в дождливое время) не слишком весело скитаться по проселочным дорогам, брать «целиком», останавливать всякого встречного мужика вопросом: «Эй, любезный! как бы нам проехать в Мордовку?», а в Мордовке выпытывать у тупоумной бабы (работники-то все в поле): далеко ли до постоялых двориков на большой дороге, и как до них добраться, и, проехав верст десять, вместо постоялых двориков очутиться в помещичьем, сильно разоренном сельце Худобубнове, к крайнему изумлению целого стада свиней, погруженных по уши в темно-бурую грязь на самой середине улицы и нисколько не ожидавших, что их обеспокоят. Невесело также переправляться через животрепещущие мостики, спускаться в овраги, перебираться вброд через болотистые ручьи; невесело ехать, целые сутки ехать по зеленоватому морю больших дорог или, чего боже сохрани, загрязнуть на несколько часов перед пестрым верстовым столбом с цифрами: 22 на одной стороне и 23 на другой; не весело по неделям питаться яйцами, молоком и хваленым ржаным хлебом… Но все эти неудобства и неудачи выкупаются другого рода выгодами и удовольствиями. Впрочем, приступим к самому рассказу.
Вследствие всего вышесказанного мне не для чего толковать читателю, каким образом, лет пять тому назад, я попал в Лебедянь в самый разгар ярмарки. Наш брат охотник может в одно прекрасное утро выехать из своего более или менее родового поместья с намереньем вернуться на другой же день вечером и понемногу, понемногу, не переставая стрелять по бекасам, достигнуть наконец благословенных берегов Печоры; притом всякий охотник до ружья и до собаки – страстный почитатель благороднейшего животного в мире: лошади. Итак, я прибыл в Лебедянь, остановился в гостинице, переоделся и отправился на ярмарку. (Половой, длинный и сухопарый малый, лет двадцати, со сладким носовым тенором, уже успел мне сообщить, что их сиятельство, князь Н., ремонтер *** го полка, остановился у них в трактире, что много других господ наехало, что по вечерам цыгане поют и пана Твардовского дают на театре, что кони, дескать, в цене, – впрочем, хорошие приведены кони.)
На ярмарочной площади бесконечными рядами тянулись телеги, а за телегами лошади всех возможных родов: рысистые, заводские, битюки, возовые, ямские и простые крестьянские. Иные, сытые и гладкие, подобранные по мастям, покрытые разноцветными попонами, коротко привязанные к высоким кряквам, боязливо косились назад на слишком знакомые им кнуты своих владельцев-барышников; помещичьи кони, высланные степными дворянами за сто, за двести верст, под надзором какого-нибудь дряхлого кучера и двух или трех крепкоголовых конюхов, махали своими длинными шеями, топали ногами, грызли со скуки надолбы; саврасые вятки плотно прижимались друг к дружке; в величавой неподвижности, словно львы, стояли широкозадые рысаки с волнистыми хвостами и косматыми лапами, серые в яблоках, вороные, гнедые. Знатоки почтительно останавливались перед ними. В улицах, образованных телегами, толпились люди всякого звания, возраста и вида: барышники, в синих кафтанах и высоких шапках, лукаво высматривали и выжидали покупщиков: лупоглазые, кудрявые цыгане метались взад и вперед как угорелые, глядели лошадям в зубы, поднимали им ноги и хвосты, кричали, бранились, служили посредниками, метали жребий или увивались около какого-нибудь ремонтера в фуражке и военной шинели с бобром. Дюжий казак торчал верхом на тощем мерине с оленьей шеей и продавал его «совсим», то есть с седлом и уздечкой. Мужики, в изорванных под мышками тулупах, отчаянно продирались сквозь толпу, наваливались десятками на телегу, запряженную лошадью, которую следовало «опробовать», или, где-нибудь в стороне, при помощи увертливого цыгана, торговались до изнеможения, сто раз сряду хлопали друг друга по рукам, настаивая каждый на своей цене, между тем как предмет их спора, дрянная лошаденка, покрытая покоробленной рогожей, только что глазами помаргивала, как будто дело шло не о ней… И в самом деле, не все ли ей равно, кто ее бить будет! Широколобые помещики с крашеными усами и выражением достоинства на лице, в конфедератках и камлотовых чуйках, надетых на один рукав, снисходительно заговаривали с пузатыми купцами в пуховых шляпах и зеленых перчатках. Офицеры различных полков толкались тут же; необыкновенно длинный кирасир, немецкого происхождения, хладнокровно спрашивал у хромого барышника: «Сколько он желает получить за сию рыжую лошадь?» Белокурый гусарчик, лет девятнадцати, подбирал пристяжную к поджарому иноходцу; ямщик, в низкой шляпе, обвитой павлиньим пером, в буром армяке и с кожаными рукавицами, засунутыми за узкий зелененький кушак, искал коренника. Кучера заплетали лошадям своим хвосты, мочили гривы и давали почтительные советы господам. Окончившие сделку спешили в трактир или в кабак, смотря по состоянию… И все это возилось, кричало, копошилось, ссорилось и мирилось, бранилось и смеялось в грязи по колени. Мне хотелось купить тройку сносных лошадей для своей брички: мои начинали отказываться. Я нашел двух, а третью не успел подобрать. После обеда, которого описывать я не берусь (уже Эней знал, как неприятно припоминать минувшее горе), отправился в так называемую кофейную, куда каждый вечер собирались ремонтеры, заводчики и другие приезжие. В биллиардной комнате, затопленной свинцовыми волнами табачного дыма, находилось человек двадцать. Тут были развязные молодые помещики в венгерках и серых панталонах, с длинными висками и намасленными усиками, благородно и смело взиравшие кругом; другие дворяне в казакинах, с необыкновенно короткими шеями и заплывшими глазками, тут же мучительно сопели; купчики сидели в стороне, как говорится, «на чуку»; офицеры свободно разговаривали друг с другом. На биллиарде играл князь Н., молодой человек лет двадцати двух, с веселым и несколько презрительным лицом, в сюртуке нараспашку, красной шелковой рубахе и широких бархатных шароварах; играл он с отставным поручиком Виктором Хлопаковым.
Отставной поручик Виктор Хлопаков, маленький смугленький и худенький человек лет тридцати, с черными волосиками, карими глазами и тупым вздернутым носом, прилежно посещает выборы и ярмарки. Он подпрыгивает на ходу, ухарски разводит округленными руками, шапку носит набекрень и заворачивает рукава своего военного сюртука, подбитого сизым коленкором. Господин Хлопаков обладает уменьем подделываться к богатым петербургским шалунам, курит, пьет и в карты играет с ними, говорит им «ты». За что они его жалуют, понять довольно мудрено. Он не умен, он даже не смешон: в шуты он тоже не годится. Правда, с ним обращаются дружески-небрежно, как с добрым, но пустым малым; якшаются с ним в течение двух-трех недель, а потом вдруг и не кланяются с ним, и он сам уж не кланяется. Особенность поручика Хлопакова состоит в том, что он в продолжение года, иногда двух, употребляет постоянно одно и то же выражение, кстати и некстати, выражение нисколько не забавное, но которое, бог знает почему, всех смешит. Лет восемь тому назад он на каждом шагу говорил: «Мое вам почитание, покорнейше благодарствую», и тогдашние его покровители всякий раз помирали со смеху и заставляли его повторять «мое почитание»; потом он стал употреблять довольно сложное выражение: «Нет, уж это вы того, кескесэ, – это вышло выходит», и с тем же блистательным успехом; года два спустя придумал новую прибаутку: «Не ву горяче па, человек божий, обшит бараньей кожей» и т. д. И что же! эти, как видите, вовсе незатейливые словечки его кормят, поят и одевают. (Именье он свое давным-давно промотал и живет единственно на счет приятелей.) Заметьте, что решительно никаких других любезностей за ним не водится; правда, он выкуривает сто трубок Жукова в день, а играя на биллиарде, поднимает правую ногу выше головы и, прицеливаясь, неистово ерзает кием по руке, – ну, да ведь до таких достоинств не всякий охотник. Пьет он тоже хорошо… да на Руси этим отличиться мудрено… Словом, успех его – совершенная для меня загадка… Одно разве: осторожен он, copy из избы не выносит, ни о ком дурного словечка не скажет…
«Ну, – подумал я при виде Хлопакова, – какая-то его нынешняя поговорка?»
Князь сделал белого.
– Тридцать и никого, – возопил чахоточный маркер с темным лицом и свинцом под глазами.
Князь с треском положил желтого в крайнюю лузу.
– Эк! – одобрительно крякнул всем животом толстенький купец, сидевший в уголку за шатким столиком на одной ножке, крякнул и оробел. Но, к счастью, никто его не заметил. Он отдохнул и погладил бородку.
– Тридцать шесть и очень мало! – закричал маркер в нос.
– Что, каково, брат? – спросил князь Хлопакова.
– Что ж? известно, рррракалиооон, как есть рррракалиооон.
Князь прыснул со смеху.
– Как, как? повтори!
– Рррракалиооон! – самодовольно повторил отставной поручик.
«Вот оно, слово-то!» – подумал я.
Князь положил красного в лузу.
– Эх! не так, князь, не так, – залепетал вдруг белокурый офицерик с покрасневшими глазами, крошечным носиком и младенчески заспанным лицом. – Не так играете… надо было… не так!
– Как же? – спросил его князь через плечо.
– Надо было… того… триплетом.
– В самом деле? – пробормотал князь сквозь зубы.
– А что, князь, сегодня вечером к цыганам? – поспешно подхватил сконфуженный молодой человек. – Стешка петь будет… Ильюшка…
Князь не отвечал ему.
– Рррракалиооон, братец, – проговорил Хлопаков, лукаво прищурив левый глаз.
И князь расхохотался.
– Тридцать девять и никого, – провозгласил маркер.
– Никого… посмотри-ка, как я вот этого желтого…
Хлопаков заерзал кием по руке, прицелился и скиксовал.
– Э, рракалиоон, – закричал он с досадой.
Князь опять рассмеялся.
– Как, как, как?
Но Хлопаков своего слова повторить не захотел: надо же пококетничать.
– Стикс изволили дать, – заметил маркер. – Позвольте помелить… Сорок и очень мало!
– Да, господа, – заговорил князь, обращаясь ко всему собранию и не глядя, впрочем, ни на кого в особенности, – вы знаете, сегодня в театре Вержембицкую вызывать.
– Как же, как же, непременно, – воскликнуло наперерыв несколько господ, удивительно польщенных возможностью отвечать на княжескую речь, – Вержембицкую…
– Вержембицкая отличная актриса, гораздо лучше Сопняковой, – пропищал из угла плюгавенький человек с усиками и в очках. Несчастный! он втайне сильно вздыхал по Сопняковой, а князь не удостоил его даже взглядом.
– Че-о-эк, э, трубку! – произнес в галстух какой-то господин высокого роста, с правильным лицом и благороднейшей осанкой, по всем признакам шулер.
Человек побежал за трубкой и, вернувшись, доложил его сиятельству, что, дескать, ямщик Баклага их спрашивают-с.
– А! ну, вели ему подождать да водки ему поднеси.
– Слушаю-с.
Баклагой, как мне потом сказали, прозывался молодой, красивый и чрезвычайно избалованный ямщик; князь его любил, дарил ему лошадей, гонялся с ним, проводил с ним целые ночи… Этого самого князя, бывшего шалуна и мота, вы бы теперь не узнали… Как он раздушен, затянут, горд! Как занят службой, а главное – как рассудителен!
Однако табачный дым начинал выедать мне глаза. В последний раз выслушав восклицание Хлопакова и хохот князя, я отправился в свой нумер, где на волосяном, узком и продавленном диване, с высокой выгнутой спинкой, мой человек уже постлал мне постель.
На другой день пошел я смотреть лошадей по дворам и начал с известного барышника Ситникова. Через калитку вошел я на двор, посыпанный песочком. Перед настежь раскрытою дверью конюшни стоял сам хозяин, человек уже не молодой, высокий и толстый, в заячьем тулупчике, с поднятым и подвернутым воротником. Увидав меня, он медленно двинулся ко мне навстречу, подержал обеими руками шапку над головой и нараспев произнес:
– А, наше вам почтение. Чай, лошадок угодно посмотреть?
– Да, пришел лошадок посмотреть.
– А каких именно, смею спросить?
– Покажите, что у вас есть?
– С нашим удовольствием.
Мы вошли в конюшню. Несколько белых шавок поднялось с сена и подбежало к нам, виляя хвостами; длиннобородый старый козел с неудовольствием отошел в сторону; три конюха, в крепких, но засаленных тулупах, молча нам поклонились. Направо и налево, в искусственно возвышенных стойлах, стояло около тридцати лошадей, выхоленных и вычищенных на славу. По перекладинам перелетывали и ворковали голуби.
– Вам, то есть, для чего требуется лошадка: для езды или для завода? – спросил меня Ситников.
– И для езды, и для завода.
– Понимяем-с, понимяем-с, понимяем-с, – с расстановкою произнес барышник. – Петя, покажи господину Горностая.
Мы вышли на двор.
– Да не прикажите ли лавочку из избы вынести?.. Не требуется?.. Как угодно.
Копыта загремели по доскам, щелкнул кнут, и Петя, малый лет сорока, рябой и смуглый, выскочил из конюшни вместе с серым, довольно статным жеребцом, дал ему подняться на дыбы, пробежал с ним раза два кругом двора и ловко осадил его на показном месте. Горностай вытянулся, со свистом фыркнул, закинул хвост, повел мордой и покосился на нас.
«Ученая птица!» – подумал я.
– Дай волю, дай волю, – проговорил Ситников и уставился на меня.
– Как, по-вашему, будет-с? – спросил он наконец.
– Лошадь не дурна, – передние ноги не совсем надежны.
– Ноги отличные! – с убеждением возразил Ситников, – а зад-то… извольте посмотреть… печь печью, хоть выспись.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































