Текст книги "Дворянское гнездо. Отцы и дети (сборник)"
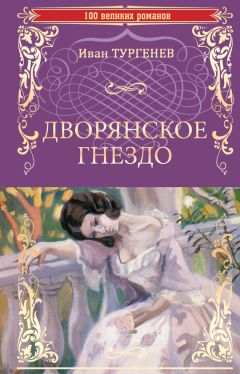
Автор книги: Иван Тургенев
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
XI
Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном; он предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало быть, напрасно он, бывало, зимою в Петербурге по целым дням просиживал над новейшими сочинениями; напрасно прислушивался к разговорам молодых людей; напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово в их кипучие речи. «Брат говорит, что мы правы, – думал он, – и, отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы, а в то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем, какое-то преимущество над нами… Молодость? Нет: не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас?»
Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу.
«Но отвергать поэзию? – подумал он опять, – не сочувствовать художеству, природе?..»
И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в полверсте от сада: тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал рысцой на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой рощи: он весь был ясно виден, весь, до заплаты на плече, даром что ехал в тени; приятно-отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела, и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; ветер совсем замер; запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени; мошки толклись столбом над одинокою, далеко протянутою веткою. «Как хорошо, Боже мой!» – подумал Николай Петрович, и любимые стихи пришли было ему на уста; он вспомнил Аркадия, Stoff und Kraft – и умолк, но продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать; деревенская жизнь развила в нем эту способность. Давно ли он так же мечтал, поджидая сына на постоялом дворике, а с тех пор уже произошла перемена, уже определились, тогда еще неясные, отношения… и как! Представилась ему опять покойница жена, но не такою, какою он ее знал в течение многих лет, не домовитою, доброю хозяйкою, а молодою девушкой с тонким стаком, невинно-пытливым взглядом и туго закрученною косой над детскою шейкой. Вспомнил он, как он увидал ее в первый раз. Он был тогда еще студентом. Он встретил ее на лестнице квартиры, в которой он жил, и, нечаянно толкнув ее, обернулся, хотел извиниться и только мог пробормотать: «Pardon, monsieur»[74]74
Извините, сударь (фр.).
[Закрыть], а она наклонила голову, усмехнулась и вдруг как будто испугалась и побежала, а на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла серьезный вид и покраснела. А потом первые робкие посещения, полуслова, полуулыбки, и недоумение, и грусть, и порывы, и, наконец, эта задыхающаяся радость… Куда это все умчалось? Она стала его женой, он был счастлив, как немногие на земле… «Но, – думал он, – те сладостные, первые мгновенья, отчего бы не жить им вечною, неумирающею жизнью?»
Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память; ему хотелось вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание, и ему уже чудилось, как будто над ним…
– Николай Петрович, – раздался вблизи его голос Фенечки, – где вы?
Он вздрогнул. Ему не стало ни больно, ни совестно… Он не допускал даже возможности сравнения между женой и Фенечкой, но он пожалел о том, что она вздумала его отыскивать. Ее голос разом напомнил ему: его седые волосы, его старость, его настоящее…
Волшебный мир, в который он уже вступал, который уже возникал из туманных волн прошедшего, шевельнулся – и исчез.
– Я здесь, – отвечал он, – я приду, ступай. «Вот они, следы-то барства», – мелькнуло у него в голове. Фенечка молча заглянула к нему в беседку и скрылась, а он с изумлением заметил, что ночь успела наступить с тех пор, как он замечтался. Все потемнело и затихло кругом, и лицо Фенечки скользнуло перед ним, такое бледное и маленькое. Он приподнялся и хотел возвратиться домой; но размягченное сердце не могло успокоиться в его груди, и он стал медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себе под ноги, то поднимая глаза к небу, где уже роились и перемигивались звезды. Он ходил много, почти до усталости, а тревога в нем, какая-то ищущая, неопределенная, печальная тревога, все не унималась. О, как Базаров посмеялся бы над ним, если б он узнал, что в нем тогда происходило! Сам Аркадий осудил бы его. У него, у сорокачетырехлетнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы, беспричинные слезы; это было во сто раз хуже виолончели.
Николай Петрович продолжал ходить и не мог решиться войти в дом, в это мирное и уютное гнездо, которое так приветно глядело на него всеми своими освещенными окнами; он не в силах был расстаться с темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этою грустию, с этою тревогой…
На повороте дорожки встретился ему Павел Петрович.
– Что с тобой? – спросил он Николая Петровича, – ты бледен, как привиденье; ты нездоров; отчего ты не ложишься?
Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состояние и удалился. Павел Петрович дошел до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа…
– Знаешь ли что? – говорил в ту же ночь Базаров Аркадию. – Мне в голову пришла великолепная мысль. Твой отец сказывал сегодня, что он получил приглашение от этого вашего знатного родственника. Твой отец не поедет; махнем-ка мы с тобой в ***; ведь этот господин и тебя зовет. Вишь, какая сделалась здесь погода, а мы прокатимся, город посмотрим. Поболтаемся дней пять-шесть, и баста!
– А оттуда ты вернешься сюда?
– Нет, надо к отцу проехать. Ты знаешь, он от*** в тридцати верстах. Я его давно не видал, и мать тоже; надо стариков потешить. Они у меня люди хорошие, особенно отец: презабавный. Я же у них один.
– И долго ты у них пробудешь?
– Не думаю. Чай, скучно будет.
– А к нам на возвратном пути заедешь?
– Не знаю… посмотрю. Ну, так, что ли? Мы отправимся?
– Пожалуй, – лениво заметил Аркадий.
Он в душе очень обрадовался предложению своего приятеля, но почел обязанностию скрыть свое чувство. Недаром же он был нигилист!
На другой день он уехал с Базаровым в ***. Молодежь в Марьине пожалела об их отъезде; Дуняша даже всплакнула… но старичкам вздохнулось легко.
XII
Город ***, куда отправились наши приятели, состоял в ведении губернатора из молодых, прогрессиста и деспота, как это сплошь да рядом случается на Руси. Он, в течение первого года своего управления, успел перессориться не только с губернским предводителем, отставным гвардии штабс-ротмистром, конным заводчиком и хлебосолом, но и с собственными чиновниками. Возникшие по этому поводу распри приняли наконец такие размеры, что министерство в Петербурге нашло необходимым послать доверенное лицо с поручением разобрать все на месте. Выбор начальства пал на Матвея Ильича Колязина, сына того Колязина, под попечительством которого находились некогда братья Кирсановы. Он был тоже из «молодых», то есть ему недавно минуло сорок лет, но он уже метил в государственные люди и на каждой стороне груди носил по звезде. Одна, правда, была иностранная, из плохоньких. Подобно губернатору, которого он приехал судить, он считался прогрессистом и, будучи уже тузом, не походил на большую часть тузов. Он имел о себе самое высокое мнение; тщеславие его не знало границ, но он держался просто, глядел одобрительно, слушал снисходительно и так добродушно смеялся, что на первых порах мог даже прослыть за «чудного малого». В важных случаях он умел, однако, как говорится, задать пыли. «Энергия необходима, – говаривал он тогда, – l’énergie est la première qualité d’un homme d’état»[75]75
Энергия – первейшее качество государственного человека (фр.).
[Закрыть]; а со всем тем он обыкновенно оставался в дураках и всякий несколько опытный чиновник садился на него верхом. Матвей Ильич отзывался с большим уважением о Гизо и старался внушить всем и каждому, что он не принадлежит к числу рутинеров и отсталых бюрократов, что он не оставляет без внимания ни одного важного проявления общественной жизни… Все подобные слова были ему хорошо известны. Он даже следил, правда с небрежною величавостию, за развитием современной литературы: так взрослый человек, встретив на улице процессию мальчишек, иногда присоединяется к ней. В сущности, Матвей Ильич недалеко ушел от тех государственных мужей александровского времени, которые, готовясь идти на вечер к г-же Свечиной, жившей тогда в Петербурге, прочитывали поутру страницу из Кондильяка; только приемы у него были другие, более современные. Он был ловкий придворный, большой хитрец и больше ничего; в делах толку не знал, ума не имел, а умел вести свои собственные дела: тут уж никто не мог его оседлать, а ведь это главное.
Матвей Ильич принял Аркадия с свойственным просвещенному сановнику добродушием, скажем более, с игривостию. Он, однако, изумился, когда узнал, что приглашенные им родственники остались в деревне. «Чудак был твой папа́, всегда», – заметил он, побрасывая кистями своего великолепного бархатного шлафрока, и вдруг, обратясь к молодому чиновнику в благонамереннейше застегнутом вицмундире, воскликнул с озабоченным видом: «Чего?» Молодой человек, у которого от продолжительного молчания слиплись губы, приподнялся и с недоумением посмотрел на своего начальника. Но, озадачив подчиненного, Матвей Ильич уже не обращал на него внимания. Сановники наши вообще любят озадачивать подчиненных; способы, к которым они прибегают для достижения этой цели, довольно разнообразны. Следующий способ, между прочим, в большом употреблении, «is quite a favourite»[76]76
Самый излюбленный (англ.).
[Закрыть], как говорят англичане: сановник вдруг перестает понимать самые простые слова, глухоту на себя напускает. Он спросит, например: какой сегодня день?
Ему почтительнейше докладывают: «Пятница сегодня, ваше с… с… с… ство».
– А? Что? Что такое? Что вы говорите? – напряженно повторяет сановник.
– Сегодня пятница, ваше с… с… ство.
– Как? Что? Что такое пятница? какая пятница?
– Пятница, ваше с… ссс… ссс… ство, день в неделе.
– Ну-у, ты учить меня вздумал?
Матвей Ильич все-таки был сановник, хоть и считался либералом.
– Я советую тебе, друг мой, съездить с визитом к губернатору, – сказал он Аркадию, – ты понимаешь, я тебе это советую не потому, чтоб я придерживался старинных понятий о необходимости ездить к властям на поклон, а просто потому, что губернатор порядочный человек; притом же ты, вероятно, желаешь познакомиться с здешним обществом… ведь ты не медведь, надеюсь? А он послезавтра дает большой бал.
– Вы будете на этом бале? – спросил Аркадий.
– Он для меня его дает, – проговорил Матвей Ильич почти с сожалением. – Ты танцуешь?
– Танцую, только плохо.
– Это напрасно. Здесь есть хорошенькие, да и молодому человеку стыдно не танцевать. Опять-таки я это говорю не в силу старинных понятий; я вовсе не полагаю, что ум должен находиться в ногах, но байронизм смешон, il a fait son temps[77]77
Прошло его время (фр.).
[Закрыть].
– Да я, дядюшка, вовсе не из байронизма не…
– Я познакомлю тебя с здешними барынями, я беру тебя под свое крылышко, – перебил Матвей Ильич и самодовольно засмеялся. – Тебе тепло будет, а?
Слуга вошел и доложил о приезде председателя казенной палаты, сладкоглазого старика с сморщенными губами, который чрезвычайно любил природу, особенно в летний день, когда, по его словам, «каждая пчелочка с каждого цветочка берет взяточку»… Аркадий удалился.
Он застал Базарова в трактире, где они остановились, и долго его уговаривал пойти к губернатору. «Нечего делать! – сказал наконец Базаров. – Взялся за гуж – не говори, что не дюж! Приехали смотреть помещиков, давай их смотреть!» Губернатор принял молодых людей приветливо, но не посадил их и сам не сел. Он вечно суетился и спешил; с утра надевал тесный вицмундир и чрезвычайно тугой галстух, не доедал и не допивал, все распоряжался. Его в губернии прозвали Бурдалу, намекая тем не на известного французского проповедника, а на бурду. Он пригласил Кирсанова и Базарова к себе на бал и через две минуты пригласил их вторично, считая их уже братьями и называя их Кайсаровыми.
Они шли к себе домой от губернатора, как вдруг из проезжающих мимо дрожек выскочил человек небольшого роста, в славянофильской венгерке, и с криком: «Евгений Васильевич!» – бросился к Базарову.
– А! это вы, герр Ситников, – проговорил Базаров, продолжая шагать по тротуару, – какими судьбами?
– Вообразите, совершенно случайно, – отвечал тот и, обернувшись к дрожкам, махнул раз пять рукой и закричал: – Ступай за нами, ступай! – У моего отца здесь дело, – продолжал он, перепрыгивая через канавку, – ну, так он меня просил… Я сегодня узнал о вашем приезде и уже был у вас… (Действительно, приятели, возвратясь к себе в номер, нашли там карточку с загнутыми углами и с именем Ситникова, на одной стороне по-французски, на другой – славянскою вязью.) Я надеюсь, вы не от губернатора!
– Не надейтесь, мы прямо от него.
– А! в таком случае и я к нему пойду… Евгений Васильич, познакомьте меня с вашим… с ними…
– Ситников, Кирсанов, – проворчал, не останавливаясь, Базаров.
– Мне очень лестно, – начал Ситников, выступая боком, ухмыляясь и поспешно стаскивая свои уже чересчур элегантные перчатки. – Я очень много слышал… Я старинный знакомый Евгения Васильича и могу сказать – его ученик. Я ему обязан моим перерождением…
Аркадий посмотрел на базаровского ученика. Тревожное и тупое выражение сказывалось в маленьких, впрочем приятных чертах его прилизанного лица; небольшие, словно вдавленные глаза глядели пристально и беспокойно, и смеялся он беспокойно: каким-то коротким, деревянным смехом.
– Поверите ли, – продолжал он, – что, когда при мне Евгений Васильевич в первый раз сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг… словно прозрел! «Вот, – подумал я, – наконец нашел я человека!» Кстати, Евгений Васильевич, вам непременно надобно сходить к одной здешней даме, которая совершенно в состоянии понять вас и для которой ваше посещение будет настоящим праздником; вы, я думаю, слыхали о ней?
– Кто такая? – произнес нехотя Базаров.
– Кукшина, Eudoxie, Евдоксия Кукшина. Это замечательная натура, émancipée[78]78
Свободная от предрассудков (фр.).
[Закрыть] в истинном смысле слова, передовая женщина. Знаете ли что? Пойдемте теперь к ней все вместе. Она живет отсюда в двух шагах. Мы там позавтракаем. Ведь вы еще не завтракали?
– Нет еще.
– Ну и прекрасно. Она, вы понимаете, разъехалась с мужем, ни от кого не зависит.
– Хорошенькая она? – перебил Базаров.
– Н… нет, этого нельзя сказать.
– Так для какого же дьявола вы нас к ней зовете?
– Ну, шутник, шутник… Она нам бутылку шампанского поставит.
– Вот как! Сейчас виден практический человек. Кстати, ваш батюшка все по откупам?
– По откупам, – торопливо проговорил Ситников и визгливо засмеялся. – Что же? идем?
– Не знаю, право.
– Ты хотел людей смотреть, ступай, – заметил вполголоса Аркадий.
– А вы-то что ж, господин Кирсанов? – подхватил Ситников. – Пожалуйте и вы, без вас нельзя.
– Да как же это мы все разом нагрянем?
– Ничего! Кукшина – человек чудный.
– Бутылка шампанского будет? – спросил Базаров.
– Три! – воскликнул Ситников. – За это я ручаюсь!
– Чем?
– Собственною головою.
– Лучше бы мошною батюшки. А впрочем, пойдем.
XIII
Небольшой дворянский домик на московский манер, в котором проживала Авдотья Никитишна (или Евдоксия) Кукшина, находился в одной из нововыгоревших улиц города***; известно, что наши губернские города горят через каждые пять лет. У дверей, над криво прибитою визитною карточкой, виднелась ручка колокольчика, и в передней встретила пришедших какая-то не то служанка, не то компаньонка в чепце – явные признаки прогрессивных стремлений хозяйки. Ситников спросил, дома ли Авдотья Никитишна?
– Это вы, Victor? – раздался тонкий голос из соседней комнаты. – Войдите.
Женщина в чепце тотчас исчезла.
– Я не один, – промолвил Ситников, лихо скидывая свою венгерку, под которою оказалось нечто вроде поддевки или пальто-сака, и бросая бойкий взгляд Аркадию и Базарову.
– Все равно, – отвечал голос. – Entrez[79]79
Войдите (фр.).
[Закрыть].
Молодые люди вошли. Комната, в которой они очутились, походила скорее на рабочий кабинет, чем на гостиную. Бумаги, письма, толстые нумера русских журналов, большею частью неразрезанные, валялись по запыленным столам; везде белели разбросанные окурки папирос. На кожаном диване полулежала дама, еще молодая, белокурая, несколько растрепанная, в шелковом, не совсем опрятном, платье, с крупными браслетами на коротеньких руках и кружевною косынкой на голове. Она встала с дивана и, небрежно натягивая себе на плечи бархатную шубку на пожелтелом горностаевом меху, лениво промолвила: «Здравствуйте, Victor», – и пожала Ситникову руку.
– Базаров, Кирсанов, – проговорил он отрывисто, в подражание Базарову.
– Милости просим, – отвечала Кукшина и, уставив на Базарова свои круглые глаза, между которыми сиротливо краснел крошечный вздернутый носик, прибавила: – Я вас знаю, – и пожала ему руку тоже.
Базаров поморщился. В маленькой и невзрачной фигурке эманципированной женщины не было ничего безобразного; но выражение ее лица неприятно действовало на зрителя. Невольно хотелось спросить у ней: «Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робеешь? Чего ты пружишься?» И у ней, как у Ситникова, вечно скребло на душе. Она говорила и двигалась очень развязно и в то же время неловко: она, очевидно, сама себя считала за добродушное и простое существо, и между тем, что бы она ни делала, вам постоянно казалось, что она именно это-то и не хотела сделать; все у ней выходило, как дети говорят – нарочно, то есть не просто, не естественно.
– Да, да, я знаю вас, Базаров, – повторила она. (За ней водилась привычка, свойственная многим провинциальным и московским дамам, – с первого дня знакомства звать мужчин по фамилии.) – Хотите сигару?
– Сигарку сигаркой, – подхватил Ситников, который успел развалиться в креслах и задрать ногу кверху, – а дайте-ка нам позавтракать, мы голодны ужасно; да велите нам воздвигнуть бутылочку шампанского.
– Сибарит, – промолвила Евдоксия и засмеялась. (Когда она смеялась, ее верхняя десна обнажалась над зубами.) – Не правда ли, Базаров, он сибарит?
– Я люблю комфорт жизни, – произнес с важностию Ситников. – Это не мешает мне быть либералом.
– Нет, это мешает, мешает! – воскликнула Евдоксия и приказала, однако, своей прислужнице распорядиться и насчет завтрака и насчет шампанского. – Как вы об этом думаете? – прибавила она, обращаясь к Базарову. – Я уверена, вы разделяете мое мнение.
– Ну нет, – возразил Базаров, – кусок мяса лучше куска хлеба даже с химической точки зрения.
– А вы занимаетесь химией? Это моя страсть. Я даже сама выдумала одну мастику.
– Мастику? вы?
– Да, я. И знаете ли, с какою целью? Куклы делать, головки, чтобы не ломались. Я ведь тоже практическая. Но все еще не готово. Нужно еще Либиха почитать. Кстати, читали вы статью Кислякова о женском труде в «Московских ведомостях? Прочтите, пожалуйста. Ведь вас интересует женский вопрос? И школы тоже? Чем ваш приятель занимается? Как его зовут?
Госпожа Кукшина роняла свои вопросы один за другим с изнеженной небрежностию, не дожидаясь ответов; избалованные дети так говорят с своими няньками.
– Меня зовут Аркадий Николаич Кирсанов, – проговорил Аркадий, – и я ничем не занимаюсь.
Евдоксия захохотала.
– Вот это мило! Что, вы не курите? Виктор, вы знаете, я на вас сердита.
– За что?
– Вы, говорят, опять стали хвалить Жорж Санда. Отсталая женщина и больше ничего! Как возможно сравнить ее с Эмерсоном! Она никаких идей не имеет ни о воспитании, ни о физиологии, ни о чем. Она, я уверена, и не слыхивала об эмбриологии, а в наше время – как вы хотите без этого? (Евдоксия даже руки расставила.) Ах, какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич! Это гениальный господин! (Евдоксия постоянно употребляла слово «господин» вместо «человек».) Базаров, сядьте возле меня на диван. Вы, может быть, не знаете, я ужасно вас боюсь.
– Это почему? Позвольте полюбопытствовать.
– Вы опасный господин; вы такой критик. Ах, Боже мой! мне смешно, я говорю, как какая-нибудь степная помещица. Впрочем, я действительно помещица. Я сама имением управляю, и, представьте, у меня староста Ерофей – удивительный тип, точно Патфайндер Купера: что-то такое в нем непосредственное! Я окончательно поселилась здесь; несносный город, не правда ли? Но что делать!
– Город как город, – хладнокровно заметил Базаров.
– Все такие мелкие интересы, вот что ужасно! Прежде я по зимам жила в Москве… но теперь там обитает мой благоверный, мсьё Кукшин. Да и Москва теперь… уж я не знаю – тоже уж не то. Я думаю съездить за границу; я в прошлом году уже совсем было собралась.
– В Париж, разумеется? – спросил Базаров.
– В Париж и в Гейдельберг.
– Зачем в Гейдельберг?
– Помилуйте, там Бунзен!
На это Базаров ничего не нашелся ответить.
– Pierre Сапожников… вы его знаете?
– Нет, не знаю.
– Помилуйте, Pierre Сапожников… он еще всегда у Лидии Хостатовой бывает.
– Я и ее не знаю.
– Ну, вот он взялся меня проводить. Слава Богу, я свободна, у меня нет детей… Что это я сказала: Впрочем, это все равно.
Евдоксия свернула папироску своими побуревшими от табаку пальцами, провела по ней языком, пососала ее и закурила. Вошла прислужница с подносом.
– А, вот и завтрак! Хотите закусить? Виктор, откупорьте бутылку; это по вашей части.
– По моей, по моей, – пробормотал Ситников и опять визгливо засмеялся.
– Есть здесь хорошенькие женщины? – спросил Базаров, допивая третью рюмку.
– Есть, – отвечала Евдоксия, – да все они такие пустые. Например, mon amie[80]80
Моя приятельница (фр.).
[Закрыть] Одинцова – недурна. Жаль, что репутация у ней какая-то… Впрочем, это бы ничего, но никакой свободы воззрения, никакой ширины, ничего… этого. Всю систему воспитания надобно переменить. Я об этом уже думала; наши женщины очень дурно воспитаны.
– Ничего вы с ними не сделаете, – подхватил Ситников. – Их следует презирать, и я их презираю, вполне и совершенно! (Возможность презирать и выражать свое презрение было самым приятным ощущением для Ситникова; он в особенности нападал на женщин, не подозревая того, что ему предстояло, несколько месяцев спустя, пресмыкаться перед своей женой потому только, что она была урожденная княжна Дурдолеосова.) Ни одна из них не была бы в состоянии понять нашу беседу; ни одна из них не стоит того, чтобы мы, серьезные мужчины, говорили о ней!
– Да им совсем не нужно понимать нашу беседу, – промолвил Базаров.
– О ком вы говорите? – вмешалась Евдоксия.
– О хорошеньких женщинах.
– Как! Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона?
Базаров надменно выпрямился.
– Я ничьих мнений не разделяю; я имею свои.
– Долой авторитеты! – закричал Ситников, обрадовавшись случаю резко выразиться в присутствии человека, перед которым раболепствовал.
– Но сам Маколей… – начала было Кукшина.
– Долой Маколея! – загремел Ситников. – Вы заступаетесь за этих бабенок?
– Не за бабенок, а за права женщин, которые я поклялась защищать до последней капли крови.
– Долой! – Но тут Ситников остановился. – Да я их не отрицаю, – промолвил он.
– Нет, я вижу, вы славянофил!
– Нет, я не славянофил, хотя, конечно…
– Нет, нет, нет! Вы славянофил. Вы последователь Домостроя. Вам бы плетку в руки!
– Плетка дело доброе, – заметил Базаров, – только мы вот добрались до последней капли…
– Чего? – перебила Евдоксия.
– Шампанского, почтеннейшая Авдотья Никитишна, шампанского – не вашей крови.
– Я не могу слышать равнодушно, когда нападают на женщин, – продолжала Евдоксия. – Это ужасно, ужасно. Вместо того чтобы нападать на них, прочтите лучше книгу Мишле De l’amour[81]81
О любви (фр.).
[Закрыть]. Это чудо! Господа, будемте говорить о любви, – прибавила Евдоксия, томно уронив руку на смятую подушку дивана.
Наступило внезапное молчание.
– Нет, зачем говорить о любви, – промолвил Базаров, – а вот вы упомянули об Одинцовой… Так, кажется, вы ее назвали? Кто эта барыня?
– Прелесть! прелесть! – запищал Ситников. – Я вас представлю. Умница, богачка, вдова. К сожалению, она еще недовольно развита: ей бы надо с нашею Евдоксией поближе познакомиться. Пью ваше здоровье, Eudoxie! Чокнемтесь! «Et toc, et toc, et tin-tin-tin! Et toc, et toc, et tin-tin-tin!!»
– Victor, вы шалун.
Завтрак продолжался долго. За первою бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвертая… Евдоксия болтала без умолку; Ситников ей вторил. Много толковали они о том, что такое брак – предрассудок или преступление, и какие родятся люди – одинаковые или нет? и в чем, собственно, состоит индивидуальность? Дело дошло наконец до того, что Евдоксия, вся красная от выпитого вина и стуча плоскими ногтями по клавишам расстроенного фортепьяно, принялась петь сиплым голосом сперва цыганские песни, потом романс Сеймур-Шиффа «Дремлет сонная Гранада», а Ситников повязал голову шарфом и представлял замиравшего любовника при словах:
И уста твои с моими
В поцелуй горячий слить.
Аркадий не вытерпел наконец. «Господа, уж это что-то на Бедлам похоже стало», – заметил он вслух.
Базаров, который лишь изредка вставлял в разговор насмешливое слово, – он занимался больше шампанским, – громко зевнул, встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вон вместе с Аркадием. Ситников вскочил вслед за ними.
– Ну что, ну что? – спрашивал он, подобострастно забегая то справа, то слева, – ведь я говорил вам: замечательная личность! Вот каких бы нам женщин побольше! Она, в своем роде, высоко нравственное явление.
– А это заведение твоего отца тоже нравственное явление? – промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение проходили.
Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного тыканья Базарова.









































