Текст книги "Дворянское гнездо. Отцы и дети (сборник)"
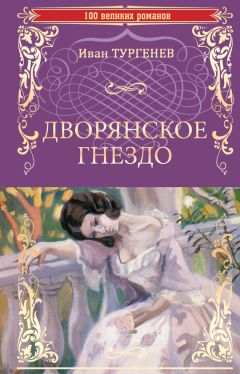
Автор книги: Иван Тургенев
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 26 страниц)
– А вам случалось видеть, что люди в моем положении не отправляются в Елисейские? – спросил Базаров и, внезапно схватив за ножку тяжелый стол, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с места.
– Сила-то, сила, – промолвил он, – вся еще тут, а надо умирать!.. Старик, тот по крайней мере успел отвыкнуть от жизни, а я… Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста! Кто там плачет? – прибавил он, погодя немного. – Мать? Бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом? А ты, Василий Иваныч, тоже, кажется, нюнишь? Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стоиком, что ли! Ведь ты хвастался, что ты философ?
– Какой я философ! – завопил Василий Иванович, и слезы так и закапали по его щекам.
Базарову становилось хуже с каждым часом; болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравах. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили; он еще боролся. «Не хочу бредить, – шептал он, сжимая кулаки, – что за вздор!» И тут же говорил: «Ну, из восьми вычесть десять, сколько выйдет?» Василий Иванович ходил как помешанный, предлагал то одно средство, то другое и только и делал, что покрывал сыну ноги. «Обернуть в холодные простыни… рвотное… горчишники к желудку… кровопускание», – говорил он с напряжением. Доктор, которого он умолил остаться, ему поддакивал, поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочки, то «укрепляющего-согревающего», то есть водки. Арина Власьевна сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по временам уходила молиться; несколько дней тому назад туалетное зеркальце выскользнуло у ней из рук и разбилось, а это она всегда считала худым предзнаменованием; сама Анфисушка ничего не умела сказать ей. Тимофеич отправился к Одинцовой.
Ночь была не хороша для Базарова… Жестокий жар его мучил. К утру ему полегчало. Он попросил, чтоб Арина Власьевна его причесала, поцеловал у ней руку и выпил глотка два чаю. Василий Иванович оживился немного.
– Слава Богу! – твердил он, – наступил кризис… прошел кризис.
– Эка, подумаешь! – промолвил Базаров, – слово-то что значит! Нашел его, сказал: «кризис» – и утешен. Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, и не прибьют, он опечалится; назовут его умницей и денег ему не дадут – он почувствует удовольствие.
Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние «выходки», привела Василия Ивановича в умиление.
– Браво! прекрасно сказано, прекрасно! – воскликнул он, показывая вид, что бьет в ладоши.
Базаров печально усмехнулся.
– Так как же, по-твоему, – промолвил он, – кризис прошел или наступил?
– Тебе лучше, вот что я вижу, вот что меня радует, – отвечал Василий Иванович.
– Ну, и прекрасно; радоваться всегда не худо. А к той, помнишь? послал?
– Послал, как же.
Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий Иванович сидел подле Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Он несколько раз собирался говорить – и не мог.
– Евгений! – произнес он наконец, – сын мой, дорогой мой, милый сын!
Это необычайное воззвание подействовало на Базарова… Он повернул немного голову и, видимо стараясь выбиться из-под бремени давившего его забытья, произнес:
– Что, мой отец?
– Евгений, – продолжал Василий Иванович и опустился на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть. – Евгений, тебе теперь лучше; ты, Бог даст, выздоровеешь; но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианина! Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно; но еще ужаснее… ведь навек, Евгений… ты подумай, каково-то…
Голос старика перервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное.
– Я не отказываюсь, если это может вас утешить, – промолвил он наконец, – но мне кажется, спешить еще не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше.
– Лучше, Евгений, лучше; но кто знает, ведь это все в Божьей воле, а исполнивши долг…
– Нет, я подожду, – перебил Базаров. – Я согласен с тобою, что наступил кризис. А если мы с тобой ошиблись, что ж! ведь и беспамятных причащают.
– Помилуй, Евгений…
– Я подожду. А теперь я хочу спать. Не мешай мне.
И он положил голову на прежнее место. Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы…
Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились легкие колеса; вот уже послышалось фырканье лошадей… Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика, запряженная четверней, въезжала двуместная карета. Не давая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости, он выбежал на крыльцо… Ливрейный лакей отворял дверцы кареты; дама под черным вуалем, в черной мантилье, выходила из нее…
– Я Одинцова, – промолвила она. – Евгений Васильич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора.
– Благодетельница! – воскликнул Василий Иванович и, схватив ее руку, судорожно прижал ее к своим губам, между тем как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках, с немецкою физиономией, вылезал не торопясь из кареты. – Жив еще, жив мой Евгений и теперь будет спасен! Жена! жена!.. К нам ангел с неба…
– Что такое, Господи! – пролепетала, выбегая из гостиной, старушка и, ничего не понимая, тут же в передней упала к ногам Анны Сергеевны и начала, как безумная, целовать ее платье.
– Что вы! что вы! – твердила Анна Сергеевна; но Арина Власьевна ее не слушала, а Василий Иванович только повторял: «Ангел! ангел!»
– Wo ist der Kranke?[108]108
Где больной? (нем.)
[Закрыть] И где же есть пациент? – проговорил наконец доктор не без некоторого негодования.
Василий Иванович опомнился.
– Здесь, здесь, пожалуйте за мной, вертестер герр коллега[109]109
Уважаемый коллега (нем.).
[Закрыть], – прибавил он по старой памяти.
– Э! – произнес немец и кисло осклабился.
Василий Иванович привел его в кабинет.
– Доктор от Анны Сергеевны Одинцовой, – сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына, – и она сама здесь.
Базаров вдруг раскрыл глаза.
– Что ты сказал?
– Я говорю, что Анна Сергеевна Одинцова здесь и привезла к тебе сего господина доктора.
Базаров повел вокруг себя глазами.
– Она здесь… я хочу ее видеть.
– Ты ее увидишь, Евгений; но сперва надобно побеседовать с господином доктором. Я им расскажу всю историю болезни, так как Сидор Сидорыч уехал (так звали уездного врача), и мы сделаем маленькую консультацию.
Базаров взглянул на немца.
– Ну, беседуйте скорее, только не по-латыни; я ведь понимаю, что значит: jam moritur[110]110
Уже умирает (лат.).
[Закрыть].
– Der Herr scheint des Deutschen mächtig zu sein[111]111
Сударь, по-видимому, владеет немецким языком (нем.).
[Закрыть], – начал новый питомец Эскулапа, обращаясь к Василию Ивановичу.
– Их… габе…[112]112
Я… имею… (нем.).
[Закрыть] – Говорите уж лучше по-русски, – промолвил старик.
– А, а! так этто фот как этто… Пошалуй…
И консультация началась.
Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного.
Она взглянула на Базарова… и остановилась у двери, до того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом; мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила – мгновенно сверкнула у ней в голове.
– Спасибо, – усиленно заговорил он, – я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали.
– Анна Сергеевна так была добра… – начал Василий Иванович.
– Отец, оставь нас. Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь…
Он указал головою на свое распростертое бессильное тело.
Василий Иванович вышел.
– Ну, спасибо, – повторил Базаров. – Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих.
– Евгений Васильич, я надеюсь…
– Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая шутка смерть, а каждому внове. До сих пор не трушу… а там придет беспамятство, и фьюить (Он слабо махнул рукой.) Ну, что ж мне вам сказать… я любил вас! это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь – форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная! И теперь вот вы стоите, такая красивая…
Анна Сергеевна невольно содрогнулась.
– Ничего, не тревожьтесь… сядьте там… Не подходите ко мне: ведь моя болезнь заразительная.
Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров.
– Великодушная! – шепнул он. – Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая… в этой гадкой комнате!.. Ну, прощайте! Живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта – как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет… Все равно: вилять хвостом не стану.
Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиться, не снимая перчаток и боязливо дыша.
– Меня вы забудете, – начал он опять, – мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет… Это чепуха; но не разуверяйте старика. Чем бы дитя ни тешилось… вы знаете. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать… Я нужен России… Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник… мясо продает… мясник… постойте, я путаюсь… Тут есть лес…
Базаров положил руку на лоб.
Анна Сергеевна наклонилась к нему.
– Евгений Васильич, я здесь…
Он разом принял руку и приподнялся.
– Прощайте, – проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. – Прощайте… Послушайте… ведь я вас не поцеловал тогда… Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет…
Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу.
– И довольно! – промолвил он и опустился на подушку. – Теперь… темнота…
Анна Сергеевна тихо вышла.
– Что? – спросил ее шепотом Василий Иванович.
– Он заснул, – отвечала она чуть слышно.
Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же наконец он испустил последний вздох и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. «Я говорил, что я возропщу, – хрипло кричал он, с пылающим, перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то, – и возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. «Так, – рассказывала потом в людской Анфисушка, – рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень…»
Но полуденный зной проходит, и настает вечер и ночь, а там и возвращение в тихое убежище, где сладко спится измученным и усталым…
XXVIII
Прошло шесть месяцев. Стояла белая зима с жестокою тишиной безоблачных морозов, плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледно-изумрудным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно укушенными лицами людей и хлопотливым бегом продрогших лошадок. Январский день уже приближался к концу; вечерний холод еще сильнее стискивал недвижимый воздух, и быстро гасла кровавая заря. В окнах марьинского дома зажигались огни; Прокофьич, в черном фраке и белых перчатках, с особенною торжественностию накрывал стол на семь приборов. Неделю тому назад, в небольшой приходской церкви, тихо и почти без свидетелей состоялись две свадьбы: Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой; а в самый тот день Николай Петрович давал прощальный обед своему брату, который отправлялся по делам в Москву. Анна Сергеевна уехала туда же тотчас после свадьбы, щедро наделив молодых.
Ровно в три часа все собрались к столу. Митю поместили тут же; у него уже появилась нянюшка в глазетовом кокошнике. Павел Петрович восседал между Катей и Фенечкой; «мужья» пристроились возле своих жен. Знакомцы наши изменились в последнее время: все как будто похорошели и возмужали; один Павел Петрович похудел, что, впрочем, придавало еще больше изящества и грансеньйорства его выразительным чертам… Да и Фенечка стала другая. В свежем шелковом платье, с широкою бархатною наколкой на волосах, с золотою цепочкой на шее, она сидела почтительно-неподвижно, почтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало, и так улыбалась, как будто хотела сказать: «Вы меня извините, я не виновата». И не она одна – другие все улыбались и тоже как будто извинялись; всем было немножко неловко, немножко грустно и, в сущности, очень хорошо. Каждый прислуживал другому с забавною предупредительностию, точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию. Катя была спокойнее всех: она доверчиво посматривала вокруг себя, и можно было заметить, что Николай Петрович успел уже полюбить ее без памяти. Перед концом обеда он встал и, взяв бокал в руки, обратился к Павлу Петровичу.
– Ты нас покидаешь… ты нас покидаешь, милый брат, – начал он, – конечно, ненадолго; но все же я не могу не выразить тебе, что я… что мы… сколь я… сколь мы… Вот в том-то и беда, что мы не умеем говорить спичи! Аркадий, скажи ты.
– Нет, папаша, я не приготовлялся.
– А я хорошо приготовился! Просто, брат, позволь тебя обнять, пожелать тебе всего хорошего, и вернись к нам поскорее!
Павел Петрович облобызался со всеми, не исключая, разумеется, Мити; у Фенечки он, сверх того, поцеловал руку, которую та еще не умела подавать как следует, и, выпивая вторично налитый бокал, промолвил с глубоким вздохом: «Будьте счастливы, друзья мои! Farewell!»[113]113
Прощайте! (англ.)
[Закрыть] Этот английский хвостик прошел незамеченным, но все были тронуты.
– В память Базарова, – шепнула Катя на ухо своему мужу и чокнулась с ним. Аркадий в ответ пожал ей крепко руку, но не решился громко предложить этот тост.
Казалось бы, конец? Но, быть может, кто-нибудь из читателей пожелает узнать, что делает теперь, именно теперь, каждое из выведенных нами лиц. Мы готовы удовлетворить его.
Анна Сергеевна недавно вышла замуж, не по любви, но по убеждению, за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердою волей и замечательным даром слова, – человека еще молодого, доброго и холодного как лед. Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья… пожалуй, до любви. Княжна X…я умерла, забытая в самый день смерти. Кирсановы, отец с сыном, поселились в Марьине. Дела их начинают поправляться. Аркадий сделался рьяным хозяином, и «ферма» уже приносит довольно значительный доход. Николай Петрович попал в мировые посредники и трудится изо всех сил; он беспрестанно разъезжает по своему участку; произносит длинные речи (он придерживается того мнения, что мужичков надо «вразумлять», то есть частым повторением одних и тех же слов доводить их до истомы) и все-таки, говоря правду, не удовлетворяет вполне ни дворян образованных, говорящих то с шиком, то с меланхолией о манципации (произнося ан в нос), ни необразованных дворян, бесцеремонно бранящих «евту мунципацию». И для тех и для других он слишком мягок. У Катерины Сергеевны родился сын Коля, а Митя уже бегает молодцом и болтает речисто. Фенечка, Федосья Николаевна, после мужа и Мити никого так не обожает, как свою невестку, и когда та садится за фортепьяно, рада целый день не отходить от нее. Упомянем кстати о Петре. Он совсем окоченел от глупости и важности, произносит все е как ю: тюпюрь обюспючюн, но тоже женился и взял порядочное приданое за своею невестой, дочерью городского огородника, которая отказала двум хорошим женихам только потому, что у них часов не было: а у Петра не только были часы – у него были лаковые полусапожки.
В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества. Это Павел Петрович. Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья и остался на жительство в Дрездене, где знается больше с англичанами и с проезжими русскими. С англичанами он держится просто, почти скромно, но не без достоинства; они находят его немного скучным, но уважают в нем совершенного джентльмена, «a perfect gentleman». С русскими он развязнее, дает волю своей желчи, трунит над самим собой и над ними; но все это выходит у него очень мило, и небрежно, и прилично. Он придерживается славянофильских воззрений: известно, что в высшем свете это считается très distingué[114]114
Весьма почтенным (фр.).
[Закрыть]. Он ничего русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя. Наши туристы очень за ним волочатся. Матвей Ильич Колязин, находящийся во временной оппозиции величаво посетил его, проезжая на богемские воды; а туземцы, с которыми он, впрочем, видится мало, чуть не благоговеют перед ним. Получить билет в придворную капеллу, в театр и т. д. никто не может так легко и скоро, как der Herr Baron von Kirsanoff[115]115
Господин барон фон Кирсанов (нем.).
[Закрыть]. Он все делает добро, сколько может; он все еще шумит понемножку: недаром же был он некогда львом; но жить ему тяжело… тяжелей, чем он сам подозревает… Стоит взглянуть на него в русской церкви, когда, прислонясь в сторонке к стене, он задумывается и долго не шевелится, горько стиснув губы, потом вдруг опомнится и начнет почти незаметно креститься…
И Кукшина попала за границу. Она теперь в Гейдельберге и изучает уже не естественные науки, но архитектуру, в которой, по ее словам, она открыла новые законы. Она по-прежнему якшается с студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которыми наполнен Гейдельберг и которые, удивляя на первых порах наивных немецких профессоров своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютною ленью. С такими-то двумя-тремя химиками, не умеющими отличить кислорода от азота, но исполненными отрицания и самоуважения, да с великим Елисеевичем Ситников, тоже готовящийся быть великим, толчется в Петербурге и, по его уверениям, продолжает «дело» Базарова. Говорят, его кто-то недавно побил, но он в долгу не остался: в одной темной статейке, тиснутой в одном темном журнальце, он намекнул, что побивший его – трус. Он называет это иронией. Отец им помыкает по-прежнему, а жена считает его дурачком… и литератором.
Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружавшие его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашенными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два-три ощипанных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам… Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлые старичка – муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку елки поправят, и снова молятся и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем… Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…
1861









































