Текст книги "В социальных сетях"
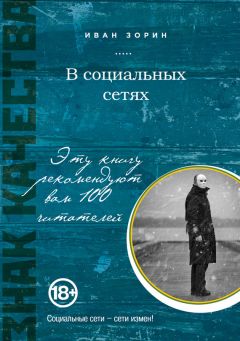
Автор книги: Иван Зорин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Иван Зорин
В социальных сетях
© Зорин И., текст, 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
* * *
Обыкновенная история
Модест Одинаров так и не узнал, кто включил его в интернет-группу. «Верно, начальство», – решил он, получив уведомление по электронной почте, и послушно перешел по ссылке. Был вечер, Модесту Одинарову хотелось спать, он вяло просматривал сайт, пробегая глазами комментарии, пока не наткнулся на заставивший его вздрогнуть. «А что думает Модест Одинаров?» – писала некая Ульяна Гроховец. «Или сослуживцы разыгрывают? – скривился Модест Одинаров, гадая, кто мог за этим стоять. Он с удивлением обнаружил, что ему завели личную интернет-страницу, где указано его место жительства и от которой прислали пароль. – А с возрастом ошиблись, думают, я моложе». Модест Одинаров жил в большом городе, работал в крупной компании, где его приучили все доводить до конца, не откладывая в долгий ящик. Глаза уже слипались, он решал, лечь ли в пижаме, оставив на ночь форточку, или голым, плотно ее закрыв, но, прежде чем покинуть страницу, ответил: «Полностью с вами согласен». И нажал на кнопку «Мне нравится».
У Модеста Одинарова был ранний брак. И такой же ранний развод, после которого он в одиночестве грыз добытый в поте лица хлеб, копил деньги и мечтал о пенсии. «Начну жить», – подмигивал он себе в зеркале, представляя домик на морском берегу, раскладной полосатый шезлонг под платаном и белый песок, который, поднимая, ввинчивает в пустынный пляж ласковый южный ветер. Каждый день рождения, каждый отложенный рубль приближали Одинарова к мечте, ему казалось, что уже не за горами то время, когда он, как в детстве, сможет, склонившись набок, швырять в море плоские камни, которые будут скакать по волнам, выпрыгивая, как летучие рыбы, или, сложив ладони у рта, вдруг закричать первое, что придет на ум, а ответом будет только долгое насмешливое эхо. Модест Одинаров жил на последнем этаже, забившись, как воробей, под крышу, и мечтал о будущем без надрывного будильника, городских пробок и вечно недовольного начальства. В выходные он вышагивал по бульвару, кормил со скамейки голубей, а встречая знакомых, опускал глаза.
– Модест? – окликнули его раз на улице.
Одинаров кивнул, собираясь перейти на другую сторону.
– Не узнал? – тронули его за локоть. – А ведь за одной партой сидели. – На Одинарова уставились красные, рыбьи глаза. – Я тебе еще списывать давал.
– И что?
Усмехнувшись, однокашник погладил седую щетину:
– Выпить хочется, а денег нет.
Одинаров, не глядя, протянул мелочь.
– А жизнь-то налаживается! – В руках у однокашника появилась бутылка. – Составишь компанию?
Одинаров покачал головой.
– А раньше не отказывал. Помнишь, как с уроков сбегали? Как нам не продавали пиво и приходилось прохожих просить? Ты еще говорил, что тебя отец послал. Эх, были времена! Может, передумаешь? Посидели бы, поговорили. Ты когда в последний раз разговаривал?
– Не помню.
– Вот видишь! А у меня столько наблюдений.
Запрокинув голову, он стал пить из бутылки, держа ее одними зубами, потом, дернув шеей, отшвырнул пустую:
– Заметил, что никакая борода не прикроет лысины?
Одинаров промолчал.
– А что сегодняшняя жизнь не заменит прежней?
– Значит, не работаешь?
– А зачем? Ты вкалываешь за двоих! Правда, пользы от твоей работы ноль. А какие надежды подавал! Стихи писал, а теперь, как слепой, от привычных стен ни на шаг. Как случилось, что живешь через силу?
Одинаров вздохнул. Однокашник повесил на губе сигарету, но зажигать не стал.
– А ты в бога веришь?
– Нет.
– И не страшно?
Одинаров пожал плечами.
– Не пьешь, не куришь и в бога не веришь. Мне тебя жаль.
– Не лги! – взвился вдруг Одинаров. – Никому никого не жаль! Никому!
Однокашник расхохотался, потом, вложив в рот пальцы, по-мальчишески засвистел, как давным-давно, когда, стоя под окном, вызывал Модеста из дома.
– Сейчас выйду, – как и прежде, отозвался Модест Одинаров. – Через пять секунд.
– Приходи, я жду, – серьезно ответил однокашник, вдруг почернев, как земля.
И Модесту Одинарову стало страшно, он уже не узнавал однокашника и не мог понять, в каком времени находится. И тогда он закричал. Он кричал, пока не проснулся от своего крика. Потом, вытянув руку из-под одеяла, по привычке утопил кнопку будильника и еще долго лежал в постели, глядя в потолок и вспоминая, как год назад хоронил приснившегося ему однокашника. Лил дождь, и в гроб летели крупные капли, стекая по лицу у покойника. Казалось, будто он плакал, а когда поплыл наложенный в морге макияж, пришлось торопливо опустить крышку. Свое имущество однокашник успел пропить, так что, собирая на похороны, пустили шапку по кругу. Круг оказался узким. Он состоял из одного Модеста Одинарова.
Сквозь пыльное окно едва пробивался рассвет, и утро обещало быть как скисшее молоко. Ничего не хотелось, все казалось пустым и никчемным. В такие дни стреляются или напиваются до бесчувствия. Полину Траговец от подобного спасала мать. «Ты не имеешь права думать о себе, – говорила она хорошо поставленным голосом бывшей учительницы. – У тебя на руках престарелая мать». Цепляясь за жизнь, мать по кусочку кромсала дни, отведенные дочери, приспосабливая их к своим. «Не кормит», – пуская слезу, жаловалась она соседям, так что на Полину в подъезде смотрели осуждающе. Годы шли, а жизнь у Полины все не начиналась. Когда-то у нее были женихи, но мать быстро всех отвадила. «Он тебе не пара, – говорила она в далекой Полининой молодости, а потом, когда у дочери появились первые морщины, добавляла: – Потерпи, уже недолго, выскочишь тогда за кого хочешь». И Полина осталась синим чулком. Изо дня в день она ходила на работу, готовила матери ужин и, слушая старческое брюзжание, думала о своем. У каждого есть тайна, и Полина была влюблена в одинокого жильца с верхнего этажа. Встречая его в лифте, она краснела как девочка, отворачивалась к зеркалу, в котором отражалось его строгое лицо с суровыми складками, и молилась, чтобы он с ней заговорил. Она и сама тысячи раз подбирала слова, с которыми обратится к нему, выстраивала их в единственно верной последовательности, делавшей их неотразимыми, как стрелы, но в лифте они вылетали из головы. А Модест Одинаров не обращал на нее внимания. Однажды она увидела его с ноутбуком под мышкой, и это натолкнуло ее на мысль – раз у нее не получается завести знакомство в реальности, значит, можно попробовать начать отношения с Интернета. Разыскав его почтовый адрес, она завела Модесту Одинарову личный аккаунт и включила его в свою интернетовскую группу.
Раз в неделю, в среду или четверг, Модест Одинаров ходил к немолодой кривозубой проститутке. Побыв полчаса, он расплачивался, выкладывая деньги на растрескавшийся комод. Она не знала его имени, он ее. «Точно звери», – спускаясь по лестнице, думал Модест Одинаров. Но такие отношения его устраивали, распрощавшись с молодостью, проститутка брала недорого, к тому же постоянным клиентам делала скидки.
– А у меня вчера отец умер, – как-то сказала она сдавленным голосом.
– Да? – задержался в дверях Одинаров и, не зная, что сказать, стал мять шляпу.
– Бросил он нас, – вздохнула проститутка. – Я тогда под столом проходила, и с тех пор мы не виделись. Помню, с матерью они все время ругались, он заначки от нее делал, она от него гуляла.
Одинаров надел шляпу.
– А на похороны я не пойду, – показала хозяйка свои кривые зубы. – Пусть как жил бобылем, так завтра один и управляется.
За дверью Модест Одинаров сплюнул на половик.
«Хорошо, что не завели детей, – вспоминал он свою короткую семейную жизнь. – До сих пор бы расплачивался».
Хлопнув парадной, он еще раз сплюнул и быстро зашагал по улице.
Женился Модест Одинаров на однокурснице, влюбившись без памяти. В их романе было все: соловьиные ночи, стихи, которые он ей посвящал, уличный фонарь, льнувший к изголовью кровати в дешевой гостинице, были ночи, рассказывать о которых можно целые дни, и дорога к венцу, устланная розами.
«Банальная история, – повторял Модест Одинаров, когда жена ушла к его приятелю. – Сам виноват, зря познакомил».
Приятель работал тренером по теннису и, когда был без ракетки, непрерывно крутил мяч короткими крепкими пальцами.
– Ты мямля, – собирая чемоданы, бросала жена Одинарову, закрывшему голову руками. – И сам об этом знаешь.
– Ты мямля, – подтвердил на другой день приятель, зашедший расставить все по местам. – И об этом все знают.
Он с размаху стукнул мячом об пол, так что тот ударился о потолок, и, задрав голову, ловко поймал его растопыренной ладонью.
– Я мямля, – согласился Модест Одинаров, обводя взглядом разом опустевшую комнату; он только сейчас заметил, что приятель давно ушел.
Он открыл окно на балкон, глядел на сновавших внизу прохожих, загибал пальцы, точно гадая, сколько еще из них знают открывшуюся ему истину, потом убрал разбросанные женой вещи, сменил замки, спустив ключи от прежних в мусоропровод, и переселился на другую планету, где не было ни жен, ни приятелей, ни любви.
С годами жизнь Модеста Одинарова вошла в свое одинокое русло, когда живут уже по привычке, не спрашивая себя зачем, не загадывая наперед и не оглядываясь назад, всецело отдаваясь текущему мгновенью, которое как две капли похоже на прошедшее. По субботам он спал как убитый, без страхов, без сновидений, а по воскресеньям просыпался с тем горьковатым вкусом во рту, который появляется, когда снится сатана. Но Модесту Одинарову снился его начальник, молодой, лысоватый, носивший глаза как очки, сквозь которые смотрел оценивающе, точно ювелир через лупу, и пока дело не касалось прибыли, безмолвный, как книга. От долгого, привычного молчания губы у него склеивались, как запечатанный конверт, а когда он что-то произносил, трескались, будто спелый стручок, вываливая наружу горошины слов, которые, перекатываясь, разбегались в разные стороны, точно доказывая, каких трудов стоило ему составить из них предложение. Во сне начальник распекал Модеста Одинарова за упущенную возможность заработать для компании лишний рубль. То и дело вынимая двумя пальцами запотевшие глаза-очки, он протирал их чернильной промокашкой, пока, смущенный его внезапным молчанием больше, чем речами, Модест Одинаров виновато втягивал голову в плечи. А потом начальник, указывая на дверь, бросал одно слово: «Уволен!» Открывая глаза, Модест Одинаров сглатывал слюну и думал, что сон вещий и, возможно, сбудется уже завтра, в понедельник. Чтобы развеять дурное предчувствие, он быстро завтракал и, завернув в газету почерствевший за ночь батон, спускался на бульвар кормить голубей. Это занятие действовало на него расслабляюще, он смотрел по сторонам – вот прошла на шпильках блондинка, такая высокая, что казалось, будто под джинсами у нее спрятаны ходули; вот на соседнюю лавку опустился старик с трясущимися руками, про которых говорят «он дышит на ладан», с проступавшими, как реки, венами, и, развернув газету, погрузился в статью о здоровом образе жизни. Эти наблюдения убеждали Модеста Одинарова, что он не более чудаковат, чем остальные, и потому ничто не может нарушить его сонной безмятежности. Но однажды он вернулся с воскресной прогулки сам не свой. У него тряслись руки, и, наливая чай, он разбил чашку. Расхаживая по комнате, он пожалел, что не завел кошку, на которой можно сорвать злость, потом, зацепив ногой табурет, сел за компьютер и, зайдя в интернет-группу, куда был недавно приглашен, быстро отстучал:
«Я кормил на бульваре голубей, потихоньку отщипывая хлеб от лежавшего рядом батона. Было пасмурно и безлюдно. А потом появился он. Даже не он, а его собака. Огромный питбуль со свинячьим хвостом. Рычаньем разогнал голубей. Положив лапы на скамейку, стал обнюхивать батон.
– Уберите пса, – как можно спокойнее сказал я.
Толстый мордатый хозяин расплылся в улыбке:
– Не боись, не укусит.
Собака стала грызть хлеб.
– Чарли, фу! – ласково окрикнул мордатый. – Оставь старику горбушку.
Я не смел шелохнуться. Собачник прошел мимо, тихим свистом подзывая животное.
– Намордник надевать надо, – прошептал я вдогон одними губами.
– Кому? – нагло обернулся он.
И, заржав, пошел по аллее. Я готов был его убить! И почему я должен терпеть? Потому что трус? А сколько было таких обид! Сколько раз я уступал! О, как сладко было бы видеть его мозги, которые клюют голуби!»
Опубликовав сообщение, Модест Одинаров успокоился. Взяв веник, он замел на кухне осколки разбитой посуды, а когда вернулся, его ждал короткий комментарий:
«Зря его не убил. А за ним и собаку».
Совет был подписан: «Раскольников».
«Ну, это уже слишком», – подумал Модест Одинаров. И тут же, словно его мысли читали, появилось:
«Боишься? А если б не боялся? И знал, что за это ничего не будет?»
Вместо ответа Модест Одинаров исправил на своей странице возраст, вписал в графу семейного положения: «Разведен», а в религиозные взгляды: «Не знаю».
Полина Траговец прочитала сообщение Модеста Одинарова, и ее охватила жалость. Она представила его маленьким ребенком, которого обижают сверстники, и почувствовала к нему материнскую нежность.
Внизу, на первом этаже его дома, был магазин, с витринами больше его квартиры, светящимися по вечерам неоновой рекламой. В детстве Модест часто заходил в него и, прислонившись щекой к холодному кафелю в отделе живой рыбы, долго смотрел на блестевших чешуей морских чудищ, тесно плававших в огромном аквариуме, на стоявший рядом сачок с крупными ячейками, которым усатый продавец вытаскивал их и, оглушив прежде деревянной колотушкой, взвешивал, положив на чашку тяжелую гирю, чтобы после завернуть в промасленную бумагу. «И рыбы не знают, что их ждет, – думал Модест. – А может, и мы выставлены на продажу?»
Десятилетиями магазин не менялся: казалось, даже сачок с рваной сетью был прежним, и те же рыбы обреченно плавали в аквариуме. «Все проходит, но ничего не меняется, – зайдя за продуктами, каждый раз думал Модест Одинаров. – Мы исчезнем, а все так и останется». Раз он на мгновенье задержался у аквариума, и крупная рыбина, чуть его не забрызгав, выпрыгнула из воды, шумно плюхнувшись под ноги. Она ожесточенно билась, оставляя на пыльном кафеле мокрые следы, выскальзывала из рук подоспевшего продавца, пока он не оглушил ее двумя ударами колотушки. «Эта наша свобода», – отвернулся Модест Одинаров.
Была весна, капель стучала по карнизам, разрезая грязный снег, на улицах бежали ручьи. Возвращаясь с работы, Одинаров долго смотрел на оторванную водосточную трубу, круживший под ней дождь, который бил по луже, потом, как был в одежде, встал под него, обжигаясь холодными каплями. Насквозь промокший, он поднялся по лестнице к себе под крышу, сбросил в прихожей одежду, стаптывая ее ногами, и голый бросился к компьютеру. В группе он оставил следующее:
«У начальника заболела секретарша, и в обеденный перерыв он, не отрываясь от бумаг, бросил: «Сварите кофе, дружище». А он вдвое моложе! И почему я не плеснул ему кофе в лицо? Может, взять отпуск?»
Комментарии не заставили ждать.
«Есть на примете хороший психиатр? – интересовался некто Олег Держикрач. – Могу порекомендовать».
«Не тратьте зря нервы, – успокаивал некто Иннокентий Скородум. – Начальство не переделать».
«Правильно, что сдержался, – выразил мнение Раскольников. – Лучше его в подъезде замочить. Научить как?»
Полина Траговец читала и не верила глазам. Мужчина, которого она встречала в лифте, казался ей раньше сильным и уверенным. Но таким, болезненно ранимым и беззащитным, как подснежник, он нравился ей даже больше. Какие могут быть препятствия? Чего она ждет? Полину Траговец снова охватила материнская нежность, ей захотелось постучать в квартиру на последнем этаже, признаться хозяину в любви и, прижавшись к груди, разделить его одиночество. Но ее остановило предупреждение администратора:
«Напоминаю, что в правилах нашей группы значится отсутствие личных встреч ее участников. Конечно, мы не можем этого проверить, но надеемся на вашу порядочность». И Полина Траговец ограничилась словами:
«Все терпят, все подчиняются. До тех пор пока внутри не просыпается человек. Тогда всё посылают к чертовой бабушке, кардинально меняя жизнь. Может, ваш час пробил?» Комментарий она подписала «Ульяна Гроховец». На аватару Полина Траговец прицепила стриженную под каре улыбавшуюся женщину, фото которой выудила в бескрайних водах Интернета. Та была лет на двадцать моложе, и Полина Траговец даже в ее возрасте не смеялась так искренне, но ее это не смутило – какая разница, как выглядеть Ульяне Гроховец, которой нет?
Прочитав ее комментарий, Модест Одинаров вспомнил университет, который окончил с красным дипломом, вспомнил грандиозные планы и не мог понять, почему стал бухгалтером и полжизни просидел в офисе. Он кивал, думая, что ему давно осточертело считать чужие деньги, и снова представлял каштаны, провисший под его тяжестью гамак и домик на море. А чего ждать? Может, плюнуть на работу, продать квартиру и уехать? Модест Одинаров повернулся к зашторенному окну, закрыл глаза и почувствовал щекой легкий бриз.
Полина Траговец и сама не знала, почему так написала Одинарову.
– Холодильник опять пустой, – доносился из-за стены скрипучий старческий голос. – Голодом меня моришь.
– А твои любимые пельмени?
– Они просрочены. Отравить меня хочешь?
Полина Траговец со вздохом одевалась и шла в магазин. А в группе превращалась в Ульяну Гроховец. Здесь ей хотелось быть смелой, раскрепощенной, хотелось отчаянно кокетничать и сорить деньгами. Она представляла себя то светской львицей, то дорогой путаной, кружившей головы знаменитостям, которых видела по телевизору. «Двести граммов колбасы, – пробивала она в кассе. – И бутылку кефира». А по дороге вспоминала свои восемнадцать лет, длинную девичью косу, которой завидовали одноклассницы, ухажеров, стоявших под окнами с цветами, свое белое платье, кружившееся в танце на выпускном балу, и понимала, что это – воспоминания мертвеца. Сожаление об упущенных годах, проведенных около властной полоумной матери, заставляло ее жить фантазией, упрямо играя роль Ульяны Гроховец.
«Я долго была в плену обстоятельств, – писала она, смахивая слезы, капавшие на клавиатуру. – Пока в один прекрасный момент не стала другой, осознав, что жизнь проходит, что она бесценна и судьба находится в моих руках. Бросив все, я уехала в другую страну, без языка, без знакомых, без средств к существованию. Я нарочно выбрала место за семью морями, купив билет в один конец, зная, что денег на обратную дорогу мне никто не даст. Я сожгла мосты, заняв у кого только можно, уверенная, что не верну. Я – дрянь? Возможно. Но жизнь одна! К тому же судьба оказалась ко мне благосклонной, и вскоре я выслала всем деньги. Я написала «судьба»? Ерунда! Я кусалась, изворачивалась, хитрила, как животное, загнанное в угол. И мне удалось. Мы себя не знаем, когда встает вопрос о выживании, в нас пробуждаются неведомые силы. Я меняла мужей чаще, чем любовников, а кавалеров – как перчатки. Я выучила множество языков, забыв родной, о чем совершенно не жалею. Иногда мне приходилось спать на морской пристани, прямо на досках, так что во сне, когда рука соскальзывала в воду, ее обжигали медузы, но чаще она обнимала подушки в пятизвездочных отелях. Я пускалась во все тяжкие – была девушкой по вызову и, продавая тело, торговала заодно наркотиками. Один раз, спасаясь от полиции, я попала в руки бандитов, в другой, убегая от бандитов, я в течение суток сменила пять стран, но в конце концов отдалась под защиту полиции. Обо мне писали газеты, так что к славе я привыкла даже быстрее, чем к безвестности. Сейчас я богата, независима. И всего достигла сама! А знаете, что подтолкнуло меня? Безногий калека! Тысячи раз я проходила мимо церкви, подавая ему мелочь, а тут меня словно пронзило: «Господи, мне же дьявольски повезло, раз я иду по жизни на двух ногах!» Так почему я стою с ним рядом? Почему не ушла далеко-далеко? Может, вам тоже пора?»
Прежде чем поместить комментарий, Полина долго смотрела на экран. Разве в ее истории не видно фальши? Разве секрет, что падчерице никогда не стать золушкой? Чтобы отбросить сомнения, Полина Траговец нажала на кнопку «Опубликовать».
С каждым годом Модест Одинаров делал шаг по лестнице в небо, и ему уже казалось, что он видит все, как мальчишка, залезший на крышу. Мир перед ним лежал как на ладони, в нем все было просто и ясно: сильных любят, слабых топчут, а богатым все можно. Однако в группе он столкнулся с новыми людьми и понял, что видел не мир, а мирок. «Мир огромный, – думал он, – но его не надо бояться». Он стал всерьез размышлять о том, чтобы завербоваться в какую-нибудь дальнюю экспедицию – мыть золото или искать нефть. Иногда, как в детстве, когда разглядывал географический атлас, он представлял, что уедет в жаркие страны, где растут пальмы, и станет охотником на львов. «Какая глупость», – краснел он. А потом снова возвращался в мыслях к забытому богом углу, джунглям или прериям, где видел себя среди скачущих на мустангах туземцев. Ночами по стенам бегали лиловые пятна от дрожавшей занавески, а узкие полоски света от проезжавших машин, расширяясь, вдруг охватывали весь потолок, и Модест Одинаров, глядя на них, видел пылинку, летевшую в необъятных космических просторах. У него прорезался третий глаз, которым он видел своего начальника, тратившего молодость неизвестно на что, видел свою заросшую бурьяном могилу, на которую будет некому принести цветы. Модест Одинаров запускал тогда в стену подушкой, и тишину в его комнате разрезал смех, похожий на звон разбившегося стекла. Засыпал он, когда ночь шла уже на убыль, а утром, тщательно намыливая кисточкой ввалившиеся щеки, так что пена густо стекала на подбородок, видел в зеркале чужое лицо, неподвижное, истрепанное, будто на портрете, исхлестанном ветром, иссеченном дождем и задвинутом в глубь антикварной лавки. Оно проступало словно из тени, бесцветное, тусклое, и только глаза чернели на нем, как угольки. Модест Одинаров по-прежнему ходил на работу, а прогулки совершенно забросил, вечерами жадно припадая к монитору. Он читал о чужих жизнях, как в детстве примеряя их на свою, делился своим одиночеством, отчаянием, рассказывал о тайных желаниях, которые, облекаясь в слова, становились ясными ему самому, он откровенничал с теми, кто был за тридевять земель, но заменил ему близких.
Однажды бессонной ночью Модест Одинаров долго смотрел на мигавшие за окном звезды, несколько раз ходил на кухню пить чай, а потом, сев за клавиатуру, написал:
«В детстве меня отправили раз в летний лагерь, где я посреди срока сильно простудился. Мне прописали горькую микстуру, постельный режим и отселили в отдельный бокс. Хорошо помню маленькие окна, завешенные от жары марлей, ползавших по ней мух, обои со всадниками, которые скакали вместе с моей температурой, помню доносившиеся крики моих товарищей, гонявших мяч, так что у них не было времени меня навестить. В своей одиночке я чувствовал себя как в зачумленном бараке, став неприкасаемым, наблюдал со стороны жизнь, которую вел еще вчера, – вот пошли строем завтракать, вот лагерь стих, значит, всех повели на реку, вот звучит горн, объявляя тихий час. Выпав из привычного распорядка, как птенец из гнезда, я чуть не плакал, ощущая себя брошенным, забытым, ненужным. Я вдруг стал лишним в счастливом прекрасном мире, от которого был отгорожен стенами изолятора. Иногда мне кажется, я до сих пор из него не вышел».
Это понравилось Иннокентию Скородуму и Ульяне Гроховец.
«А спорим, что, видя утром твои мокрые простыни, все думали, будто у тебя энурез, а это ты всю ночь плакал, повторяя: «Я неудачник, я неудачник…»?» – написал Раскольников.
Модест Одинаров промолчал.
«У меня бывает сходное ощущение, – поделился Олег Держикрач. – И как вы с ним боретесь?»
Его искренность предполагала ответную, и в приступе откровения Модест Одинаров застучал по клавиатуре, то и дело заливая ее остывшим чаем:
«Признаться, никак, спасает работа, как мельничный жернов на шее».
Дождливой ночью, прижавшись лбом к холодному стеклу, он смотрел на расплывшееся внизу море огней, в котором у него появились знакомые, и гадал, в каком окне они живут, а так как они могли жить в любом, ему становились небезразличны все. Модест Одинаров теперь с особенной ясностью осознавал, что все пройдет бесследно, как капли, стекавшие по стеклу, вспоминал свои юношеские переживания, бесконечно далекие теперь, и не понимал, отчего придавал им такое значение. «Думал о себе много». Он оперся о подоконник, чувствуя, как барабанит по лбу холодный дождь, и видел себя витязем на развилке, которого, пойди он направо или налево, ждет тупик. «А к чему нерешительность, раз все равно умру?»
За долгие годы Модест Одинаров впервые почувствовал себя будто в семье, о которой всю жизнь мечтал и которую так и не создал, а с Ульяной Гроховец у него завязалась личная переписка. Он поведал ей о своей жизни, она – о своей мечте.
«Вы мне верите? – не выдержала раз она. – Верьте, иначе писать бессмысленно».
«Для меня вы такая, какой представились, – ответил он. – Да и зачем вам лгать?»
Прочитав, Полина Траговец залилась краской. Она уже пожалела, что все это затеяла, но отступать было некуда.
«Вчера прилетела с островов. В самолете так трясло, что, кажется, я до сих пор прыгаю на батуте. Среди кокосовых пальм был у меня очаровательный мулат. Мы занимались любовью по три раза на дню, а ночью прямо в постели, как волки, набрасывались на еду. На мгновенье я даже потеряла голову. Страсть опасна, рискуешь испортить жизнь. Не попрощавшись, я упаковала чемоданы и улетела первым же рейсом. Советую и вам почаще наступать себе на горло!»
Так вела себя Ульяна Гроховец. А из Полины Траговец мать сделала безопасного врага, которым забавлялась, как бумажным тигром.
– Ты стала несносной, – дразнила она дочь, помешивая на кухне овощной суп. – Все время перечишь. Убить меня хочешь?
– Что за выдумки, мама.
– Ну, вот опять! Я знаю, ждешь моей смерти, чтобы привести мужчину.
– Это неправда!
– Тогда скажи, что любишь свою мамочку.
– Ты же знаешь, что люблю и мне больше никто не нужен.
Натянув улыбку, Полина поцеловала дряблую щеку, провела ладонью по седым растрепанным космам, а закрывшись в комнате, зарыдала в подушку. Она думала, что ее жизнь прошла, так и не начавшись, бормоча в утешение, что все несут свой крест, оттого что некуда пойти. Дождавшись, пока за стенкой стихнет старческое брюзжание, она включила компьютер и, все еще всхлипывая, написала:
«Главное – не стать жертвой, а для этого не надо жалеть себя».
Это понравилось Модесту Одинарову и некоему Сидору Куляшу.
По утрам Модест Одинаров по-прежнему громко включал радио, до синевы брился, отстукивая по рулю услышанную мелодию, торчал в пробках, а на работе ненавидел начальство. Но день пролетал незаметно, ему удавалось зайти в Интернет и оставить сообщение, так что возвращался он, предвкушая комментарии. После работы он раньше тщательно готовил себе пищу, раскладывая по тарелке мелко нарезанный укроп, жарил стейк или цыпленка, а садясь за стол, вспоминал одно и то же.
– Даже мертвецы высыхают, потому что перестают есть, – кормила его с ложки мать, когда он оставлял еду на тарелке. – От голода они грызут себя изнутри.
– Как мертвецы у Гоголя? – храбрился он, но от ужаса глотал, не разжевывая, большие куски. – У них желтые кости и длинные ногти, мы в школе проходили.
– Вот именно, разве ты хочешь стать таким?
Эта всплывавшая в памяти сцена вызывала у Модеста Одинарова улыбку, расцветавшую кактусом в пустыне его одиночества. И после ужина он засыпал с ней, бросив на кухне грязную посуду.
Но теперь, после вступления в интернет-группу, Модест Одинаров быстро кипятил чайник и, жуя бутерброд, садился к монитору.
«Рядом не всегда близкий, – сообщил он открывшуюся ему истину. – Близкие могут быть и далеко».
«Верно», – подтвердила Ульяна Гроховец.
«Ближние твои враги», – пошел еще дальше Иннокентий Скородум.
Они обменялись смайликами, отметив его пост как понравившийся, и от этого у Модеста Одинарова потеплело на душе.
Кривозубую проститутку Модест Одинаров больше не посещал, а вспоминая свои визиты к ней, готов был провалиться – ему делалось стыдно за свое одиночество, за дурную привычку, с которой он не расстался в детстве, а перенес во взрослую жизнь, встречаясь без любви. Но теперь все было иначе: выйдя из пустыни, он сбросил, наконец, бремя одиночества и, расправив плечи, почувствовал себя помолодевшим на сто лет. Теперь он все чаще рассматривал глянцевые журналы, предлагавшие недвижимость, которые покупал по дороге на работу. Выбирая себе дом, он представлял, как разошлет приглашение в группу, отметив новоселье с ее членами. «Какими они окажутся? – гадал он, мечтательно листая страницы. – Не разочаруют ли?» И твердо решил не тянуть с покупкой дома. По крышам уже зашагали короткие июньские дожди, асфальт расчертили мелом для игры в «классики», а на подоконниках стали засыхать фикусы, которые по привычке поливали, как зимой. Застряв в пробке, Модест Одинаров через опущенное стекло вяло переругивался с водителем красного автомобиля, как вдруг у него кольнуло в боку. На здоровье он никогда не жаловался и не придал этому никакого значения. На следующий день боль повторилась. «Срочно сдайте анализы», – осмотрев его, нахмурился врач. Анализы оказались плохими. Модест Одинаров тупо уставился на фонендоскоп, змеей свисавший на белом халате, не понимая, что ему говорят.
– Сколько осталось? – выдавил он одними губами, когда повисло молчание.
Врач развел руками.
– Сколько? – глухо повторил Модест Одинаров.
– Ничего нельзя обещать, если делать химиотерапию, месяца два, три…
Из больницы Модест Одинаров вышел белый как снег, не замечая ни сновавшей детворы, ни чирикавших под ногами воробьев. Дома он осмотрел свои вещи, будто видел их в первый раз, выйдя на балкон, окинул взглядом раскинувшийся внизу город, бушевавшую зелень, пытаясь представить, как все будет, когда его не станет. «Как все буднично, – пробормотал он. – Как все буднично». И вдруг вскрикнул, на мгновенье вообразив, что его уже нет, почувствовав каждой клеткой тела предстоявшую ему вечность небытия. Судорожно глотая воздух, он бросился на кухню, хватая без разбора попадавшиеся на глаза предметы и швыряя их на пол. «Какого черта! – задыхался он, багровея. – Почему я?» Он метался как зверь в клетке, готовый зарычать от бешенства и бессилия. Но вскоре им овладела совершенная апатия, будто диагноз касался не его и в больнице был тоже не он, а все это происходило с кем-то другим. Он даже зевнул. «Ну и не станет. Какая разница когда». Эта ровная безысходность вернула его к действительности, он собрал с пола посуду, аккуратно замел осколки на совок, подумав, что накопилось много пыли и надо бы устроить уборку. Потом опять вспомнил, что скоро умрет, что не будет ни моря, ни каштанов, ни гамака в крупную клетку, но на этот раз мысль не пронзила, не обожгла, а лишь тупо засвербила, будто комар в ночи. Он подумал о том, что делают в таких случаях. Рассчитываются с долгами? Но их у него не было. Составляют завещание? Но кому? Этот вопрос погнал его к компьютеру.









































