Текст книги "В социальных сетях"
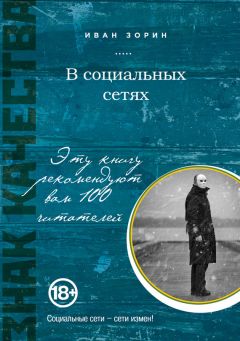
Автор книги: Иван Зорин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
«А вот если бы я серьезно заболел, – предложил он тему для обсуждения. – Чем бы вы помогли? Что бы посоветовали?»
Он хотел добавить про наследство, но в изнеможении повалился на кровать. Во сне он увидел себя ребенком: мать выносит на веранду пыхтящий самовар, в саду ядовито желтеют одуванчики, а он слушает гудение шмеля, заблудившегося в ржавой брошенной лейке. Сон был такой явственный, отчетливый, что, пробудившись, он еще долго не мог понять, где находится, разглядывая засаленные обои с чередовавшимися цветами, думал, что, возможно, скоро опять попадет в свое детство, вспоминал родителей, у которых много лет не был на могиле. А потом поднялся к компьютеру.
«Деньги вышлю, – откликнулся Иннокентий Скородум. – По какому адресу?»
«Если болезнь смертельна, не тяни, – посоветовал Раскольников. – Пистолет дать?»
«А что вы от нас ждете? – в лоб спросил Сидор Куляш. – Сначала определитесь».
«Надеюсь, это лишь предположение?» – откликнулась Ульяна Гроховец.
Полина Траговец, прочитав обращение Одинарова, не поверила глазам. Ей было невыносимо думать, что это не пустое предположение, что крепкий мужчина, который каждое утро садится в машину, болен.
«И всё?» – криво усмехнулся Одинаров. Его корреспонденты вновь стали бесконечно далекими и чужими. Он вдруг вспомнил, как на экзамене подглядывал через ладонь к соседу и как заметивший это учитель пошутил: «Одинаров, каждый умирает в одиночку!» «Каждый умирает в одиночку», – повторял ночью Модест Одинаров, разглядывая в углу блестевшую в лунном свете паутину. Стиснув подушку, он громко всхлипывал, пугая шуршащих на чердаке мышей. На другой день он позвонил на работу.
– Нездоровится? – деревянным голосом переспросил начальник, губы которого треснули, как жареный каштан. – Надеюсь, скоро поправитесь.
У Модеста Одинарова мелькнуло желание высказать все, что накопилось за годы, но вместо этого он глухо произнес:
– Ищите замену.
Начальник повесил трубку, а Модест Одинаров еще долго слушал гудки.
Вставал Модест Одинаров по привычке ранним утром, когда на улице ширкали метлами дворники, но уже не брился, обрастая колючей седой щетиной. Из дома он тоже не выходил, кормил теперь голубей на балконе – выставив табурет, сорил под ноги хлебные крошки, которые птицы клевали, неуклюже перепрыгивая через его стопы, – но мысль о том, что после его смерти они будут так же ворковать, гадить и, трепеща крыльями, совокупляться, была нестерпимой. Он резко поднимался, едва не задевая испуганно взлетевших птиц, и закрывал за собой балконную дверь.
Прошла неделя, и жизнь брала свое – Модест Одинаров ел, спал, будто впереди у него были годы, забывая про болезнь, смотрел с балкона на красивых длинноногих женщин, на цветы, изнывавшие в кадках от жажды, на дорогие машины, плывшие в облаке летнего зноя и обжигавшей пыли. Облокотившись о загаженные голубями перила, он с улыбкой представлял Ульяну Гроховец, проводившую отпуск на далеких тропических островах, думал, что в их отношениях, как и в любом эпистолярном романе, было что-то обещающее, загадочное, придававшее им особое очарование, ни с чем не сравнимый шарм. А потом вдруг все вспоминал. Модест Одинаров давал себе слово, которое каждый раз нарушал, – не трогать пальцами левый бок, но даже во сне его рука тянулась к желтевшей, мокрой от пота коже, скрывавшей источник боли, и он, еще не пробудившись, нащупывал опухоль, вздрагивая, будто внезапно услышал скрип земной оси, требовавшей смазки и грозившей повернуться, выпасть из державших ее шарниров. «Господи, помоги, господи, помоги…» – встав на колени возле оконной батареи, шептал он в звездное небо. А потом вдруг вспомнил, что не верит, что никогда раньше не молился и в церкви был только в раннем детстве. Перед ним проплыла вся его жизнь, растоптанная юность, брошенные начинания, предстало все, что не сделал, до чего не дошли руки. «Начну все заново, – давал он слово. – Если выживу, начну все заново». Но Модест Одинаров знал, что начинать заново на земле никому не позволяют, а если бы ему и позволили, то свое слово он бы не сдержал. Про живших когда-то он раньше думал: «Мы и они», про современников: «Я и они», а теперь вдруг осознал, что нет никаких «они», а со времен Авраама был только он, Модест Одинаров, знавший, что должен умереть. Теперь он ясно увидел себя со стороны – заезженная рабочая скотина с расшатанными нервами и увеличенной печенью, изо дня в день решавшая финансовые головоломки, которые имели косвенное отношение к его жизни, – деньги. Деньги, которые он считал согласно правилам математики, умножаясь у других, никак не хотели укладываться в его карман, точно тот был дырявым, оставаясь колонками цифр на холодном, мертвенно мерцавшем экране. На это занятие были потрачены лучшие годы, а теперь опухоль поставила крест на сухой арифметике, наполнив его существование настоящей жизнью с ее болью, страданием и страстной борьбой, как весенний ручей наполняет пересохшее русло.
Поначалу Модест Одинаров думал, что его смерть вызовет переполох, сдвинет его мир с привычной оси, а все происходило отвратительно буднично. В квартире зазвенели склянки, запахло аптекой, на столе заблестели шприцы, которые оставляла строгая медсестра, делавшая уколы.
– За всю жизнь столько не кололи, – пробовал шутить Модест Одинаров.
– Ну, когда-то надо начинать, – бесстрастно подыгрывала она.
Медсестра была бледная как смерть и перед уходом поправляла в зеркале тонкие, состарившиеся раньше времени волосы. Провожая ее, Модест Одинаров находил в себе силы улыбнуться:
– До завтра.
– До завтра, – эхом отвечала она, стуча каблуками по лестнице.
А когда медсестра уходила, на Модеста Одинарова наваливалась тоска, он не понимал, зачем тянет, почему, будто мальчишка, подчиняется врачам, не в силах даже под конец преодолеть инерцию жизни.
«Может, и прав Раскольников? – думал он, свесившись с балкона. – Чем хрипеть по ночам, один только шаг».
И снова приходила медсестра, растягивая пытку, и снова наступали часы, заставлявшие каждое мгновенье переживать смерть. Теперь он все больше времени проводил на постели, растянувшись в грязной, нестираной одежде, измученный бессонницей, уже не разбирал времени суток, устав решать, чего боится больше – ночей или рассветов, и перед ним все явственнее проступало прошлое, которое он теперь видел с изнанки, понимая, почему оно кроилось так, а не иначе. Перестав быть загадочным, прошлое утратило прелесть, как чудо, оказавшееся нехитрым фокусом. Модест Одинаров вспоминал спившегося однокашника, который держал бутылку одними зубами, точно пытался перекусить ей горло, бывшую жену, ее нового мужа, непрестанно крутившего в руке теннисный мяч, вспоминал кривозубую проститутку, молчаливого лысоватого начальника, и эти люди были уже неотличимы от его виртуальных знакомых, приобретенных в группе, как и всплывавшие в памяти картины – дача с желтевшими одуванчиками, летний лагерь, где он заболел, – стали неотделимы от увитого плющом домика на морском берегу, который рисовала ему мечта. «Все – сон», – думал Модест Одинаров, и эта мысль, неотвязная, как мышиная возня на чердаке, грызла щель в его сознании, заставляя стискивать зубы. Есть он перестал – зачем кормить опухоль? – и в обвисшей одежде стал походить на вешалку с узкими плечиками, а шаркая в уборную стоптанными тапочками, больше не задерживался у зеркала, боясь увидеть, как за его спиной там причесывается бледная медсестра, похожая на смерть. И перед ним все чаще вставала одна и та же сцена из детства. Посреди двора мать рубит голову курице, по-женски зажмурившись и отведя от себя руки, чтобы не измазаться кровью.
– Мама, мама, – тащит он ее за подол, когда она, швырнув куриную голову скулившей рядом собаке, вытирает о фартук окровавленный нож. Склонив набок пасть, собака жадно грызет голову, прижимая ее лапой, а курица беспорядочно бьет крыльями, бегая по двору.
– Пусть кровь спустит, – говорит мать, перехватив его взгляд. Она убирает нож в карман и достает горсть зерна. – Хочешь пока покормить птичек?
С забора уже соскакивали куры, толкая друг друга, лезли под ноги.
В обед Модест пил мутный бульон, в жировых блестках которого ему мерещились куры, клевавшие зерно, когда их безголовая соседка металась по двору.
И другие картины всплывали в памяти долгими бессонными ночами, когда он лежал, уставившись в потолок. В Рождество в доме царило радостное оживление, наряжали душистую с мороза елку, а на святках мать гадала на Библии, водя по бумаге шершавым пальцем, которым потом, поплевав на подушечку, тушила свечу, и теперь Модест Одинаров тоже попытался прочитать судьбу – с закрытыми глазами подошел к книжной полке, протянув руку, на ощупь вытянул какой-то толстый фолиант и раскрыл наугад. Строчка, в которую уперся его взгляд, заставила сильно забиться его сердце: «Но – странное дело – все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия». Это был рассказ Толстого «Смерть Ивана Ильича».
Модест Одинаров отшвырнул книгу.
В группу он больше не заходил, однако часто вспоминал попутчиков, оказавшихся в его последнем поезде. Он представлял, как они будут скрашивать одиночество, демонстрируя обманчивую готовность подставить плечо, точно распластавшиеся на воде кувшинки. И вдруг понял, что они были его провожающими, а в ночь, когда его уже не добудиться, продолжат спать, зарывшись в подушки. Зыбкая, искромсанная тучами луна осветила его согнутую фигуру – подвернув под себя ноги, Модест Одинаров сидел за компьютером, сочиняя гневные инвективы, на которые способен только глубоко обиженный человек, жестоко обманувшийся в своих чувствах, он обличал, стыдил, поведав о своем трагическом ощущении жизни, полностью подчинившем его в ожидании близкого конца, заклинал не вводить других в заблуждение мнимой дружбой, которая не принесет ничего, кроме горького разочарования. Он писал убедительно, взяв в сообщницы смерть, которая подбирала за него слова. На это занятие, вернее на то, чтобы его представить, ушли последние силы, и, едва дотащившись до постели, он грохнулся на смятые, пропахшие потом простыни. Уснуть он не смог. Ему вдруг опять стало казаться, что умирает не он, а кто-то другой, его брат-близнец, а он по-прежнему ведет жизнь отшельника, упиваясь одиночеством, поглощая дни вместе с макаронами на ужин и ночными кошмарами. К действительности его вернул резкий запах. Он ударил в ноздри, проникнув в мозг, сверлил там, как крот, огромную дыру, он исходил от его грязного, заживо гниющего тела, и Модест Одинаров понял, что его двойником был покойник, с которым он скоро сольется в одно целое, как с отражением на зеркальном пруду, бросившись в холодную воду, отправившись в мир призрачных путешествий, мир, который рисовало ему воображение ребенка, – без боли, неизбежных расставаний и довлеющего, как земное притяжение, долга.
– Моде-эст, – позвали его в темноте, точно мать, с которой он в детстве играл в прятки. – Ты готов?
– Иду, – твердо ответил он, раздвинув слипшиеся веки, и тотчас зажмурился от невыносимого света.
Последняя запись Модеста Одинарова в группе была короткой и показалась многим бессмысленной:
«Провожающий – не попутчик!»
Прочитав этот пост, Полина Траговец захотела подняться на последний этаж. Но опять не решилась. В тот же день в Интернете исчезла личная страница Модеста Одинарова. А назавтра, возвращаясь с работы, Полина Траговец увидела дежурившую у подъезда «Скорую». У нее екнуло сердце. Она проскочила три ступеньки и чуть не вскрикнула, поднеся ладонь ко рту, когда в дверях столкнулась с носилками. Хмурые, сосредоточенные санитары несли под простыней того, кто был Модестом Одинаровым. Полина опустилась на ступеньку и долго смотрела на то место, с которого отъехала «Скорая».
– Говорят, повесился, – встретила ее мать.
– Кто?
– Жилец с верхнего этажа. Тот, который превратил балкон в голубятню. И куда спешил, все там будем.
Полина заперлась в комнате. Она чувствовала себя вдовой, которой оставалось носить траур, поливая слезами чахлые, засыхавшие на подоконнике фикусы. Не выходя замуж, она словно прожила долгую семейную жизнь и теперь совершенно не представляла, что будет делать, оставшись одна. Дальнейшее пребывание в интернетовской группе казалось ей абсолютно бессмысленным, она уже хотела навсегда ее покинуть, как дурной сон, забыв свою неудавшуюся затею, но тут ей пришло в голову иное: она решила сделать вид, что ничего не случилось, скрыв исчезновение Модеста Одинарова.
«Конечно, моя болезнь – лишь простое предположение», – оставила она сообщение под ником «Модэст Одинаров», изменив в имени одну букву. Это было последнее, что она могла сделать для Модеста Одинарова, – продлить его виртуальную жизнь, раз не решилась устроить настоящую.
«Сменили ник?» – поинтересовались в группе у Модэста Одинарова.
«Имидж надо обновлять», – отшутилась она.
Мертвые души
Женщину свободных нравов Полина Траговец изображала убедительно, и многие приняли ее игру. Но нашелся один, который ей не поверил. Проницательность была частью его профессии, и приключения Ульяны Гроховец вызвали у него улыбку. Иннокентий Скородум был писатель, и для своей интернетовской аватары взял картинку: перо, опущенное в чернильницу.
«Это псевдоним, – признался он. – Я достаточно известен, чтобы скрывать имя. Зачем я здесь? На то есть две причины. Во-первых, мне хочется говорить от себя, не прячась за литературных героев. Это делает речь определеннее и категоричнее. Во-вторых, напиши я в книге то, что могу высказать здесь, ее не купят. Человек должен посадить дерево, построить дом и написать книгу. Книг у меня много, на гонорары я купил дом, а за деревьями у меня следит садовник. Но что должен человек поведать в книге? То, что понял о жизни? Когда-то я был уверен, что родился для того, чтобы ответить на вопросы «зачем живу?» и «как устроен мир?». Но в моих книгах вы не найдете ответа. Иначе бы их не печатали. На заре моей писательской карьеры один старый издатель, возвращая мне рукопись, сказал:
– Поймите, юноша, за свои деньги человек хочет услышать, что он не тварь дрожащая, а право имеет и звучит гордо. Вы тычете людей в их ничтожность, а им необходимо верить, что их время – лучшее из времен и они гораздо счастливее ушедших.
– Но я пишу правду!
– Да кому нужна ваша правда!
И тут я прозрел. Я понял, что истина – это футбольный мяч, который отнимают, чтобы забить в твои ворота. Она улетает от того, кто сильнее, но и слабому не приносит ничего, кроме разочарования. И тогда я стал врать. Врал в каждой букве, врал, как дышал. Герои моего черно-белого мира были как монеты, у которых всего две стороны: кому-то выпало творить зло, кому-то его побеждать. Я завел дружбу с влиятельными литераторами, такими же бездарностями, всех хвалил, никого не ругал, заигрывал с критиками, и вскоре мои книги пробились к прилавку. Но перечитывать их для меня стало тяжелым наказанием, сравнимым разве с их написанием. Я презираю читателя, мне плевать на человечество и надоело притворяться. Здесь, в группе, мне хочется быть тем, кто я есть. Кстати, Ульяна Гроховец, от вашей истории с мулатом несет феминистской литературой».
«Иннокентия Скородума» звали Авдей Каллистратов. Он жил в доме с консьержкой, в старой холостяцкой квартире, пропахшей табаком, кофе и книжной пылью, в окружении картин и зеленевших бронзовых статуэток, подаренных благодарными поклонниками. Годы давили, как горб, и Авдею Каллистратову было все тяжелее выползать из зимы. Глядя на грачей, облепивших деревья, Авдей Каллистратов вспоминал, что Саврасов, которого он уже пережил, спился, что впереди дачный сезон, когда можно будет отдохнуть от бесконечных выступлений, звонков и змеиных улыбок. «Возьму Дашу, – думал он, – в последнее время ходит бледная». Даша была аспирантка, защищавшая диссертацию по его творчеству. Их связь длилась уже третий год, Даша мечтала о замужестве, а Авдей Каллистратов, как опытный сердцеед, поддерживал в ней надежду, которой не давал перерасти в уверенность. По-своему он любил Дашу, роман с ней льстил его самолюбию. Но его раздражала ее молодость, ее звонкий смех и беспричинное веселье напоминали ему о возрасте. Эта преграда была непреодолимой, но Даша о ней не догадывалась. Делая карьеру, Авдей Каллистратов научился скрывать чувства. А может, они давно умерли? Задавая этот вопрос, он морщился, тянулся за сигаретой и отправлялся в Интернет сливать желчь. Об этом его увлечении Даша не знала. «Потом вставит в мемуары», – время от времени порывался он посвятить ее в свои тайные откровения, но каждый раз откладывал из суеверного страха приблизить это «потом».
«Думаете, мои книги хуже других? – продолжал он свою исповедь. – В юности, когда мне еще приходили подобные вопросы, я открывал современные бестселлеры, и после нескольких страниц мои опасения рассеивались. «А классика?» – спросите вы. Так со временем и я стану классиком! Или вы считаете, что в историю входят лишь гении?»
«А зачем вам известность? – спросила некая Зинаида Пчель. – Разве не для того, чтобы пропагандировать свои книги и нести Слово?»
«Слово? Какое еще Слово! Известность дает право писать всякую галиматью, чтобы критики, как в пятнах Роршаха, находили в ней гениальное. Они мастера гадать по кофейной гуще, эти критики, они-то и донесут, что достойно внимания. Так и движется литературный процесс».
«Похоже, вы просто исписались», – подвел черту под его признанием Олег Держикрач.
«Ваше право не верить мне, а мое – вам! – парировала выпад Авдея Каллистратова Ульяна Гроховец. – И что за рецепты в ваших книжонках? Каждый ведь по себе мерит: гинеколог-мужчина посоветует больше заниматься любовью, а увядшая женщина-гинеколог – стать монашкой».
«Вы известный писатель? – издевательски переспрашивал некто Сидор Куляш. – Так это всего лишь тот, кого чаще показывают по телевидению».
Это понравилось Сидору Куляшу.
«Вы отказываете читателям во вкусе? – оскорбилась Зинаида Пчель. – Уж как-нибудь разберемся, что хорошо, что плохо. Или считаете, может понравиться дерьмо?»
Прочитав ее комментарий, Авдей Каллистратов усмехнулся и тут же сочинил ответ:
«Однажды в гостях меня спросили:
– Ты копрофаг?
– С какой стати! – возмутился я.
После этого хозяева, сухо простившись, выставили меня за дверь. На другой день на работе об этом завел разговор начальник. Но я был уже настороже и ответил уклончиво. «Знаешь, я говнюков сам недолюбливаю, – похлопал он меня по плечу. – Но современный человек должен быть терпимее». Телевизора у меня нет, газет я не читаю. А тут купил глянцевый журнал. «Десять аргументов в пользу копрофагии, – пестрели заголовки. – Копрофагия – это модно!» Я прочитал статью «Мои ответы копрофобу». Она показалась мне убедительной. Обычно я ем дома, а тут из любопытства зашел в ресторан. Мне сразу предложили «Гуано по-тайски», «Копро классическое» и совсем уж экзотическое «Экскременты ископаемого ящера с островов Зеленого Мыса». Изощряясь в эвфемизмах, официант рекомендовал «Верблюжьи лепешки» и «Овечьи кругляшки». Я почувствовал тошноту.
– Так это же кал и навоз.
– И что? Едят же ласточкины гнезда. Важно, как подать: лягушку, червяков или стухший сыр.
А по телевизору в углу показывали ток-шоу. «Уринотерапия или копрофагия? – обращался ко мне ведущий. – Ложное противопоставление – у каждой есть свои поклонники. И это естественно, потому что каждая имеет свои преимущества». Я заказал гуано. Преодолевая отвращение, ковырнул вилкой. Вокруг демонстрировали завидный аппетит, поглощая килограммы копро. На меня стали коситься. И мне пришлось поддержать компанию. Выйдя, я увидел мир в ином свете. «Дай волю чувствам!» – присев на корточки, призывала с рекламного щита полуголая красотка. А вскоре около моего дома открылся клуб «Геморрой». Побывав в нем раз, я стал там завсегдатаем. Что меня привлекло? Честно говоря, я остался равнодушен к музыке «в стиле копро», а вот стриптизерши в грязных коричневых купальниках «а-ля золотарь» привлекли внимание. Классные девчонки! Я провожу вечера в их компании за блюдом превосходного копро. Так копрофагия прочно вошла в мою жизнь. Теперь в сортах испражнений я разбираюсь не хуже, чем в марках спиртного. У меня появились друзья. Нас объединила копрофилия. Мы даем отпор копрофобам, которых, к счастью, становится все меньше, и слушаем лекции по копрологии в созданной недавно «Школе стула».
– Дамское копро – это смак! – покоряю я женские сердца. – Если у нас родится сын, мы назовем его Копронимом в честь византийского императора.
– А был такой?
– Конечно, нашей страсти тысячи лет!
Из лексикона я исключил «говно», «гадить», «срать», заменив их «фекалиями» и «наложить кучу». Что ни говори, латынь облагораживает. За «говноеда» я уже не одного привлек к суду. «Копрофагия экономична, экологична, эстетична, – просвещаю я начальника. – И кролики копрофаги. И обезьяны. Не будь консерватором, за копрофагией будущее!»
Теперь я питаюсь дерьмом.
Вы – нет?
А может, вам это только кажется?»
«Я – нет! – откликнулась Ульяна Гроховец. – И вы меня не убедили! А что, у вас все книжки про дерьмо?»
«Возможно, – подключился Модест Одинаров. – Но раз этого не осознаю, то этого и нет».
«Не ем и не буду!» – заявил Раскольников.
«Будешь-будешь, – подмигнул ему смайликом Сидор Куляш. – За обе щеки станешь наворачивать». А через час добавил: «Главное в современном искусстве – это привлечь внимание. Тогда произведение попадает историю, цена на него взлетает, хотя бы оно было и куском дерьма. Его истинная стоимость – ничто, стоимость прикованных к нему взглядов – все!»
Это понравилось Иннокентию Скородуму.
К бунтарским признаниям Модеста Одинарова Авдей Каллистратов отнесся скептически. «В офисах так не чувствуют, – скривился он, представляя одинокого бухгалтера, кормившего на бульваре голубей. – Там вообще некогда размышлять». Интеллектуальное превосходство, которое ощущал в себе Авдей Каллистратов, с возрастом вылилось в жестокую мизантропию, ему казалось, что у окружавших нет своих мыслей, а голову они носят, как испорченные, остановившиеся часы, из которых время давно вытекло. Такое же впечатление сложилось у него и о Модесте Одинарове. Авдей Каллистратов живо вообразил себе осторожного, как рак-отшельник, человека, предусмотрительно высчитывавшего последствия на много шагов вперед, так что даже книгу читавшего задом наперед – сначала заглядывая, чем все закончится, потом с чего же все началось, точно оценивая, стоит ли тратить на нее время.
Достав записную книжку, с которой не разлучался даже ночью, Авдей Каллистратов сделал литературный набросок, предполагая вставить его в будущий роман: «Эта обратная перспектива, этот обратный отсчет времени распространялся у Модеста Одинарова буквально на все – завязывая знакомство, он уже представлял, как расстанется, а приготовляя обед, думал, как тот отразится на кишечнике, и давно смирился с тем, что внимания на него обращают не больше, чем на пластмассовый стаканчик, из которого пьют в городской забегаловке».
Написав это, Авдей Каллистратов вдруг подумал, что и сам очень похож на человека в футляре. «Все выстраивают карточный домик, в котором проводят дни, – оправдывал он себя. – А чуть дунешь – он разваливается». Эта мысль пришла к нему после сообщения Модеста Одинарова о болезни, к которому в отличие от предыдущих его постов он отнесся всерьез и которое вызвало у него сочувствие. Но чем он мог помочь?
Авдей Каллистратов вспомнил, как в юности охотился на слонов в африканском буше. На закате он выследил небольшое стадо и подстрелил молодого самца. Тот упал, но снова поднялся, жалобно трубя. Передвигаться он не мог – пуля задела позвоночник – и, мотая хоботом, топтался на месте. К нему тотчас подошли два других гиганта и, точно охранники, встали по бокам. Хлопая ушами, они старались поддержать его туловищами, пытаясь защитить от опасности, которую выискивали по сторонам маленькими злыми глазками. Так они простояли всю ночь. Наконец, на рассвете раненый слон свалился. Но и тогда его охранники не подпустили к бивням, забросав тело хворостом, точно похоронив. «Мы так же бессильны, – думал Авдей Каллистратов, щелкая мышью и закрывая сайт группы. – Несмотря на всю нашу технику, мы способны лишь оплакивать. Впрочем, мы не делаем и этого».
Он сидел в кабинете, разглядывал нависавшие, как скалы, книжные полки и, потирая седые виски, думал, что все прочитанное им относится к истории всеобщей беспомощности, а все написанное – к области праздных наблюдений. Потом позвонил Даше, услышав звонкий голос, повеселел, стал шутить, а под конец пригласил ее на авторский вечер, который должен был состояться в Доме литераторов по случаю его юбилея.
Авдей Каллистратов слегка прихрамывал и на торжественные мероприятия брал трость с массивным набалдашником из слоновой кости. Из дома он вышел пораньше и, стуча тростью по тротуару, притащился на свой юбилей, как раз чтобы, встречая в вестибюле, провожать в зал. В красном джемпере и потертых джинсах Даша выглядела сногсшибательно, так что на нее смотрели чаще, чем на сцену. В президиуме сидели известные писатели, за долгую жизнь научившиеся говорить с трибуны, думая о своем. Они были того же возраста, что и Авдей Каллистратов, седые, бородатые, дети одного поколения, которое никак не хотело уходить. «Куда им до старых мастеров, – косились они на молодых. – Ни глубины, ни стиля».
Зал был полон, так что Авдей Каллистратов остался доволен, выступавшие передавали микрофон, не поднимаясь со стульев, говорили о его творчестве, внесшем несомненный вклад в литературу, о том, как давно знают юбиляра, незаметно перетягивая одеяло на себя. «Помню Каллистрата Авдеева еще зеленым юнцом, – тряс всклокоченной бородкой лысоватый старик, под которым скрипел стул. – Я тогда работал главным редактором, и он, выложив на мой стол тощенькую рукопись, небрежно бросил: «Напечатав это, вы оправдаете свое положение». – В зале засмеялись, а Авдей Каллистратов не знал, куда себя деть. – Все мы знаем, каково писать в стол, и я решил избавить от этого юное дарование. Помнишь, Каллистрат?» Авдей Каллистратов отчетливо помнил свой визит. Он держался уверенно, потому что пришел «по звонку», а получив отказ, прежде чем хлопнуть дверью, бросил: «Под одним кресло ходуном ходит, а он и не чувствует». Через месяц его опубликовали. Взяв микрофон, Авдей Каллистратов поднялся, уронив при этом лежавшую на коленях трость, и первым делом поблагодарил собравшихся. Коснувшись вскользь своего долгого служения искусству, он перечислил собратьев по перу, скромно вплел в их список и свое имя, а потом заговорил о гражданской позиции, долге художника и национальном самосознании. Несколько раз его прерывали аплодисменты, но опытные уши Авдея Каллистратова уловили, что в зале берегут ладони. Многие в президиуме уже клевали носом, и он понял, что пора сворачиваться. «Народ, не осознающий себя народом, обречен на вырождение, – закончил он с пафосом. – И мы, писатели, обязаны способствовать его сплочению!» На последовавшем за этим банкете все считали своим долгом обнять юбиляра, и Авдей Каллистратов, нацепив одну из своих бесчисленных улыбок, подбирал каждому нужные слова.
– Как точно ты заметил про писательское предназначение, – растрогался один его старый знакомый, зимой и летом ходивший в сапогах. – Хранить народные традиции, приумножать и…
Он на мгновенье сбился, переводя дыхание.
– И быть их верным продолжателем, – помог Авдей Каллистратов.
– Точно!
– А вы только посмотрите, что с языком нашим делают, – скоро ирокезским станет! – подошел к ним другой, с рюмкой, зажатой двумя пальцами. – До чего дошло – в самый его корень, в алфавит латиница проникает! – Протянув руку, он взял со стола блюдце с нарезанным лимоном. – Представляете, видел в городе вывеску: «Зэ баssейн», с двумя кривыми «s» в середине – только перечеркни, и выйдет знак доллара!
– Глобализация, – переменив улыбку, чокнулся с ним Авдей Каллистратов так сильно, что капли перелетели в его рюмку. – Только идет она в одну сторону.
– Вот именно, что-то я кириллицу внутри слов в Америке не встречал, там не дураки свой язык убивать. – Он опрокинул рюмку, на мгновенье охрипнув. – Лимона?
Авдей Каллистратов положил в рот кислый ломтик, поморщившись то ли от него, то ли от пришедшей ему мысли:
– Скоро и Толстой станет писателем мертвого языка, вроде Сенеки.
– Не позволим! – топнул писатель в сапогах, так что каблуком едва не пробил пол. – Пока живы, не дадим в обиду Льва Николаевича!
– Конечно, – бросив взгляд на часы, рассеянно кивнул Авдей Каллистратов. – Надо что-то делать.
В тот вечер он был нарасхват и, переходя от столика к столику, набрался быстрее, чем ожидал, при всех обнял Дашу, а перепутавшего его имя старика, которому растолковали ошибку и который полез с извинениями, поцеловал в лысину. Ему казалось, что все его любят, что время на его часах идет медленнее, чем у других, так что он еще всюду успеет…
По возвращении домой Авдей Каллистратов был все еще сильно пьян. Даша поехала к себе, чем сорвала его планы, посеяв в душе смутное недовольство, и в собеседниках у него оставалась только группа.
«Народов давно нет, – быстро набросал он. – Есть потребители, которые на одно лицо, что в Европе, что в Азии. И ничего с этим не поделать! Национальная идея? К черту! Она не доводит до добра, в чем убедили две Мировые. А после атомной бомбы человечество находится на грани самоубийства, от которого его спасает лишь деградация. Кто мы? Плесень, намазанная на земной шар, как масло на хлеб. Мы – это печень, селезенка, желудок. Разве можно влиять на них? Это они существуют, это они диктуют нам правила, которые мы выдаем за судьбу. Дни мои все короче, а годы длиннее, но я по-прежнему не могу назвать дураков дураками. Почему?»
Мгновенье подумав, Авдей Каллистратов прицепил грустный смайлик и, не раздеваясь, бросился на кровать.
«Человечество, как степная трава, – отозвался Раскольников, – после пожара гуще растет. Так что войны бояться не надо».
«Мне тесно в своей стране, душно в своем времени», – признался Модэст Одинаров.
Группа была открытая, заходили в нее и тролли.
«Давно из дурки?» – написал один.
«И чё? – ужалил другой. – Теперь и не жить?»
«Хрен через плечо! – защитил его третий, выставив целый ряд смайликов. – Афтор не по-детски жжот!»
Прочитав утром комментарии, Авдей Каллистратов промолчал. Он был не силен в интернетовском новоязе и больше всего на свете боялся выглядеть смешным. Вместо того чтобы кормить троллей, он написал: «Все сегодня пишут так, будто что-то скрывают, и это что-то – ваша смерть. Ее прячут не хуже кощеевой на кончике острого, как игла, пера».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































