Текст книги "Мост на Дрине"
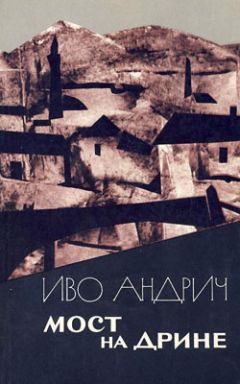
Автор книги: Иво Андрич
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Людям, знающим жизнь и знакомым с историей, не раз случалось пожалеть о том, что судьба отвела Лотике столь узкое и низменное поле деятельности. Попади она в иные обстоятельства, кто знает, кем могла бы стать и что дала бы миру эта мудрая, добросердечная и самоотверженная женщина, алчная и в то же время бескорыстная, прекрасная и обольстительная и одновременно непорочная и бесстрастная, – безвестная хозяйка провинциальной гостиницы, с неистощимой изобретательностью опустошавшая карманы своих пылких вышеградских воздыхателей. Может быть, она стала бы одной из тех великих женщин, которые вошли в историю, женщин, управлявших судьбами прославленных фамилий, дворов или даже держав и, подобно доброму гению, приносивших счастье.
В то время, то есть около 1885 года, когда Лотика была в полном расцвете молодости и красоты, немало сынков местных богачей с утра до ночи торчало в гостинице, в том самом привилегированном зале за дверью матового стекла. Под вечер, сонные, усталые и непротрезвившиеся еще с прошлой ночи, пригревшись у печки, они впадали в тяжелую дремоту, забывая, где они, почему и кого ждут. Пользуясь минутой затишья, Лотика поднималась наверх в комнатку второго этажа, предназначенную для прислуги, но превращенную ею в «канцелярию», куда не допускался решительно никто. Узкая комната была битком набита мебелью, фотографиями, золотыми, серебряными и хрустальными безделушками. Здесь же за шторой находился ее зеленый несгораемый шкаф и маленький письменный стол, заваленный грудами бумаг, извещений, расписок, счетов, немецких газет, вырезок с курсами акций и бюллетенями лотерейных тиражей.
В этой узкой, загроможденной вещами душной каморке, единственным своим, самым маленьким в доме окошком глядевшей на ближний к берегу короткий пролет моста, Лотика проводила свободные часы и часть своей скрытой от посторонних взоров жизни, принадлежащей ей одной.
Здесь, в минуты украденной свободы, она просматривала биржевые сводки и изучала объявления, сводила счета, отвечала на запросы банка, выносила решения, делала заказы, распоряжалась вкладами, вносила новые вклады. Здесь протекала ее невидимая миру жизнь, составлявшая главное содержание ее существования. Здесь Лотика сбрасывала с себя улыбчатую маску, не боясь обнаружить под ней твердое выражение лица и строгий неподвижный взгляд. Отсюда она вела переписку с многочисленным родом Апфельмайеров из Тернополя – замужними сестрами, женатыми братьями и прочими родственниками, – неимущей еврейской голытьбой из восточной Галиции, рассеянной по Галиции, Австрии и Венгрии. Лотика управляла судьбой целой дюжины еврейских семейств, входила в мельчайшие подробности их жизни, решала вопросы замужеств и женитьб, определяла в школы или в обучение ремеслу детей, посылала на излечение больных, отчитывала и карала нерадивых и расточительных, хвалила бережливых и предприимчивых. Она разбирала семейные дрязги, в раздорах и спорах служила судьей; наставляла на путь разумной и добропорядочной жизни, одновременно помогая и создавая возможности для такой жизни. Вот почему за каждым письмом следовал денежный перевод, дававший возможность выполнить ее благой совет, доброе пожелание, удовлетворить какую-то духовную или материальную потребность и предотвратить беду. (Единственную радость в жизни и награду за все трудности и лишения Лотика находила в этой своей поддержке огромного семейного клана и выведении в люди каждого его члена в отдельности. И каждая новая ступенька общественной лестницы, завоеванная кем-нибудь из женской или мужской половины рода Апфельмайеров, возносила и Лотику, вознаграждая ее за труды и вдохновляя на новые подвиги.) А иной раз Лотика вырывалась из «Extra Zimmer» такой измученной, с таким омерзением в душе, что не в состоянии была ни писать, ни читать и просто садилась к узкому оконцу подышать свежим воздухом с реки после пьяного угара там, внизу. Взгляд ее останавливался на мощном и легком изгибе каменной арки, заслонявшей собою горизонт. Под солнцем, в сумерках, в лунном сиянии зимних ночей и в мягком мерцании звезд она была всегда одна и та же. Две стороны арки в безудержном стремлении друг к другу соединялись в заостренной середине и застывали в торжестве незыблемого равновесия. К ним, к этим каменным сводам, бессменным и близким, в минуты желанного отдыха и прохлады обращала свой взор эта двуликая еврейка, к ним, немым свидетелям ее страданий, в минуты наивысшего отчаяния взывала она, изнемогая под бременем семейных и деловых неурядиц, решение которых эта женщина никому не доверяла, кроме самой себя.
Недолги только были минуты этого редкого отдыха, сплошь и рядом они прерывались криками гостей снизу, из зала. То ли ее звал новый посетитель, то ли, очнувшись от сна и протрезвившись, один из разгулявшихся кутил снова требовал выпивки, света, музыки и, наконец, самой ее, Лотики. Тщательно замкнув особым ключиком двери своего убежища, Лотика спускалась вниз встречать очередного посетителя или во всеоружии своей улыбки и ласковых речей уговаривать, точно проснувшееся дитя, загулявшего клиента, усаживая его за стол, чтоб он продолжил ночное бдение с выпивкой, разговорами, песнями и новыми расходами.
В ее отсутствие веселье внизу, как всегда, разлаживалось. Гости начинали буянить. Молодой бег из Црнчи, бледный и осоловевший, все вино, какое бы ему ни принесли, выплескивал на пол, все ему было не по нраву, и он лез скандалить с прислугой и с гостями. С небольшими перерывами он уже много дней подряд пил в гостинице, пил и вздыхал по Лотике, но столь неумеренно, что сразу наводил на мысль о некоем более глубоком и самому ему неведомом горе, чем безответная любовь и слепая ревность к прекрасной еврейке из Тернополя.
С легкой непринужденностью, без малейшего страха устремлялась Лотика к молодому бегу из Црнчи.
– Чего тебе, Эюб? Ну, что ты раскричался тут, горюшко мое?
– Где ты? Куда ты пропала! – мгновенно притихнув и с трепетом взирая на свое божество, бубнил кутила. – Они меня хотят тут отравить. Да, да, отравить, но я еще им покажу, я еще…
– Ну полно, полно, не волнуйся, – успокаивала его женщина, и ее руки, белые, благоухающие руки летали вокруг бедовой его головы. – Не волнуйся, для тебя я хоть птичьего молока раздобуду; я сама закажу для тебя…
И, подозвав к себе кельнера, Лотика отдавала ему распоряжение по-немецки.
– Не смей говорить при мне на своем тарабарском языке фирцен, фюфцен, а не то… ты меня знаешь!
– Знаю, знаю, Эюб; кого другого, а уж тебя-то…
– То-то же! С кем ты была!
И начинаются пререкания пьяного с трезвой женщиной – нескончаемые, бессмысленные и бесплодные за бутылкой дорогого вина и двумя бокалами; одним, всегда полным – Лотикиным и вторым – Эюбовым, непрерывно наполняемым и опоражнивающимся.
И пока молодой турецкий шалопай без умолку молол, еле ворочая языком, про смерть, про любовь, про неизлечимую тоску и прочий вздор, который Лотика знала наизусть – ведь каждый пьяница потчевал ее в точности такой же болтовней, она вставала и шла к другим столам, где располагались гости, сходясь, по своему обыкновению, под вечер в гостиницу.
За одним столом – молодые господа, не так давно вступившие на поприще вечернего застолья и попоек; эти местные снобы находили невыносимо скучной и простецкой корчму Зарии, но не вполне освоились еще и в этом новомодном заведении. За другим столом в кружок чиновников-чужеземцев затесался офицер; изменив на один день офицерскому собранию, он снизошел до гражданского отеля в надежде перехватить у Лотики денег в долг. Третий стол занимала группа инженеров, строивших железную дорогу для вывоза леса.
В дальнем углу сидели, погруженные в какие-то расчеты, газда Павле Ранкович, молодой богач, и некий австриец, железнодорожный подрядчик. Одетый по-турецки, газда Павле и здесь, в питейном заведении, не расставался с красной феской, поблескивая из-под нее косыми щелками черных глаз, оживлявших бледное широкоскулое лицо и обладавших способностью в минуты редкой радости или триумфа невероятно расширяться и, вспыхивая дьявольской усмешкой, полыхать огнем победного восторга. Подрядчик в спортивного покроя сером костюме и в высоких чуть ли не до колен желтых ботинках «на снурках». Австриец пишет золотым карандашиком на серебряной цепочке, газда Павле – толстым и коротким огрызком, еще пять лет тому назад по рассеянности оставленным в его лавке одним армейским плотником, покупавшим у него гвозди и дверные петли. Эти двое договариваются о поставках продовольствия дорожным рабочим. С головой уйдя в свое занятие, они множат, делят, складывают – нижут цифры: одни – видимые на бумаге, которые должны убедить и обмануть партнера, другие – незримые, производя в уме прикидку ожидаемых выгод и барышей.
Для каждого клиента у Лотики припасено приветливое слово, яркая улыбка или просто безмолвный взгляд, исполненный понимания. И снова Лотика возвращается к молодому бегу, принявшемуся опять буянить и дурить.
Но и среди разгульной ночи с ее задиристыми, томными, слезливыми и грубыми стадиями, досконально изученными Лотикой, снова выдастся минутка затишья и позволит ей, поднявшись наверх, при мягком свете лампы под колпаком молочного фарфора возобновить переписку или прерванный отдых, пока очередной скандал в зале не потребует ее срочного вмешательства.
А назавтра новый день, новый или тот же самый вздорный богатый молодчик, скандалист и мот, и для Лотики та же страда; те же муки и хлопоты, принимающие вид легкой фривольной игры с непременной улыбкой на губах.
Поистине немыслимо было постигнуть и понять, как Лотика выдерживала и управлялась со множеством столь разнородных обязанностей и забот, заполнявших и дни и ночи и требовавших от нее гораздо больше изворотливости, чем та, которая дана женщине, и гораздо больше сил, чем те, которые отпущены мужчине. И тем не менее она успевала справляться со всем, никогда никому не жаловалась, не входила ни в какие объяснения и, занимаясь одним делом, не поминала ни предстоящих, ни завершенных. Но при всем этом, по крайней мере, час из своего скудного времени Лотика ежедневно выкраивала для Али-бега Пашича. Это единственный человек, которому, по общему признанию жителей, на самом деле удалось добиться благосклонности Лотики, и без всяких корыстолюбивых расчетов. Он самый молчаливый и тихий в городе человек. Старший из четырех братьев Пашичей, Али-бег остался неженатым (в чем злые языки винили ту же Лотику), дела не вел и держался в стороне от местной общественной жизни. Умеренный в выпивке, он никогда не колобродил со своими сверстниками. Уравновешенный и спокойный, он был одинаково любезен со всеми. Замкнутый и скромный, он вместе с тем не избегал застолья и общества, но не запомнился ни разу никому ни смелостью суждения, ни метким словцом. Довольный собой, он был вполне доволен и мнением о нем людей. У него никогда не появлялось желания быть или выглядеть не тем, кем он был, а потому и другие не ждали и не требовали от него чего-то большего. Он был одним из тех невольников аристократической исключительности, которые как тяжкий груз несут на себе бремя своего благородного звания, составляющего все содержание их жизни; это потомственный аристократизм – неоспоримый, неотъемлемый, неповторимый и находящий оправдание лишь в самом себе.
С посетителями общего зала у Лотики хлопот было меньше. Он отдан был на попечение обер-кельнера Густава и кельнерши Малчики. Известная всему местечку разбитная венгерка Малчика напоминала жену укротителя диких зверей, Густав – невысокий, рыжий чешский немец, человек горячий, с налитыми кровью глазами, ходивший раскорякой из-за плоскостопных ног. Они знают всех своих клиентов так же, как и всех горожан вообще, знают кредитоспособность и характер пьяных выходок каждого, знают, кого надо принять холодно, кому оказать сердечный прием, а кого и вовсе не пускать в заведение как «неподходящего для отеля». Они заботятся о том, чтоб пили много и платили исправно, но в то же время, чтоб все шло полюбовно и гладко, ибо главный принцип их хозяйки: «Nur kein Skandal!»[14]14
«Только без скандала» (нем.).
[Закрыть] Если же кому-то из гостей случалось вдруг впасть в буйство с перепоя или какому-нибудь дебоширу после обильных возлияний в других заведениях более низкого разряда ворваться в гостиницу силой, в зале появлялся слуга Милан, высокий, плечистый, угловатый детина, личанин родом. Он обладал дьявольской силой, редкостной молчаливостью и работоспособностью. Ходил он неизменно в соответствующей форме (Лотика предусмотрела и это). Без пиджака, в сером жилете поверх белой рубахи, в длинном фартуке зеленого сукна, зимой и летом с засученными по локоть рукавами, обнажающими его косматые и черные, как две огромные щетки, ручищи. Черные закрученные усики и волосы нафабрены пахучей солдатской помадой. Милан душил в зародыше любой скандал.
Тактика этой весьма неприятной и нежелательной процедуры отработана и освящена многолетней практикой. Пока Густав заговаривал зубы воинственно настроенному скандалисту, Милан подходил к нему со спины, обер-кельнер отскакивал в сторону, а личанин молниеносным и точным движением, неуловимым для постороннего взгляда и составляющим тайну его приема, уже держал кутилу сзади, одной рукой схватив его за пояс, другой – за ворот. Самый сильный городской дебошир летел подобно кукле, набитой соломой, точно по направлению к двери, в нужный момент предупредительно распахнутой Малчикой, и, не задерживаясь, оказывался на улице. Вслед за ним Густав вышвыривал шляпу, трость и прочее его имущество, а на дверь с грохотом опускалась металлическая штора, на которой всей своей тяжестью повисал Милан. Все это совершалось в мгновение ока, четко и без запинки, так что не успеют, бывало, остальные гости и глазом моргнуть, как нежелательный посетитель выставлялся вон и в случае полного умопомрачения мог разве что пырнуть ножом в металлическую штору или запустить в нее камнем, о чем свидетельствовали оставленные на ней следы. Но это уже скандал не в стенах заведения, а на улице, уличные же непорядки – забота полиции, – а полиция всегда дежурит у гостиницы. В отличие от прочих трактирных служителей Милан никогда не допускал, чтоб изгоняемый клиент опрокидывал и увлекал за собой столы и стулья или, зацепившись руками и ногами за косяк, заклинивался в дверном проеме, откуда его не вытащить и воловьей упряжке. Он делал свое дело спокойно, без всякой злобы, азарта или тщеславия и потому справлялся с ним неподражаемо легко и быстро. Минуту спустя после удаления из зала нарушителя спокойствия Милан как ни в чем не бывало занимался своими делами на кухне или в буфете. А Густав, как бы мимоходом завернув в «Extra Zimmer», проходил мимо Лотики, развлекавшей за столом кого-нибудь из богатых гостей, и делал ей на ходу быстрый знак обеими глазами, давая понять, что назревавший скандал улажен благополучно. Не прерывая разговора и сохраняя на лице улыбку, Лотика молниеносно посылала в ответ понимающий взгляд, так же неприметно моргнув обеими глазами: «Хорошо, спасибо! Будьте начеку!»
Оставалось выяснить только, на сколько выпил или переколотил посуды выставленный гость; полученную сумму Лотика спишет, когда далеко за полночь будет за своей красной ширмой подсчитывать дневную выручку.
XV
Существовало несколько способов, с помощью которых буйствующий и столь ловко выставленный из гостиницы гость, если только прямо от дверей его не забирали в каталажку, мог опомниться и отойти после приключившейся с ним неприятности. Он мог добрести до ворот и здесь освежиться прохладой, веющей с гор и с реки. Или же податься в трактир к Зарии, тут же поблизости на площади, и здесь открыто и свободно предаться зубовному скрежету, угрозам и проклятиям по адресу незримой руки, безнаказанно и подло выдворившей его из гостиницы.
В трактире у Зарии, не бывает и не может быть никаких скандалов, ибо после того, как с первым сумраком, приняв свою дневную «порцию» и перекинувшись словцом с такой же, как они, солидной публикой, расходились по домам степенные хозяева и трудовые люди, все прочие пили, сколько принимала душа и позволял карман, и говорили и делали что кому заблагорассудится. Здесь никого не принуждали тратиться и напиваться, сохраняя при этом трезвый вид. А если уж кто-нибудь терял всякую меру, немногословный грузный Зария одним своим видом угрюмой озлобленности обескураживал и отрезвлял самых отъявленных пропойц и скандалистов.
– Давай кончай! Хватит безобразничать! – осаживал он их жестом тяжелой руки и низким хриплым голосом.
Но и в этом допотопном трактире, где не было ни отдельных кабинетов, ни кельнеров и где обходились услугами какой-нибудь деревенщины из Санджака в крестьянском облачении, старые обычаи причудливо переплетались с новыми.
Молча сидели, забившись в дальние углы, здешние завсегдатаи, отпетые пьяницы. Любители уединения и полумрака, бегущие от шумной суеты, часами просиживали они, склонившись, как над святыней, над чарками. С обожженным желудком, воспаленной печенью, расстроенными нервами – небритые, опустившиеся, равнодушные ко всему на свете и опостылевшие самим себе, они упорно пили в мрачной решимости еще раз дождаться волшебного озарения, сладостно выстраданного закоренелыми пропойцами, но быстро затухающего и гаснущего, а с годами все реже являющегося им тусклыми отблесками былого сияния.
Не в пример говорливей и шумнее новички, по большей части господские сыночки, юнцы в опасном возрасте, делающие первые шаги на пути беспутства и безделья – пороков, которым все они в течение более или менее длительного времени будут платить неизбежную дань. Вскорости, порвав с грехами юности, большинство оставит этот путь и, обзаведясь семьей, отдастся накопительству и тяготам труда, обывательской повседневности с ее подавленными пороками и умеренными страстями, И только незначительное меньшинство отмеченных проклятьем пойдет и дальше предопределенной им стезей, истинную жизнь заменив алкоголем – самой обманчивой и скоропреходящей иллюзией в этой обманчивой и скоропреходящей жизни, и станет жить ради него, сгорая и постепенно превращаясь в таких же мрачных, тупых И опухших пьяниц, что сидят сейчас здесь, забившись по темным углам.
С наступлением новых времен с их свободой и вольностями, оживлением торговли и лучшими заработками в трактир, помимо цыгана Сумбо, вот уже три десятка лет игравшего на своей зурне на всех местных пирушках, стал частенько наведываться и Франц Фурлан со своей гармоникой. Тощий и рыжий, с золотой серьгой в правом ухе, он занимался плотническим делом, но был сверх меры предан музыке и вину. Солдаты и иноземные рабочие особенно любили его слушать.
Случалось, и гусляр какой-нибудь заглядывал в трактир – обычно черногорец, схимнически изможденный, в отрепьях, но полный достоинства, с открытым взглядом: изголодавшийся, но щепетильный; гордый, но вынужденный побираться. Какое-то время он сидел в укромном углу, явно подавленный, вперив взор в невидимую точку перед собой и ничего не заказывая, с выражением самоуглубленной отрешенности, выдававшей, однако же, какие-то подспудные мысли и намерения, кроющиеся за внешним безразличием. Множество противоречивых и непримиримых чувств раздирало душу гусляра, возвышенный настрой которой находился в разительном несоответствии с немощью и прискорбной ограниченностью средств для ее выражения. Отсюда его робость и неуверенность. Терпеливо и гордо ждал он, когда его попросят спеть, но и тогда как бы с сомнением извлекал из сумы своей гусли, дул на них, проверял, не отсырел ли смычок, подтягивал струну, стараясь при этом привлекать как можно меньше внимания к своим приготовлениям. Вот он проводит по струне смычком и извлекает первый дрожащий и неровный звук, подобный ухабистой дороге. И тут же начинает сам без слов подпевать гуслям, поддерживая и выравнивая их своим голосом. Когда же оба голоса сливались воедино в однообразно-заунывную мелодию, составляющую приглушенный фон песни, недавний нищий преображается как по волшебству: отброшена мучительная робость, исчезли внутренние противоречия, позабылись все невзгоды. Решительно вскинув голову и отбросив маску скромности, ибо теперь уже нечего было таиться, гусляр неожиданно сильным и высоким голосом выкликивал строки вступительных стихов:
И промолвил базилик убогий:
«Что ж ты про меня, роса, забыла?»
И гости, до сих пор вроде бы и не обращавшие никакого внимания на гусляра, обрывали разговоры на полуслове и умолкали. Трепет жгучей и смутной жажды той самой росы, что живет в песне и у них в крови, при звуках этих первых слов пронизывал каждого здесь находившегося независимо от того, турок он или серб. Но когда певец, тут же понизив голос, продолжал:
Молвил то не базилик убогий… —
обнажая смысл завуалированного сравнения, и начинал перечислять истинные чаяния и нужды турок или сербов, скрывающиеся за метафорической фигурой росы и базилика, чувства слушателей резко разделялись и растекались в противоположные стороны, согласно их сокровенным желаниям и воззрениям. Подчиняясь, однако, неписаному правилу, гости невозмутимо слушали песню до конца, ничем не выдавая внутреннего своего состояния. И только на зеркальной поверхности ракии в стоящей перед ними чарке их неподвижным взорам являлись блистательные победы, сражения, героизм и слава, до сей поры не виданные миром.
Особенно буйное веселье воцарялось в трактире, когда случалось загулять молодым купчикам и купецким сынкам. Тогда всем – и Сумбо, и Францу Фурлану, и Кривому, и цыганке Шахе – находилась работа.
Косоглазая Шаха, дерзкая на язык мужеподобная цыганка, пила со всеми, кто платил, но никогда не пьянела. Без Шахи и ее рискованных шуток невозможно было представить себе ни одной попойки.
Сменялись люди, веселившиеся с ними, но Шаха, Кривой и Сумбо оставались все теми же. Они жили музыкой, шутовством и вином. Их труд – в безделье других, их заработки – в чужом мотовстве, их настоящая жизнь начинается ночью в те неурочные часы, когда здоровые и счастливые люди давно уже спят. Именно тогда под действием спиртного подавленные душевные движения пробуждаются у гуляк взлетами искрометного веселья и бурных порывов, при всем однообразии обольщающими своей новизной и непревзойденностью. Шаха, Кривой и Сумбо являются платными и бессловесными статистами, перед которыми не стыдно обнаружить свою подлинную суть из «плоти и крови», не испытывая потом ни сожаления, ни раскаяния; при них и с ними позволительно то, что невозможно на людях и уж совсем недопустимо и безнравственно в родном гнезде. Прячась за них, как за ширму, и списывая на них все грехи, почтенные и состоятельные отцы и сыновья из добропорядочных семейств могли, отрешившись на миг от условностей, побыть самими собой, хотя бы временно и какой-то частью своего существа. Натуры грубые, рассвирепев, подвергали их издевательствам или побоям, трусливые – осыпали бранью, щедрые – одаривали, тщеславные покупали их лесть, хмурые причудники – выходки и зубоскальство, развратники – вольности или услуги. Они отвечали необходимой, но непризнаваемой потребности провинциального мирка с его убогой и искаженной духовной жизнью; своего рода актеры в среде, не знающей подлинного искусства. В городе не переводились певцы, потешники, шуты и балагуры обоих полов. Отжив свой век и сойдя в могилу, они уступают место своим преемникам, в безвестности возросшим в их тени для того, чтобы после них увеселять и скрашивать часы досуга новым поколениям. Но много еще времени пройдет, пока появится второй такой потешник, как Салко Кривой.
Когда после установления австрийской оккупации в город приехал первый цирк, Кривой пленился канатной танцовщицей и натворил из-за нее столько глупостей, что был посажен в каталажку и бит палками, а на господ, бессовестно подстрекавших и распалявших его неистовство, наложили большой штраф.
С тех пор прошло немало лет, и искушенным вышеградцам теперь уж не в диковинку гастроли чужеземных музыкантов, канатоходцев и фокусников, они не вызывают больше, как тот первый цирк, такого повального и заразительного безумства, но любовь Кривого к танцовщице не сходит с уст и по сей день.
Кривой давно уже перебивается днем мелкими услугами, причем не гнушаясь никакой работы, а ночью развлекает гуляющих купцов и бегов. На глазах Кривого сменилось несколько поколений. Отгуляв свое и угомонившись, обзаведясь семьей и присмирев, одно поколение передает его другому, более молодому, которому пришло время взять свое. В последние годы, до времени состарившись, Кривой сильно сдал, теперь он все чаще не на посылках, а в трактире и живет не столько заработком, сколько милостыней и подачками с господского стола.
В осенние дождливые вечера мрут со скуки гости в трактире Зарии. Вот за одним столом компания лавочников. Разговор не клеится, в голову лезут скверные досадливые мысли; вяло и раздраженно перекидываются бессмысленными и грубыми словами; лица холодны, замкнуты и подозрительны. Даже ракия бессильна внести оживление в компанию и поднять настроение. В углу на скамье дремлет Кривой, сморенный влажной теплотой и первой чаркой ракии; промок он сегодня до нитки, перетаскивая тяжести на Околиште.
Вдруг кто-то из скучающих гостей как бы невзначай поминает канатную танцовщицу из цирка, давнюю и безответную любовь Кривого. Взоры всей компании устремляются в угол, но Кривой, изображая спящего, и бровью не ведет. Пусть себе болтают, что хотят; это он решил бесповоротно не далее как сегодня утром, в тяжком похмелье; решительно постановил не отвечать на зубоскальство и насмешки, чтобы не допустить, как прошлой ночью, такой же безжалостной шутки, какую сыграли с ним в этой самой корчме.
– Сдается мне, они по сей день переписываются, – говорит один.
– Вот стервец! С одной любовь по почте крутит, а вторая под боком! – добавляет второй.
Кривой из последних сил старается остаться неподвижным, но разговор волнует его и щекочет, как луч солнца; один глаз, вопреки его воле, вот-вот откроется, а мускулы лица распустятся в счастливую улыбку. Больше он не в силах сохранить бесстрастное молчание. С небрежным равнодушием отмахнувшись сначала рукой, он подает затем и голос:
– А, прошло уж все это, прошло!
– Да прошло ли? Нет, вы только посмотрите, каков злодей! Одна на стороне где-то вянет, вторая здесь сохнет. Одно прошло, другое пройдет, а третье придет. Да где ж у тебя совесть, старый хрыч, одну за другой с ума сводить?
Кривой уже встал, идет к их столу. Сон, усталость и утреннее твердое решение ни за что не поддаваться на эти разговоры – все забыто. Прижав руку к сердцу, Кривой уверяет господ, что чист он перед богом и вовсе не такой уж ветреник и совратитель, каким его хотят представить. В непросохшей одежде, с грязной и мокрой физиономией – его красная феска линяет под дождем, он весь светится блаженной улыбкой и присаживается к господскому столу:
– Рому для Кривого! – кричит Санто Папо, полный, живой еврей, сын Менто и внук Мордо Папо, известных торговцев скобяными товарами.
Последнее время Кривой действительно предпочитает по возможности заменять ракию ромом. Этот новый вид спиртного словно бы нарочно для таких, как он, и создан; превосходя ракию крепостью и быстротой действия, он и по вкусу приятно от нее отличается. Ром продается в двестиграммовках, на этикетке изображена молодая мулатка с пухлым сочным ртом и жаркими глазами, в широкополой соломенной шляпе, с большими золотыми серьгами в ушах и красной надписью под ней Jamaica. (Экзотику эту фабрикует для боснийцев, находящихся в последней стадии алкоголизма на грани белой горячки, в Славонском Броде фирма «Eisler, Sirowatka amp; Comp».) Один вид мулатки пробуждает в Кривом ощущение обжигающей крепости и благоухания нового напитка и чувство благодарности к судьбе, милостиво позволившей ему отведать и этой земной благодати, которой, подумать только, никогда бы не испробовал Кривой, умри он всего только год назад. «А сколько еще на свете дивных вещей!» И, разнеженный этой мыслью, Кривой непременно замрет на несколько мгновений перед откупоренной бутылкой. И, лишь насладившись этой мыслью, он отдается блаженству самого напитка.
Вот и теперь, как бы неслышно приговаривая ей ласковые слова, держит Кривой перед собой узкую бутылку. Между тем тот, кому удалось развязать ему язык, сурово допрашивает его:
– Что ж ты, братец, с этой делать будешь? Женишься или, как и с прочими, только позабавишься?
Все эти намеки относились к некоей Паше из Душче. Это самая красивая девушка в городе, сирота, выросшая без отца, вышивальщица, как и ее мать.
О неприступной красавице Паше прошлым летом много было разговоров и песен на многочисленных попойках и загородных пирушках. Незаметно для самого себя и Кривой каким-то образом поддался этому повальному увлечению. И, как водится, сейчас же сделался предметом всевозможных розыгрышей. Однажды в пятницу влюбленные парни взяли и Кривого на гулянье с собой на дальнюю околицу, где из-за оград и решетчатых ставней слышался приглушенный шепот и смех невидимых девушек. Вдруг под ноги Кривому упала ветка бальзамина, брошенная из одного двора, где с подружками пряталась Паша. Кривой замер, боясь раздавить и не смея поднять цветок с земли. Молодые повесы, увлекшие его на гулянье, стали хлопать его по плечам, поздравляя с победой счастливого избранника, – ведь это ему, одному-единственному из всех, Паша подарила знак внимания, какого никогда никто из них не удостаивался.
В ту ночь попойка на Мезалинском лугу у реки под купами орехов продолжалась до самой зари. Кривой сидел у костра прямой и торжественный, то вдохновенно отдавшись песне, то погрузившись в тревожную задумчивость. На этот раз ему не разрешили прислуживать, готовить закуски и кофе.
– Да знаешь ли ты, брат, что значит ветка бальзамина, брошенная девичьей рукой? – говорил ему один повеса. – «Я сохну по тебе, как эта сорванная ветка, а ты и не сватаешься, и за другого выйти не даешь». Вот что сказала тебе Паша.
И все наперебой превозносили перед ним достоинства Паши – белолицей, целомудренной, точь-в-точь спелая гроздь винограда, свисающая с ограды в ожидании руки, которая ее сорвет, а ждет-то она не кого иного, как его, Салко Кривого.
«Как, почему именно он приглянулся красавице Паше?» – с притворным возмущением негодуют купчики. Другие его защищают. А Кривой пьет. И то верит в чудо, то впадает в отчаяние, понимая его невероятность. Отбиваясь от насмешек, Кривой уверяет, что все это не для него, что он бедняк, невзрачный и старый, – но в минуты затишья невольно предается мечтам о юной Паше, о ее красоте, о счастье, которое она обещает, все равно, возможно ли оно для него или нет. А под высоким шатром летней ночи, беспредельно раздвинутой ракией, песней и пламенем пылающего на траве костра, все чудится возможным, пусть призрачным, но вполне допустимым и не заказанным. Зубоскалы-господа потешаются над ним, он это знает; не могут они без забавы жить, обязательно должны кого-нибудь дразнить и на смех поднимать, от века так повелось, то же самое и сейчас. Но шутки шутками, а его мечта о прекрасной женщине и недостижимой любви – не шутка, это давняя и неизменная его мечта; не шутка и песни, – в них любовь, как и в его душе, и реальна и призрачна, и женщина, как и в его мечтах, и рядом и недоступна. Для господ, конечно, это одна потеха, но для него-то – истинная вера и святыня, которую он всегда носил в себе, ни секунды в ней не усомнившись, вера, жившая в нем независимо от вина и песен, от господских затей и даже от самой Паши.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































