Текст книги "Буриданы. Европа"
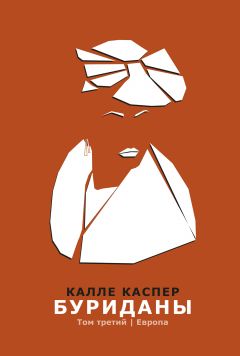
Автор книги: Калле Каспер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава третья
Море (конец)
Не встретив по дороге ни одной косули, Пээтер, после двухкилометровой прогулки, выбрался на восточное побережье острова, известное своими, как их называли, «поющими песками» (что это означало, Пээтер так толком и не понял, он, по крайней мере, не услышал здесь ни одного шансона, не говоря уже об оперных ариях). Горизонт был пуст, словно линия целей в тире после того, как все фигурки сбиты, в небе валяло дурака ленивое эстонское солнце, поджидая момента, когда наконец удастся скрыться за очередным облаком, а море было полностью отдано во власть фауны, по его поверхности бегали зайцы, которых на некоторых языках называют овцами или барашками, в воздухе же, пронзительно вопя, метались чайки. «Над звенящими песками дюн кружатся в легендарном полете чайки», – продекламировал Пээтер машинально, тут же подумав, что он в нервной суете этих жадных птиц ничего легендарного не видит. Он вспомнил про психологический тест, который с ним однажды провела его бывшая любовница Ингрид, согласно тому ассоциация, возникающая у респондента в связи с упоминанием чаек, раскрывала его отношение к женщинам, и Ингрид была весьма возмущена, когда Пээтер не ответил «свобода», «романтика» или «красота», а «мерзкие крики и мусорные баки». На самом деле, Пээтер вовсе не думал о слабом поле столь дурно, по его мнению, женщины были милыми и даже нужными существами, как в качестве служанок и экономок, так и в ситуации, когда писатель закончил очередную главу или целое произведение и хочет немного поразвлечься. И поскольку сейчас наступил именно такой момент, то Пээтер был бы весьма доволен, если бы рядом с ним по щучьему велению возникла какая-нибудь интеллигентная блондинка, с которой можно полчасика пообщаться, а потом столько же времени покувыркаться в постели, а после быстро и безболезненно разойтись, но удовлетворить это скромное желание не представлялось возможным. Марину Пээтер с собой на остров не взял, а вернее, он именно от нее сюда и удрал, поскольку новую любовницу характеризовали не только сексуальный талант, но и страшная болтливость, Пээтеру даже стало казаться, что эти два свойства как-то между собой связаны, ему, по крайней мере, за две недели, которые они провели вместе в квартире двоюродного брата Тимо, открыть рот почти не удавалось – и не только открыть рот, но и написать хоть пару предложений, ибо Марина могла обещать «молчу-молчу» и даже устроиться тихонько на диване с книгой, но уже в следующий миг или прыснуть, или вздохнуть, или просто поменять позу, и каждое ее звукоизлияние либо движение заключали в себе столько эротического призыва, что Пээтер не удерживался и опять ложился рядом. Тут и крылось противоречие – чтобы сочинять, надо было находиться подальше от прекрасного пола, но отдалившись от него, ты оставался без совершенно необходимых для творчества эротических ощущений. Будь на острове какая-либо особа женского рода, способная заменить Марину, Пээтер сразу успокоился бы, но увы, жены и дочки аборигенов хотя и не носили набедренных повязок, но были тем не менее настолько неотесаны, что Пээтера пленить никак не могли, а среди новых поселенок свободных не было, они перебрались сюда с сожителями, и вторгаться в подобный союз было слишком опасно, как-то он здесь увидел, как одного слишком усердного донжуана избили до полусмерти, что же касалось офицерских жен, те, если и изменяли мужьям, то только с их сослуживцами, ну и, наконец, среди дачников Пээтер тоже ни одной потенциальной любовницы на этот раз не приметил. Два года назад у него здесь действительно возникла внезапная связь с одной столичной мадам, женой весьма известного врача, та напилась в Иванову ночь вдрызг, Пээтер хотел проводить ее до дому, но ноги ее просто не несли, и она осталась ночевать у него – однако сейчас ее на острове не было, и даже если бы она была, ему вряд ли стоило бы надеяться на повторение приключения, поскольку уже на следующий день после той ночи, встретив Пээтера посреди деревни, дама сделала вид, что не узнает его. Интересно, как Робинзон Крузо на своем острове обходился без женщины, подумал Пээтер? Для него всегда оставались непонятными те литературные герои, которые на войне, в походе или в забастовочном комитете забывали о существовании женского пола, ибо, по мнению Пээтера, сексуальная функция была движителем мироздания. Эрос и Танатос, Танатос и Эрос, эти два крылатых персонажа свили гнезда в голове каждого мужчины, по всей видимости, в разных висках, и играли на его нервах. Что, в сущности, из себя представляло, к примеру, тюремное заключение, как не пытка осужденного путем лишения его всякой возможности полового акта? Раздеть неисчислимое количество самых приятных ему женщин, разве не этого желал каждый нормальный мужчина, все прочее, искусство, в том числе, было лишь сублимацией. А женщины были хитры, они сознавали свою ценность для мужчин и на этом строили свое поведение. Они манили, но не отдавались, пока ты не терял осторожность, и тогда на тебя быстро надевали ошейник, как на собаку, и приковывали цепью к конуре, то бишь, к дому – судьба храброго Барбоса дяди Германа, которая Пээтера не привлекала. Выйти тебе позволяли только на охоту, чтобы ты весь день, пыхтя, мотался по лесу и вечером, уставший в прямом смысле, как собака, мог победоносно положить добычу к ногам хозяйки, после чего награждался небрежной лаской. Ибо, на самом деле, женщине вовсе не нужен мужчина, ей нужна материальная обеспеченность. Чего Маргот в начале их совместной жизни стала первым делом добиваться? Естественно, чтобы Пээтер записался в Союзе писателей в очередь за квартирой. И почему она сейчас с легким сердцем выкинула мужа? Потому что квартира была добыта, и она чувствовала себя в ней весьма уверенно. Кто знает, может, и у Маргот есть любовник, подумал Пээтер с небольшой тревогой, которую он, правда, тут же подавил – если он решил больше не сходиться с ней, то чего ради ревновать? Да, прошедшие две недели немало изменили в его жизни, сперва оказалось, что Марина кроме трюков с вагинальными мышцами вполне комфортно чувствует себя и в литературе (чего, вообще-то говоря, следовало ожидать, разве иначе она стала бы подходить на пляже к писателю, чтобы попросить автограф?), да, в этой области она ни в чем не уступала литературоведке Маргот, и даже, возможно, превосходила ее, поскольку была более начитанной, что поделаешь, если она имела возможность читать на русском языке все те книги всемирной классики, которые на эстонский еще не перевели, Пээтер, и тот ей иногда завидовал, а, чтобы читать, ей даже не приходилось идти в библиотеку, то есть, приходилось, но в другом смысле, на работу, поскольку трудилась она именно на этом, в хорошем смысле пыльном поприще, так что Пээтер даже стал ее называть сеньоритой Борхес. Но что его совершенно потрясло, это бесшабашность Марины, у которой не было ни малейших признаков страха перед цензурой, свойственного Маргот в избытке. За период брака с ней Пээтер крепко запомнил два предложения: «Пээтер, ты что, забыл, в какой стране ты живешь?» и «Пээтер, за это тебя точно посадят». А вот отношение Марины к его творчеству было прямо противоположным, когда Пээтер прочел ей свой незаконченный сценарий, она похвалила именно те сцены, которые у Маргот вызывали ужас, например, та, в которой Кингисепп попадает к проститутке, и когда Пээтер посетовал, что не уверен, примет ли это худсовет, сказала: «А ты борись, за свои идеи надо бороться.» Вот этого слова – бороться – Пээтер из уст Маргот никогда не слышал.
Может, Марина права, подумал он тогда сразу, да и теперь снова и снова возвращался к этой проблеме. Действительно, у кого из великих писателей все с самого начала складывалось легко? «Как ты не понимаешь, мы, эстонцы, должны быть осторожны, мы должны идти на компромиссы, в противном случае нас уже давно не было бы», – увещевала его обычно Маргот, и Пээтер, старый болван, слушался. А Марина была темпераментной и бесстрашной, как мушкетер Дюма. «Почему ты позволил им испортить этот рассказ?» – застонала она, когда Пээтер прочел ей одну свою новеллу, отмечая все те места, которые редактор и главлит потребовали вырезать или изменить. «А что мне оставалось, иначе ведь книгу не опубликовали бы», – стал оправдываться Пээтер простодушно, на что Марина возразила: «Что значит, не опубликовали бы? Куда они денутся, у них тоже план! А если бы они рассыпали типографский набор, ты мог бы поехать в Москву и дать иностранным журналистам пресс-конференцию об отсутствии в Советском Союзе свободы творчества». «Но тогда ведь возникла бы всякая ерунда с КГБ, может, еще и посадили бы», – сказал, притворившийся храбрецом Пээтер примерно таким тоном: «Этого я, конечно, не боюсь, но…» «Но ведь это было бы великолепно!» – воскликнула Марина с горящими глазами. «Подумай, если они тебя посадят – ты же моментально станешь знаменитым, как Солженицын!» Такая мысль Пээтеру в голову никогда не приходила, стать знаменитым он, конечно, хотел, но до сих пор полагал, что это должно случиться как бы само собой – люди прочтут его очередную книгу, впадут в восторг и начнут его везде расхваливать, и в кафе, и за заводским станком. Но, может, Марина права, и процесс идет в обратном порядке – сначала надо прославиться, и только потом все начнут тебя читать и хвалить? Что для этого надо сесть в тюрьму, Пээтеру, разумеется, не очень нравилось, но подумав, он набрался храбрости – разве мало великих писателей прошло через это испытание? Не только Солженицын, но и, например, Достоевский. Провел несколько лет на каторге, а потом получил мировую известность. Правда, слава Достоевского как будто с заработанным им сроком была не очень-то связана – но почему ты в этом так уверен, спросил Пээтер себя тотчас? Политические процессы в то время, пожалуй, случались не так уж часто, и вполне вероятно, что имя Достоевского осталось в памяти общественности уже со времен процесса Петрашевского, и после того, как он, освободившись, опубликовал первые произведения, к этому априори отнеслись с восторгом – ведь русская интеллигенция ненавидела царскую власть. Прибытие Солженицына в Германию, где Белль встречал его на аэродроме, Пээтер видел уже собственными глазами, по финскому телевидению, вместе с Маргот, правда, она обратила его внимание на то, что у Солженицына взгляд как у «загнанного зверя», и Пээтер согласился с ней и даже добавил: «Как у той крысы, которую я прошлой осенью убил в подвале Вальдека вилами, когда она грызла там яблоки» (довольно бессмысленное кровопролитие, ибо от яблок уже практически ничего не осталось) – но к черту взгляд, подумал Пээтер бодро, судьба Гумилева или Бабеля ему уже вряд ли грозила, да и в медные рудники, как дядя Эрвин, он не попадет, скорее всего, и не на лесные работы, как отец Марины, сын какого-то из бухаринских приятелей, в худшем случае, сунут на пару лет в обычную тюрьму, как Синявского и Даниеля, в лучшем – вышлют прямехонько из страны, это нынче было в моде, кроме Солженицына такое счастье выпало и Бродскому. Перед пээтеровским взором один за другим встали аэропорты Франкфурта, Орли и имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке: приземляется аэрофлотовский Ту-154, между двумя кагебешниками, выходит он, Пээтер Буридан, останавливается на секунду на трапе, обводя гордым взглядом «свободный мир», машет пришедшему его встретить эстонскому журналисту-эмигранту… Да, тут было, что взвешивать.
Размышляя, Пээтер успел освободиться от лишних и вообще от всяких одежд и стоял теперь нагишом, благо, кругом по-прежнему не было ни одного живого существа, кроме орущих чаек. Солнцу удалось устроиться на отдых за облаком, а ветер, казалось, усилился и стал холоднее, но его, будущего преследуемого писателя Эстонской ССР, это небольшое неудобство не остановило. Сделав, чтобы согреться, пару гимнастических упражнений – обычных, не йоговских – Пээтер дважды громко сказал: «Ухх!», настраиваясь таким образом на предстоящий подвиг, и храбро вошел в примерно восемнадцатиградусную воду.
Глава четвертая
Бунт
Вернувшись на дачу, Пээтер снова почувствовал легкий голод – плавание пробуждает аппетит, как любил говорить муж тети Софии Эдуард, по профессии инструктор физкультуры. Сейчас он был уже на пенсии, как и сама тетя, газеты эту ситуацию называли «заслуженным отдыхом», но на самом деле она, понял Пээтер вдруг, благодаря обострившемуся то ли от купания, то ли от одиночества, то ли от пустоты, образовавшейся после завершения сценария, то ли от всего вместе, восприятию, представляла собой не что иное, как ожидание смерти. Дядя София и тетя Эдуард – оговорка случайная, но оправданная, роль мужчины в этой семье всегда исполняла тетя – были отнюдь не единственными в роду, кто сидел и ждал смерти, собственно, они даже не сидели, а хлопотали в саду, на кухне, в сарае и на реке, не говоря о комнатах, действительно сидели отец Пээтера Арнольд, читавший, погрузившись в кресло, газеты «Рахва Хяел», «Известия» и «Кодумаа», и дядя Герман, развалившийся в шезлонге на веранде своего шале, попивавший яблочное вино собственного производства и слушавший краем уха ворчание новой жены – сидели и ждали смерти.
Они, поколение отцов, свой труд завершили, что-нибудь изменить было уже не в их силах, или, скажем, почти не в их силах, поскольку посадить еще одно дерево или перекрасить забор тетя и дядя все же могли, так же, как папа Арнольд мог написать еще одно письмо товарищу Брежневу с предложениями, как оживить экономику СССР – главное развлечение отца; но это было действительно уже все, на письма отвечали вежливо: «Благодарим за идеи, постараемся их использовать» (все-таки персональный пенсионер) и отправляли в архив. И все это означало, что однажды и он, Пээтер Буридан, по гражданской фамилии Лоодер, будет сидеть или в саду, или на веранде, или в комнате в кресле и отрезать себе примерно так же, как он это делал сейчас, ломоть хлеба, хотя вряд ли домашней выпечки, поскольку он вряд ли приедет проводить старость на Рухну, а в остальных местах ржаную муку достать было невозможно, намазывать на него масло и добавлять ложку меда, то есть, внешняя картина будет почти соответствовать настоящему, но внутренняя будет совершенно другой – ибо все книги, которые в его силах написать, он к тому времени уже напишет, останутся разве что мемуары, но это настоящей литературой считать нельзя, и он тоже не сможет тогда уже ничего изменить и будет только ждать смерти.
Но сейчас, подумал он, сейчас изменения еще возможны! Он вспомнил про книгу, которой решил заняться после окончания сценария. «Туманные истории». Какая чушь! Никаких больше туманных историй, с этого момента он будет писать только такие произведения, за которые не стыдно, например… Да, действительно, например, что? Что он мог написать, скажем, о своей жизни? Может, про то, как он вступил в партию? Примерно так:
«Это случилось в конце шестидесятых годов нашего века. Солнце уже встало и освещало трамвай, медленно подъезжавший по улице Лайкмаа к Нарвскому шоссе. Когда он остановился у детской поликлиники, из вагона вышли светловолосый, немного сутулый молодой человек и маленького роста девушка с веснушками.
– Видишь трехэтажный дом рядом с кинотеатром Форум? Это он и есть, комитет ЭКП Морского района, – сказал молодой человек.
Или так:
«В начале декабря, в чрезвычайно холодное время, один молодой человек вышел из своей квартиры на улице Ломоносова, где он обитал вместе с родителями, сестрой и женой, и медленно, как бы в нерешительности, отправился к Нарвскому шоссе. Он благополучно избежал встречи с матерью в прихожей. Не то, чтобы он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию.
Впрочем, на этот раз страх встречи с мамой поразил даже его самого.
– На какое дело хочу пойти и в то же время каких пустяков боюсь! – подумал он со странной улыбкой».
Или немного посовременнее:
«Сегодня я вступил в партию. Или, может, вчера, не знаю. После этого я напился и потерял чувство времени. Внутри у меня пустота, чувствую себя гомункулом. Поступок, который я совершил, не противоречит моим убеждениям, но только потому, что их у меня нет. Я не коммунист. В то же время, я не социал-демократ, не либерал и не консерватор. Может, в какой-то степени я националист – как всякий эстонский филолог, но умеренный националист, не радикал. Однако член Коммунистической партии должен быть интернационалистом, потому, переступая порог комитета Морского района ЭКП, я загнал свой идентитет в дальний уголок совести…»
Или он должен в восторженном плане изобразить свою богемную юность, писать про то, как он, пьяный, возвращался, шатаясь, домой, про задымленные бары и потных любовниц, своего рода протест против пуританской (но не буриданской) советской власти? Это можно было бы, если бы он действительно этим фрондерством гордился, однако все было как раз наоборот, Пээтер стыдился своих оргий так же, как и вступления в партию. О чем же тогда писать? Его жизнь была слишком неопределенна, эфемерна, чтобы из нее вылепить что-то художественное, и такова была не только его жизнь, но и жизнь всего его поколения. В ситуации, когда почти ничего не разрешалось, когда не было ни частных предприятий, ни студенческих корпораций, ни даже стриптиза, люди тоже превращались в своего рода тени, которые скользят по стене лет, не оставляя после себя никакого следа. Да, можно быдо написать рассказик про одну русскую филологиню с их факультета, которая на пьянке в общежитии продемонстрировала вполне приличный стриптиз – но это был единичный случай, не в том смысле, что никто больше себя так не вел, на самом деле бравых девиц хватало, да и эксгибиционизм в природе женщины, а в том, что ни одна из этих девиц, та самая филологиня в том числе, не раздевалась из вечера в вечер – то есть, раздевалась, конечно, но без зрителей, и потому из этого не мог сложиться образ жизни, а оттуда и судьба. Жизнь в советском обществе была очень моральной, очень упорядоченной и очень однообразной, и что о ней писать, Пээтер не знал – не описывать же политучения, которые он, как человек партийный, вынужден был регулярно посещать? Судьба поколения его родителей была намного драматичнее или даже трагичнее, взять хотя бы дядю Эрвина, который потерял в лагере здоровье, а потом пытался покончить с собой. Пээтер хорошо помнил ту ночь, когда проснулся на телефонный звонок, затем в коридоре началась нервная возня, он попробовал снова заснуть, но ему мешал храп Вальдека, спокойно спавшего на соседней кровати, в конце концов он встал и вышел в коридор, мама уже стояла в зимнем пальто у двери, отец сидел под вешалкой и надевал туфли. «Почему ты не спишь?» – увидев Пээтера, спросила мать строго и, не дожидаясь ответа, добавила: – «Ложись в постель, мы скоро придем, с дядей Эрвином случилось несчастье.» Несчастье? Это было так похоже на маму Викторию, подбирать каждому случаю из жизни самое точное и одновременно самое эвфемистическое название. Разве это несчастье, когда человек перерезает себе вены? Однако, с другой стороны, как это еще назвать? Почему дядя хотел свести счеты с жизнью, для Пээтера так и осталось загадкой, в семье об этом не говорили, повторяли только – нервы, разрушенное здоровье; темы тети Тамары избегали. Только много лет спустя, когда Пээтер уже имел некоторый опыт общения с истеричными женщинами, он однажды посмотрел на тетю как бы другими глазами и подумал – да, в ней есть что-то опасное. Было нетрудно представить, как она взвинчивает себя по любому поводу, тормошит мужа, не дает ему отдохнуть после напряженного рабочего дня – а уютный дом, конечно, был дяде Эрвину после всех настигших его испытаний ой как нужен. Да, вспомнил Пээтер вдруг – ведь из дяди хотели еще сделать буржуазного националиста – как будто одного лагеря ему было мало. Это случилось то ли в конце сороковых, то ли в начале пятидесятых, и Пээтер даже смутно это помнил, дома несколько дней снова была нервная обстановка, мать несколько раз разговаривала по телефону с тетей Лидией, поминала, что брата вызвали на допрос, и он до сих пор не вернулся – и именно он, Пээтер, оказался тем, кто во время ужина пошел после очередного звонка снимать трубку и, благодаря этому, мог вернуться в столовую с радостной новостью: «Звонит дядя Эрвин!» Мама тогда засияла, как девчонка, и помчалась в прихожую – и только потом Пээтер услышал про то, как следователь жонглировал на допросе дяди револьвером, эта сцена почему-то ярко стояла перед его глазами, так, как ее изобразила фантазия – наверно так и рождаются «правдивые истории», подумал он, человек сперва представляет что-то, это представление врезается ему в память, и возникший таким образом отпечаток уже ничем не отличается от оставленного тем, что произошло на самом деле, так что через много лет уже трудно отличить реальное от воображаемого. И почему бы мне не написать роман про дядю Эрвина, спросил он себя, подводя итог этих размышлений?
Ответить не успел, поскольку постучали в окно.
– Папа зовет тебя в баню, – послышался с улицы тоненький детский голосок, по которому Пээтер опознал пятую дочь соседа Ээспаева.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































