Читать книгу "Деревянные глаза. Десять статей о дистанции"
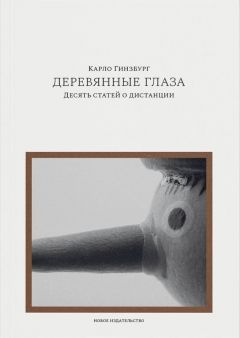
Автор книги: Карло Гинзбург
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
2
Миф
Дистанция и ложь[61]61
Благодарю Перри Андерсона, Пьера Чезаре Бори, Паж Дюбуа, Амоса Фанкенстайна, Альберто Гаяно, Вячеслава Иванова, Стефано Леви Делла Торре за их советы; Саверио Маркиньоли и Кристиану Натали – за указание на ряд неточностей.
[Закрыть]
Преемственность слов не обязательно свидетельствует о преемственности значений. То, что мы называем «философией», несмотря ни на что по-прежнему является «философией» греков, между тем как наша «экономика» – как дисциплина, так и ее предмет – и «экономика» греческая имеют между собой мало общего или даже расходятся полностью. О «мифе» мы часто говорим как в широком, так и в узком смысле слова: «мифы новых поколений», «мифы народов Амазонии». Мы без колебаний используем термин «миф» для описания феноменов, чрезвычайно отдаленных друг от друга во времени и пространстве. Можно ли здесь говорить о проявлении этноцентричного высокомерия?
В более или менее явной форме вопрос этот был сформулирован в рамках оживленной дискуссии о греческих мифах и понятии мифа у греков (две темы, связанные между собой, но не идентичные друг другу), развернувшейся в начале прошлого десятилетия[62]62
См. несколько характерных названий: Nagy G. The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry. Baltimore, 1979; Blumenberg H. Arbeit am Mythos. Frankfurt a. M., 1979; ит. пер.: Blumenberg H. Elaborazione del mito. Bologna, 1991; Detienne M. L’invention de la mythologie. Paris, 1981; ит. пер.: Detienne M. L’invenzione della mitologia. Torino, 1983; Veyne P. Les Grecs ont-ils cru à leur mythes? Paris, 1983; ит. пер.: Veyne P. I Greci hanno creduto ai loro miti? Bologna, 1984; Métamorphoses du mythe en Grèce antique / Sous la redaction de C. Calame. Genève, 1988.
[Закрыть], в ходе которой была поставлена под сомнение сама возможность определить особенный тип сказаний, именуемых «мифами». Мифы, как считалось, не существовали: существовала мифология, назойливое повествование, ведущееся во имя разума и направленное против неопределенного общетрадиционного знания[63]63
Это положение, сформулированное М. Детьеном (см., например: Detienne M. L’invention de la mythologie. P. 282–283), в дальнейшем подверглось критике, в частности, в одной из статей А. Момильяно (Rivista storica italiana. 1982. № 94. P. 784–787), а также в работах: Brisson L. Platon, les mots et les mythes. Paris, 1982; Edmunds L. The Practice of Greek Mythology // Approaches to Greek Myth / Ed. by L. Edmunds. Baltimore; London, 1990. P. 1–20. Установленное Момильяно расхождение между перспективами Детьена и Ж.-П. Вернана, можно, вопреки утверждениям противоположного свойства, считать подтвержденным – это вытекает из введения к новой книге Детьена: Detienne M. Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque. Paris, 1994 (в особенности см. c. 22–23).
[Закрыть]. Этот вывод, сам по себе более чем спорный, тем не менее имел свое положительное следствие – он вновь привлек внимание к осуждению мифа в текстах Платона. К их рассмотрению стоит обратиться еще раз.
I
1. Во второй книге «Государства» Платон описывает воспитание, необходимое для стражей государства. Оно предусматривает «гимнастическое воспитание» «для тела» и «мусическое» «для души»[64]64
[Здесь и далее пер. А.Н. Егунова.]
[Закрыть]. Однако музыка «включает <…> словесность (λόγους)», которая может быть двух видов – «истинного и ложного». Фальшь следует искоренять, начиная с раннего детства: мифы (μῦθοι), которые рассказывают детям, есть не что иное, как «ложь», даже если «в них есть и истина». Следует, поэтому, «смотреть за творцами мифов (πιστατητέον τοῖς μυθοποιοῖς)»: истинные мифы необходимо допускать, ложные – отвергать (376c–377d). Следующее затем порицание Гомера, Гесиода и других поэтов выдержано в том же духе: «Составив для людей лживые сказания (μύθους <…> ψευδεῖς), они стали им их рассказывать, да и до сих пор рассказывают». Безнравственные действия, приписанные поэтами богам, подпитывали антирелигиозный сарказм Ксенофана. Платон отвергает их, ибо они несовместимы с идеей божественного: «Разве бог не благ по существу? <…> А то, что не творит никакого зла, не может быть и причиной какого-либо зла»[65]65
В свою очередь, Аристотель считал, что Гомер учил говорить неправду («Поэтика», гл. 24), но подразумевал при этом сферу логики, а не морали. К тому же показывал он это на примере паралогизма.
[Закрыть]. Резкая критика лживых мифов выливается в осуждение поэтов: они не должны быть допущены в идеальное государство. Платон не осуждает мифы как таковые: если бы это было так, то он не желал бы распространения иных мифов – очищенных и должным образом исправленных. Он осуждает мифы лживые: при том что, предупреждает Платон, в них содержится и нечто правдивое. В «Тимее», например (22c–22d), египетский жрец говорит Солону, что сказание о Фаэтоне имеет «облик мифа, но в нем содержится и правда (τοῦτο μύθου μέν σχῆμα ἔχον λέγεται, τὸ δ’ἀληθές ἐστι)»[66]66
[Здесь и далее пер. С.С. Аверинцева.]
[Закрыть]: движение небесных тел время от времени приводит к разрушениям. Однако в общем различение ложных и истинных элементов внутри мифа – дело совсем не простое, свидетельством чему служит знаменитый отрывок из «Федра» (229c–230a)[67]67
Это положение служит исходной точкой для работы: Cassirer E. Sprache und Mythos. Hamburg, 1923 (= Studien der Bibliothek Warburg. Bd. VI). S. 1 и далее [Кассирер Э. Язык и миф // Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос. М., 2000. С. 327 и далее]; см. также: Detienne M. L’invention de la mythologie. P. 157–158.
[Закрыть].
Федр и Сократ прогуливаются в окрестностях Афин. «Скажи мне, Сократ, – говорит Федр, – не здесь ли где-то, с Илиса, Борей, по преданию (λέγεται), похитил Орифию? Или он похитил ее с холма Арея? Ведь есть и такое предание (λόγος)»[68]68
[Здесь и далее пер. А.Н. Егунова.]
[Закрыть]. Сократ кивает головой. Федр замечает, что прозрачность речной воды, без сомнения, способствует девичьим забавам Орифии. Сократ отвечает, что на некотором отдалении находится жертвенник Борею. «Не обратил внимание, – говорит Федр. – Но скажи, ради Зевса, Сократ, ты веришь в истинность (ἀληθές) этого сказания (μυθολόγημα)?»
Федр использует понятия «λόγος» и «μυθολόγημα» (которые я перевел бы соответственно «рассказ» и «миф») как эквивалентные. Заданный Федром вопрос, даже если он и относится к частному случаю, затрагивает общую проблему, рассмотренную во второй книге «Государства», – проблему истинности мифов. Ответ Сократа (229c–229e) почти сразу переводит обсуждение в более широкую плоскость:
Если бы я и не верил, подобно мудрецам, ничего в этом не было бы странного – я стал бы тогда мудрствовать и сказал бы, что порывом Борея сбросило Орифию, когда она резвилась с Фармакеей на прибрежных скалах; о такой ее кончине и сложилось предание, будто она была похищена Бореем. Или он похитил ее с холма Арея? Ведь есть и такое предание – что она была похищена там, а не здесь. Впрочем, я-то, Федр, считаю, что подобные толкования хотя и привлекательны, но это дело человека особых способностей; трудов у него будет много, а удачи не слишком, и не по чему другому, а из-за того, что вслед за тем придется ему восстанавливать подлинный вид гиппокентавров, потом химер, и нахлынет на него целая орава всяких горгон и пегасов и несметное скопище разных других нелепых чудовищ. Если кто, не веря в них, со своей доморощенной мудростью приступит к правдоподобному объяснению каждого вида, ему понадобится много досуга[69]69
Platone. Fedro // Platone. Opere complete / A cura di P. Pucci. Roma; Bari, 1966. P. 215–216.
[Закрыть].
Интерпретация такого рода Сократу неинтересна: «Я никак еще не могу, согласно дельфийской надписи, познать самого себя. И, по-моему, смешно, не зная пока этого, исследовать чужое». В таких вещах, говорит он, я «доверяю общепринятому (τῷ νομιζομένῳ)», то есть, как мы бы сейчас сказали, традиции.
Отказ рассматривать мифы, сводя их, как то предлагали софисты, к цепи естественных и повседневных обстоятельств, в данном случае очевиден. Федр спрашивает, «истинен» ли миф о Борее и Орифии, и Сократ отвечает ему, что в лучшем случае «доморощенное» толкование аллегории может привести к «правдоподобному объяснению» (κατὰ τὸ εἰκός). Однако даже и последней цели достичь не так уж просто, когда речь идет о необходимости анализировать кентавров, Химеру, ораву «горгон и пегасов». Множественное число подчеркивает ироническое, почти презрительное отстранение: одно стоит другого. Теперь Сократ оставляет сказание (λόγος? μυθολόγημα?), которое строится вокруг похищения Бореем Орифии, и начинает рассуждать о более общей сфере, включающей и помянутую историю. Из его слов мы узнаем, что кентавры, Горгоны и прочие – это обязательная составляющая такого рода рассказов. Эти фигуры объединены своим гибридным характером: они наполовину люди, наполовину животные или же происходят от смешения разных видов. Почти четыре века спустя Дионисий Галикарнасский обнаружил в этих разнородных существах мифический (μυθῶδες) элемент, от которого, как писал с гордостью Фукидид (I, 22, 4), ему самому удалось избавиться:
Первое, что отличает его [Фукидида], по-моему, от предшественников <…> – он не вплел в свой рассказ ничего баснословного (τὸ μηδὲν… μυθῶδες), не превратил его в ложь и обольщение для толпы, как поступали его предшественники, рассказывая о каких-то ламиях, возникших из земли в лесах и ущельях, и о вышедших из Тартара земноводных наядах, плавающих в море, обладающих обликом наполовину человеческим, а наполовину звериным, и вступающих в сношения с людьми, и о полубогах, произошедших от союзов смертных с богами, и о прочем, чему в наше время не верят и полагают нелепицей[70]70
Dionigi di Alicarnasso. Saggio du Tucidide / Tr. it. di G. Pavano. Palermo, 1952. P. 33 и далее [Дионисий Галикарнасский. О Фукидиде // Аристей. 2014. Т. IX. С. 194; пер. И.П. Рушкина]. В следующем параграфе Дионисий настаивает на местном характере этой традиции, что подчеркивается в работе: Edmunds L. Op. cit. P. 5.
[Закрыть].
2. Говорить о «мифическом элементе» (τὸ μυθῶδες), как это делает Фукидид, а вслед за ним и Дионисий Галикарнасский, значит рассматривать миф как гомогенное (и в данном случае – негативное) понятие[71]71
См. в этом же смысле противопоставление между «разумом» (ragione, λόγος) и «сказочным вымыслом» (mito, μυθῶδες) в первом параграфе «Жизнеописаний» Плутарха (цит. по: Trimpi W. Muses of One Mind: The Literary Analysis of Experience and its Continuity. Princeton, 1983. P. 292 [пер. С.П. Маркиша]).
[Закрыть]. Подход Платона, как мы видели, был иным. С одной стороны, он еще не устанавливал прочной связи между термином «μῦθος» и особой повествовательной категорией; с другой, он стремился различать истинное и ложное в рассказах, передаваемых традицией (начиная с поэтических текстов). Уместно повторить: мишенью Платона является не миф сам по себе, но миф как проводник ложных утверждений.
Тексты Платона, о которых шла речь, – вторая книга «Государства» и «Федр» – со всей вероятностью созданы более или менее в одно время (390–385 годы до н. э.)[72]72
Ср.: Brandwood L. The Chronology of Plato’s Dialogues. Cambridge, 1990, в особенности c. 245–247. О структуре «Государства» и возможности двух вариантов его изданий см. введение А. Диэса к изданию диалога в серии «Belles Lettres» ( Diès A. Introduction // Platon. La République. Paris, 1989. P. CXXII–CXXVIII): Диэс как terminus ante quem предлагает более позднюю дату – 375 год до н. э.
[Закрыть].
Позже, однако, Платон вернулся к вопросу о ложных рассуждениях – в «Софисте», в ходе ожесточенной дискуссии с философией Элейской школы¹³. В радикально монистической перспективе, которой держался Парменид и его ученики, отрицание подразумевало небытие: «чего нет, того нет». В «Софисте» чужеземец из Элеи, носитель идей Платона, возражает этой точке зрения, различая абсолютное и опосредованное отрицания, «небытие» и «небытие чем-то». Эта аргументация оказывается развита ближе к концу диалога, где Платон вводит тему ложного рассуждения (259e–264b):
Чужеземец. Прежде всего, как уже сказано, возьмем-ка речь и мнение, дабы дать себе ясный отчет: соприкасается ли с ними небытие или и то и другое безусловно истинны и ни одно из них никогда не бывает заблуждением.
Теэтет. Правильно.
Чужеземец. Давай, как мы говорили об идеях и буквах, рассмотрим таким же образом и слова, так как примерно таким путем раскрывается то, что мы теперь ищем.
Теэтет. На что же надо обратить внимание в словах?
Чужеземец. А вот на что: все ли они сочетаются друг с другом или ни одно из них? Или некоторые склонны к этому, другие же нет?
Теэтет. Ясно, что одни склонны, а другие нет.
Чужеземец. Быть может, ты думаешь так: те, что выговариваются по порядку и что-либо выражают, между собой сочетаются, те же, последовательность которых ничего не обозначает, не сочетаются[73]73
[Здесь и далее пер. С.А. Ананьина.] О том же см.: Аристотель, «Метафизика», 1051b.
[Закрыть].
Тогда чужеземец из Элеи вводит новое различение – между глаголами («ῥήματα») и именами («ὀνόματα»). Он иллюстрирует свой тезис так:
Чужеземец. Но из одних имен, последовательно произнесенных, никогда не образуется речь, так же и из глаголов, произнесенных без имен. <…> Возьми, например, [глаголы] «идет», «бежит», «спит» и все прочие слова, обозначающие действие: если кто-нибудь пересказал бы их по порядку, то этим он вовсе не составил бы речи. <…> Таким же образом, если произносится «лев», «олень», «лошадь» и любые другие слова, обозначающие все, что производит действие, то и из их чередования не возникает речь. Высказанное никак не выражает ни действия, ни его отсутствия, ни сущности существующего, ни сущности несуществующего, пока кто-либо не соединит глаголов с именами.
Об истинном или ложном рассуждении мы можем говорить (заключает чужеземец из Элеи) лишь при наличии такого суждения, как «человек учится». Оно объединяет субъект и глагол: истинное относится к тому, что существует, ложное – к тому, чего нет[74]74
Ср.: De Rijk L.M. Plato’s Sophist: A Philosophical Commentary. Amsterdam, 1986. P. 304–305. В диалоге «Кратил» Платон утверждал, что имена также могут быть истинными (комментарий см.: Ibid. P. 277–282). В цикле лекций «Философия логического атомизма» (1918) Бертран Рассел говорил, что впервые отдал себе отчет в «очевидном» факте – верификации или фальсификации подлежат пропозиции (а не имена) – только благодаря своему ученику Витгенштейну ( Russell B. Logic and Knowledge: Essays, 1901–1950 / Ed. by R.C. Marsh. London, 1966. P. 187 [Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск, 1999. С. 12–13]; об этом см.: Denyer N. Op. cit. P. 15, 214, n. 2).
[Закрыть].
3. В трактате «Об истолковании» Аристотель переосмысливает выводы «Софиста». В первую очередь, он смягчает различие между глаголами («ῥήματα») и именами («ὀνόματα»): «Итак, глаголы, высказанные сами по себе, суть имена и что-то обозначают <…> однако они еще не указывают, есть ли [предмет] или нет» (16b20)[75]75
[Здесь и далее пер. Э.Л. Радлова.]
[Закрыть]. Во-вторых, он замечает, что «„He-человек“ не есть имя <…> ибо он не есть ни речь, ни отрицание. Пусть он называется неопределенным именем (ὄνομα ἀόριστον)…» (16a30). То же касается и глаголов, хотя примера «неопределенных глаголов» Аристотель так и не дает:
…отрицание всегда должно быть истинным или ложным; тот же, кто говорит «не-человек», если только он к этому ничего не добавляет, высказывает истинное или ложное столько же и даже меньше, чем тот, кто говорит «человек» (20a31–20a35).
Эти утверждения Аристотель вводит в следующем отрывке, находящемся в начале трактата «Об истолковании» (16a9–18):
Подобно тому как мысль то появляется в душе, не будучи истинной или ложной, то так, что она необходимо истинна или ложна, точно так же и в звукосочетаниях, ибо истинное и ложное имеются при связывании и разъединении. Имена же и глаголы сами по себе подобны мысли без связывания или разъединения, например «человек» или «белое»; когда ничего не прибавляется, нет ни ложного, ни истинного, хотя они и обозначают что-то: ведь и «козлоолень» что-то обозначает (καὶ γὰρ ὁ τραγέλαφος σημαίνει μέν τι), но еще не истинно и не ложно, когда не прибавлен [глагол] «быть» или «не быть» – либо вообще, либо касательно времени (ἢ ἁπλῶς ἢ κατὰ χρόνον)[76]76
Aristotele. Dell’interpretazione / A cura di M. Zanatta. Milano, 1992. P. 79.
[Закрыть].
Уже сформулированный Платоном в «Софисте» тезис, согласно которому имя (например, «олень», «ἔλαφος»), взятое отдельно, не является ни истинным, ни ложным, воспроизводится и усиливается Аристотелем с помощью примера с «трагелафом» (τραγέλαφος), наполовину козлом, наполовину оленем, то есть вымышленным животным[77]77
Ibid. P. 146 (издатель текста отсылает к исследованиям В. Саинати).
[Закрыть]. Последняя характеристика, лишь подразумеваемая в приведенном только что отрывке, постоянно подчеркивается в других трактатах Аристотеля. В «Физике» (208a29–31) говорится, что, подобно сфинксу, козлоолень не существует и поэтому он «нигде не находится»[78]78
[Пер. В.П. Карпова.]
[Закрыть]. Во «Второй аналитике» (92b4–8) читаем:
Далее, каким образом докажут суть [вещи]? Необходимо ведь, чтобы тот, кто знает, чтó такое человек, или что-либо другое, знал также, что он есть, ибо о том, чего нет, никто не знает, чтó оно есть (τὸ γὰρ μὴ ὂν οὐδεὶς οἶδεν ὅτι ἐστίν) <…> [известно только], что означает [данное] слово или название, как если я, например, скажу «козлоолень» (τραγέλαφος). Но что такое «козлоолень» – это знать невозможно[79]79
Aristotele. Gli analitici secondi / A cura di M. Mignucci. Bologna, 1970. P. 102 [здесь и далее пер. Б.А. Фохта]. См. обобщающую работу: Sillitti G. Tragelaphos: Storia di una metafora e di un problema. Napoli, 1980.
[Закрыть].
Несколькими страницами выше (89b23–35) та же аргументация подана иным образом, через вопрос, возможно, восходящий к софистам, – «есть ли или нет кентавр или бог». Однако «здесь я имею в виду, есть ли нечто или нет вообще», продолжает Аристотель, а не спрашиваю, «[например], бело ли оно или нет. А когда мы уже знаем, что нечто есть, тогда мы спрашиваем о том, что именно оно есть, например: что же есть бог или что такое человек?»[80]80
Тонкие предположения об этом отрывке см.: Festugière A.-J. La revelation d’Hermès Trismégiste. Paris, 1981. Vol. IV: Le Dieu inconnu et la gnose. P. 14–16.
[Закрыть]
Как мы видели, с точки зрения греков, гибридные существа оказывались теснейшим образом связаны с тем типом повествования, который позже был идентифицирован с «мифом». В только что приведенных цитатах козлоолени, кентавры и сфинксы – это чисто логические инструменты, поскольку они являются сущностями, лишенными референтного значения[81]81
Ср.: Sillitti G. Op. cit. P. 11–12 et passim.
[Закрыть]. Тем не менее со временем обе линии – сфера логики и сфера размышлений над мифом – пересеклись.
4. В течение многих веков на средневековом Западе единственным источником сведений о сочинениях Аристотеля по логике служили переводы и комментарии Боэция. Так, он создал комментарий (в двух версиях разного объема) к тексту Аристотеля «Об истолковании». Добравшись до примера с козлооленем, Боэций не смог сдержать энтузиазма: вот что значит доказать, что отдельно взятое имя не истинно и не ложно, с помощью составного имени, к тому же принадлежащего вымышленному существу![82]82
См. текстологическую поправку, предложенную в работе: De Rijk L.M. On Boethius’ Notion of Being // De Rijk L.M. Through Language to Reality / Ed. by E.P. Bos. Northampton, 1989. P. 27, n. 43.
[Закрыть] «Новизна и особая утонченность этого примера (exempli novitas et exquisita subtilitas) делают его весьма убедительным». Затем он комментирует фразу «но еще не истинно и не ложно, когда не прибавлен [глагол] „быть“ или „не быть“ – либо вообще, либо касательно времени» (курсив мой. – К.Г.). Это противопоставление сводится Боэцием к оппозиции между высказываниями «о сущности» и высказываниями, добавляющими нечто, что «свидетельствует об определенного рода присутствии (praesentiam quondam significet)». Боэций продолжает:
Действительно, когда мы говорим «Бог есть», мы не имеем в виду, что он «есть сейчас», но лишь то, что он есть вообще, поэтому наше утверждение скорее относится к неизменности сущего, нежели к бытию в определенном времени. Однако если мы говорим «сейчас день», мы не подразумеваем день вообще, но его укорененность во времени: как если бы мы сказали «это так», «сейчас он [день] есть» <…>. Таково первое объяснение. А вот и второе. О «бытии чьем-то» можно сказать двояко: или вообще (simpliciter) или касательно времени; вообще, касательно настоящего времени, как если бы кто-то утверждал – «козлоолень есть». Однако то, что называется настоящим, – это не время, но граница между разными временами: конец прошлого и начало будущего <…>. Существуют лишь (как было сказано) два времени, прошлое и будущее. Если мы употребляем настоящее время, то говорим вообще; если же прошлое или будущее, то касательно времени. Есть еще и третье объяснение. Иногда мы используем время, чтобы говорить неопределенным образом: если кто-то говорит «козлоолень есть, был, будет», то изъясняется неопределенно и вообще (indefinite et simpliciter). Однако если к тому, что говорится вообще, прибавить «есть сейчас», «был вчера» или «будет завтра», то прибавится и время[83]83
Anicii Manlii Severini Boethii. Commentarii in librum Aristotelis Περὶ ἑρμηνείας… pars posterior / A cura di C. Meiser. Lipsiae, 1880. P. 49–52 («Maximam vero vim habet exempli novitas et exquisita subtilitas. Ad demonstrandum enim quod unum solum nomen neque verum sit neque falsum, posuit huiusmodi nomen, quod conpositum quidem esset, nulla tamen eius substantia reperiretur. Si quod ergo unum nomen veritatem posset falsitatemve retinere, posset huiusmodi nomen, quod est hircocervus, quoniam omnino in rebus nulla illi substantia est, falsum aliquid designare, sed non designat aliquam falsitatem. Nisi enim dicatur hircocervus vel esse vel non esse, quamquam ipsum per se non sit, solum tamen dictum nihil falsi in eo sermone verive perpenditur. <…> Hoc vero idcirco addidit, quod in quibusdam ita enuntiationes fiunt, ut quod de ipsis dicitur secundum substantiam proponatur, in quibusdam vero hoc ipsum esse quod additur non substantiam sed praesentiam quondam significet. Cum enim dicimus deus est, non eum dicimus nunc esse, sed tantum in substantia esse, ut hoc ad inmutabilitatem potius substantiae quam ad tempus aliquod referatur. Si autem dicimus dies est, ad nullam diei substantiam pertinet nisi tantum ad temporis constitutionem. Hos est enim quod significat est, tanquam si dicamus nunc est. Quare cum ita dicimus esse ut substantiam designemus, simpliciter est addimus, cum vero ita ut aliquid praesens significetur, secundum tempus. Haec una quam diximus expositio. Alia vero huiusmodi est: esse aliquid duobus modis dicitur: aut simpliciter, aut secundum tempus. Simpliciter quidem secundum praesens tempus, ut si quis dicat hircocervus est. Praesens autem quod dicitur tempus non est, sed confinium temporum: finis namque est praeteriti futurique principium. Quocirca quisquis secundum praesens hoc sermone quod est esse utitur, simpliciter utitur, qui vero aut praeteritum, iungit aut futurum, ille non simpliciter, sed iam in ipsum tempus incurrit. Tempora namque (ut dictum est) duo ponuntur: praeteritum atque futurum. Quod si quis cum praesens nominat, simpliciter dicit, cum utrumlibet praeteritum vel futurum dixerit, secundum tempus utitur enuntiatione. Est quoque tertia huiusmodi expositio, quod aliquotiens ita tempore utimur, ut indefinite dicamus: ut si qui dicat, est hircocervus, fuit hircocervus, erit hircocervus, hoc indefinite et simpliciter dictum est. Sin vero aliquis addat, nunc est, vel heri fuit, vel cras erit, ad hoc ipsum esse quod simpliciter dicitur, addit tempus»). Мне неизвестны примеры анализа и обсуждения этого отрывка; упоминание о нем см.: Nuchelmans G. Theories of the Proposition: Ancient and Medieval Conceptions of the Bearers of Truth and Falsity. Amsterdam; London, 1973. P. 133.
[Закрыть].
Таким образом, Боэций начинает с интерпретации эллиптического выражения Аристотеля «вообще или касательно времени», связывая его с двойственностью «бытия» во временнóм и вневременном смысле[84]84
Эту интерпретацию с осторожностью принимает Дж. Л. Экрил в своем комментарии к трактату «Об истолковании» (Aristotle. Categories and De Interpretatione / Transl. with notes and glossary by J.L. Ackrill. Oxford, 1963. P. 115).
[Закрыть]. Эта амбивалентность исчезает из второго объяснения, где настоящее время («есть») отождествляется со сферой вневременного, а прошлое и будущее («был» и «будет») – со сферой временнóго. Существует и третье объяснение: подобно настоящему, прошлое и будущее времена также могут рассматриваться «неопределенно и вообще» (indefinite et simpliciter); «козлоолень есть, был, будет». Три истолкования (ни одному из которых Боэций не отдает предпочтения[85]85
См. об этом: De Rijk L.M. On Boethius’ Notion of Being. P. 14.
[Закрыть]) постепенно лишают все темпоральные аспекты глагола «быть» связи «со временем» («согласно времени»). Соответственно мы видим, как постепенно расширяется пространство вневременного, абсолютного и неопределенного, открытое Аристотелем при обосновании потенциала «простого имени» (simplicis nominis)[86]86
Аристотель в переводе Боэция: «Nomen ergo est vox significativa secundum placitum sine tempore <…> verbum autem est quod consignificat tempus» (Anicii Manlii Severini Boethii. Commentarii… P. 52, 65). Два термина Боэция, «абсолютное» и «неопределенное», калькируют понятия, использованные Аристотелем («ἀόριστον», 16a30; «ἁπλῶς», 16a18). Отметим тем не менее, что в комментарии к «Об истолковании» (16а30) выражение «ὄνομα ἀόριστον» Боэций перевел как «nomen infinitum», а не «indefinitum»: «et nomen hoc, quod nihil definitum designaret, non diceretur simpliciter nomen, sed nomen infinitum. Cuius sententiae Aristoteles auctor est, qui se hoc ei vocabulum autumat invenisse» (Ibid. P. 63). О понятии «simpliciter» см. также: De Rijk L.M. La philosophie au Moyen Âge. Leiden, 1985. P. 164–166 (в связи с интерпретацией Фомы Аквинским отрывка Исх 3: 14).
[Закрыть]. В действительности, «козлоолень», элемент пустого множества, оказывается мощнейшим логическим инструментом. Мы как будто присутствуем при изобретении нуля.
Ученые часто, возможно, даже чрезмерно, настаивали на малой оригинальности или даже абсолютной вторичности комментариев Боэция в сравнении с произведениями Аристотеля. Согласно наиболее авторитетной из современных гипотез, Боэций черпал сведения из ряда греческих глосс, вероятно, происходивших из школы Прокла и прилагавшихся к копии «Органона», находившейся в его распоряжении[87]87
См.: Shiel J. Boethius’ Commentaries on Aristotle // Mediaeval and Renaissance Studies. 1958. № 4. P. 217–244; а также работу, следующую по тому же пути и вносящую дополнительные уточнения: De Rijk L.M. On the Chronology of Boethius’ Works on Logic // Vivarium. 1964. № 2. P. 1–49, 125–152.
[Закрыть]. Кажется, однако, маловероятным, что упомянутые глоссы содержали также и комментарий, процитированный выше. Утверждение «существует лишь два времени, прошлое и будущее», по сути, звучит как радикальная перифраза знаменитого суждения Августина из 11-й книги «Исповеди»: «Есть три времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего»[88]88
«Исповедь», XI, 20 [пер. М.Е. Сергеенко] («Tempora sunt tria, praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de futuris»).
[Закрыть]. Настоящему Августина, которое мы назвали бы экзистенциальным, Боэций противопоставляет настоящее вневременное и логическое. Полемика эта обнаруживает себя в различных формах и в других его текстах. Бог, читаем мы в «Quomodo Trinitas unus Deus» («Каким образом Троица есть единый Бог, а не три божества»), «всегда есть»: но не в смысле «был во всем прошедшем, есть <…> – во всем настоящем и будет во всем будущем», поскольку так можно говорить о небе и других бессмертных телах. Бог есть, ибо он – «постоянное, неподвижное и устойчивое» «теперь», которое отличается от нашего настоящего так же, как вечность (aeternitas) разнится с беспрестанностью (sempiternitas): различение, которого мы не найдем в трактате Августина «О Троице» – тексте, которому Боэций, по его уверению, был тем не менее многим обязан[89]89
Boethius. Quomodo Trinitas unus Deus // Patrologiae cursus completus. Series Latina / Accurante J.P. Migne [далее – PL]. Т. 63. Col. 1253 («Quod vero de Deo dicitur semper est, unum quidem significat, quasi omni praeterito fuerit, omni quoquo modo sit praesenti, omni futuro erit. Quod de coelo et de caeteris immortalibus corporibus secundum philosophos dici potest. At de Deo non ita, semper enim est, quoniam semper praesentis est in eo temporis, tantumque inter nostrarum rerum praesens, quod est nunc, ad divinarum, quod nostrum nunc quasi currens tempus facit et sempiternum, divinum vero nunc permanens, neque movens sese atque consistens, aeternitatem facit» [ «А что о Боге говорят, что Он „всегда есть“, означает, по-видимому, только одно, а именно, что Он был во всем прошедшем, есть – каким бы образом он ни существовал – во всем настоящем и будет во всем будущем. Однако, если следовать философам, то же самое можно сказать и о небе, и обо всех прочих бессмертных телах; но, применительно к Богу это означает совсем другое. Бог действительно есть всегда, поскольку это „всегда“ относится к настоящему времени в Нем. Однако между настоящим наших [сотворенных вещей], которое есть как „теперь“, и божественным настоящим – большая разница: наше „теперь“ как бы бежит и тем самым создает время и беспрестанность, и божественное „теперь“ – постоянное, неподвижное и устойчивое – создает вечность» (Боэций. Каким образом Троица есть единый Бог, а не три божества // Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990. С. 152–153; пер. Т.Ю. Бородай)]; см. также «Проэмий» [PL. Т. 64. Col. 1249]). Отличия этой точки зрения от постановки проблемы у Августина подчеркиваются в работе: Leonardi C. La controversia trinitaria nell’epoca e nell’opera di Boezio // Atti del Congresso internazionale di studi Boeziani / A cura di L. Obertello. Roma, 1981. P. 109–122. Об отсутствии различения между «aeternitas» и «sempiternitas» у Августина см.: «О Троице», V, 15–16 (PL. Т. 42. Col. 921–922).
[Закрыть].
5. «Бог есть», «козлоолень есть»: Существо что ни на есть подлинное и существо вымышленное соседствуют во вневременном измерении – в абсолютном вечного настоящего[90]90
Подробнее о вневременном настоящем см.: De Rijk L.M. Die Wirkung der neuplatonischen Semantik auf das mittelalterliche Denken über das Sein // Sprache und Erkenntnis im Mittelalter: Akten des VI. internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie. Berlin; New York, 1981. Hbbd. 1. S. 19–35, особенно см. c. 29.
[Закрыть]. Это парадоксальное соединение показывает, что следует внимательно изучить указание Боэция, сделанное им несколькими страницами выше, на «кентавров и химер, которых поэты finxerunt». И прежде всего, как бы мы перевели слово «finxerunt»? «Создали (fabbricarono)»? «Придумали (inventarono)»?[91]91
«Sunt enim intellectus sine re ulla subiecta, ut quos centauros vel chimaeras poetae finxerunt» [ «Ведь существуют понятия без каких-либо стоящих за ними вещей, как кентавры и химеры, которых создали поэты»] (Anicii Manlii Severini Boethii. Commentarii… P. 22). На эти слова указывает де Рийк, когда говорит о «поэтических выдумках» («poetical fabrications») ( De Rijk L.M. On Boethius’ Notion of Being. P. 16). Мои последующие замечания вводят дополнительные аргументы в пользу именно такого перевода.
[Закрыть]
Следует выбрать один из вариантов, ибо точный смысл таких терминов, как «fictiones» или «figmenta», широко использовавшихся христианскими и языческими писателями поздней Античности для определения того, что мы сегодня зовем «мифами», кажется решительно непроясненным. «Измышление поэтов состоит в том, что они называют богами тех, кто не боги»[92]92
[Блаженный Августин. Творения: В 4 т. СПб.; Киев, 1998. Т. 3. С. 380.]
[Закрыть], утверждал Августин («О граде Божием», IX, 7) по поводу сочинения Апулея «О божестве Сократа». Макробий в своем «Комментарии на Сон Сципиона», напротив, отмечал, что порой «под целомудренным покровом вымыслов являются <…> святые истины (sacrarum rerum notio sub pio figmentorum velamine <…> enuntiatur)»: наблюдение первоначально относилось к мифам Платона, столь непохожим на скандальные мифы о богах, однако затем распространилось и на Гомера, «источник и начало всякой божественной мудрости», который «под покровом поэтического вымысла указал мудрецам на истину» («sub poetici nube figmenti verum sapientibus intellegi dedit»)[93]93
Macrobio. Commento al “Somnium Scipionis” / A cura di M. Regali. Pisa, 1983 (I, 2, 11; II, 10, 11).
[Закрыть]. Мы вскоре увидим, что оппозиция между обманчивой «fictio» Августина и «figmentum» Макробия, покровом священных истин, является, скорее, мнимой.
Возможно, энтузиазм Боэция при обращении к примеру Аристотеля с козлооленем был эмоцией человека, перед которым открывались неизведанные пространства для разысканий. Сразу после 515–516 годов, вероятной даты создания второго комментария к трактату «Об истолковании», Боэций должен был приступить к работе над сочинением «О гипотетических силлогизмах» (516–522 годы)[94]94
См.: De Rijk L.M. On the Chronology of Boethius’ Works on Logic. P. 1–49, 125–152; см. суммирующие таблицы на с. 159, 161.
[Закрыть]. Во введении к тексту он с гордостью отмечал, что об этой теме у Аристотеля не сказано ничего, Теофраст коснулся ее лишь в общем, а Евдем «как бы заронил некие семена»[95]95
Boezio. De hypotheticis syllogismis (introduzione) / A cura di L. Obertello. Brescia, 1969. P. 206–207 (I, I, 3–5) [Боэций. Указ. соч. С. 322].
[Закрыть]. С точки зрения Боэция, речь шла об умножении выгод ораторского искусства, подвигнувших его на комментарий к «Топике» Цицерона, посвященный Патрицию, «квестору Священного Дворца» (возможному адресату и трактата «О гипотетических силлогизмах»)[96]96
Эту гипотезу выдвинул де Рийк, которого поддержал и Л. Обертелло (Ibid. P. 135).
[Закрыть]. Некоторые из силлогизмов, проанализированных Боэцием, – скажем, составленные из двух гипотетических утверждений (Если a, то b, если с, то d), – неизбежно напоминают логическое устройство римских законов[97]97
Boezio. De hypotheticis syllogismis… P. 356–357 (III, VI, 6–7).
[Закрыть]. Возьмем пример, заимствованный из «Институций» Гая (IV, 37): «Если окажется, что Дионом, сыном Гермея, или благодаря его помощи и советам совершена кража золотой чаши у Луция Тиция, то следовало бы его, если он римский гражданин (si civis Romanus esset), присудить за убыток в качестве вора». Предположим, однако, что обвиняемый (или же жертва кражи) – иностранец: в этом случае, комментирует Гай, если то допускает закон (si modo iustum est), он считается римским гражданином «по фикции (civitas Romana peregrino fingitur)»[98]98
Gaius. Institutes / Texte établi et traduit par J. Reinach. Paris, 1950 [Гай. Институции. М., 1997. С. 109; пер. Ф.М. Дыдынского].
[Закрыть].
Юридические фикции («fictiones») подобного рода были хорошо знакомы римским правоведам[99]99
См.: Lipenius M. Bibliotheca realis juridica. Lipsiae, 1757. Vol. I. P. 511; Dadin de Hauteserre [Dadinus de Alteserra] A. De fictionibus juris [Paris, 1679] // Antonii Dadini Alteserrae antecessoris olim Tolosani Opera omnia. Neapoli, 1777. T. VI; Pringsheim F. Symbol und Fiktion in antiken Rechten // Pringsheim F. Gesammelte Abhandlungen. Heidelberg, 1961. Bd. II. S. 382–400; Kantorowicz E. The Sovereighty of the Artist: A Note on Legal Maxims and Renaissance Theories of Art [1961] // Kantorowicz E. Selected Studies. Locust Valley; New York, 1965. P. 352–365, в особенности c. 354–355; Fuller L.L. Legal Fictions. Stanford, 1967.
[Закрыть]. По мнению римского сенатора Боэция, козлоолень Аристотеля являлся не поэтико-религиозным вымыслом, но логико-юридической «fictio»: конструкцией, вводящей в оборот, в пределах известной области, несуществующую реальность.
6. Согласно модной ныне трактовке, история западной мысли определялась распрей между «размышляющими» «о вечном» (timeless spirits) и «частном» (practical souls), между авторитарными метафизиками платоновского происхождения и демократами-прагматиками, наследниками локального и узкого знания, такого как софистика, риторика и казуистика[100]100
См. работы, собранные в разделе «Platonic Insults» в журнале: Common Knowledge. 1993. Vol. 2. P. 19–80; в частности, см. вводную статью М. Тулмина (c. 19–23) и статью «Rhetorical» Д. Макклоски (c. 23–32).
[Закрыть]. Случая Боэция достаточно, чтобы показать всю несостоятельность такого противопоставления. Значение правовых и риторических «fictiones» могло обосновываться в онтологии платоновского типа (а то и благодаря ей) намного раньше, чем оно было открыто в базовом для прагматизма тексте («Философии как если бы» Ханса Файхингера)[101]101
На книгу Файхингера (вышедшую в 1911 году, но написанную в 1876–1878-м, см. новое издание: Vaihinger H. Die Philosophie des Als-Ob. Hamburg, 1986) ссылается В. Тримпи ( Trimpi W. Op. cit.), подчеркивая важное значение «fictiones» в теории литературы.
[Закрыть].
Наследие Боэция важно как в силу своей собственной ценности, так и – еще в большей степени – в контексте того огромного воздействия, которое оно оказало. В XII веке труды Аристотеля по логике, переведенные и прокомментированные Боэцием, были вновь открыты и включены в школьный curriculum, став неотъемлемой частью интеллектуального воспитания целых поколений студентов[102]102
См.: Isaac J. Le “Peri Hermeneias” en Occident de Boèce à Saint Thomas. Paris, 1953 (на с. 36 см. таблицу, убедительно демонстрирующую диапазон распространения манускриптов).
[Закрыть]. Среди тех, кто способствовал этому открытию, был и Абеляр. В своих глоссах к трактату «Об истолковании» он с одобрением отмечал энтузиазм Боэция при обсуждении примера с козлооленем и уточнял: Аристотель «избрал слово, имеющее значение, хотя и относящееся к вымышленному предмету, ибо если бы он выбрал слово, значения лишенное, то отсутствие истинного и ложного оказалось бы приписано отсутствию значения, а не абсолютности (simplicitas) слова»[103]103
Peter Abaelards Philosophische Schrifen. Bd. I: Die Logica “Ingredientibus”. 3: Die Glossen zu “Peri Hermeneias” / Hrsg. von B. Geier. Münster i. W., 1927. S. 333 («Praeterea vocem elegit significativam, licet non existentis rei, ne si vocem significatione omnino carentem poneret, ipsa non-significatio videretur auferre significationem veri vel falsi, non simplicitas vocis»).
[Закрыть]. Речь не идет о единичном случае. Абеляр много размышлял над понятиями, отсылающими к вымышленным существам (fictae substantiae), таким как «hircocervus», «chimaera», «phoenix», проблематизируя отношение между языком и реальностью[104]104
См.: Blackwell D.F. Non-Ontological Constructs: The Effects of Abaelard’s Logical and Ethical Theories on his Theology: A Study in Meaning and Verification. Bern, 1988; особенно с. 132–141.
[Закрыть]. Область значений, лишь по касательной затронутая Аристотелем, для разысканий философов-схоластов оказалась центральной[105]105
См.: De Rijk L.M. La philosophie… P. 98.
[Закрыть].
В то же время рефлексия о языке оказывала глубокое воздействие и на менее абстрактном уровне. В трактате «О народном красноречии» (II, IV, 2) Данте определяет поэзию как «fictio rhetorica musicaque poita»: не как абстрактный «вымысел» («invenzione»), но как конструкцию, «возведенную с помощью риторики и музыки»[106]106
См.: Paparelli G. Fictio // Filologia Romanza. 1966. Vol. 7. Fasc. IIIIV. P. 1–83, в особенности с. 83. Папарелли подчеркивает этимологию термина, но пренебрегает его юридическим значением (в том числе и потому, что от его внимания укрылась работа Канторовича «The Sovereighty of the Artist»). См. также: Lecoq A.-M. “Finxit”: Le peintre comme “fictor” au XVI-e siècle // Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance. 1975. Vol. 37. P. 225243.
[Закрыть]. Поэзия есть «fictio» – слово, этимологически связанное с «figulus», «гончар», – так же как поэт Арнаут Даньель «получше был ковач родного слова» («Чистилище», 26, 117)[107]107
[Пер. М.Л. Лозинского.]
[Закрыть]. Данте считал язык физической реальностью, которую можно скручивать и ковать. Поэзия есть «fictio» еще и потому, что, подобно правовой «fictio», она составляет полноценную реальность, но не в буквальном смысле этого слова. На одной из страниц, процитированных Фомой Аквинским («Summa theologiae», III, q. 51, a. 4) и, конечно, известных Данте, Августин настаивает на необходимости различать «fictio» как ложь и «fictio» как «aliqua figura veritatis» («некий образ истины»): иначе «все то, что было сказано мудрыми и святыми людьми или даже самим Богом в переносном смысле (figurate), следовало бы счесть ложью только потому, что, согласно распространенному суждению, такие утверждения несовместимы с истиной»[108]108
См. «Вопросы к евангелиям», II, 51 (PL. Т. 35. Col. 1362), отрывок, процитированный Фомой Аквинским («Сумма теологии», III, q. 55, a. 4): «Cum autem fictio nostra refertur ad aliquam significationem, non est mendacium, sed aliqua figura veritatis. Alioquin omnia, quae a sapientibus et sanctis viris, vel etiam ab ipso Domino figurate dicta sunt, mendacia reputabuntur, quia, secundum usitatum intellectum, non subsistit veritas in talibus dictis» [ «Но если наш вымысел обозначает нечто, то тогда это не ложь, а некий образ истины; в противном случае все, что было метафорически сказано мудрецами, святыми и даже Господом, было бы ложью, поскольку, согласно обычному разумению, в такого рода вещах нет истины»; пер. С.И. Еремеева, с изменениями]. Это место (на которое указывает Канторович: Kantorowicz E. Op. cit. P. 355) следует присовокупить к фрагментам, рассмотренным Э. Ауэрбахом в его основополагающей статье «Figura» (Auerbach E. Scenes from the Drama of European Literature. New York, 1959. P. 11–76, 229–237; об Августине см. с. 37–43).
[Закрыть]. Сближение древних мудрецов со святыми и Библией под знаком образности проистекает из убеждения в том, что Бог, обращаясь к людям, исходил из их ограниченной способности к пониманию[109]109
См.: Funkenstein A. Theology and the Scientific Imagination. Princeton, 1986. P. 202–289 (об идее «accomodation»); ит. пер.: Funkenstein A. Teologia e immaginazione scientifica. Torino, 1996.
[Закрыть]. Иоанн Скот Эриугена, вослед Августину, сравнил учения о морали и физике, переданные эпическими поэтами «с помощью вымышленных рассказов (fabulas fictas) и аллегорических уподоблений», с «вымышленными фантазиями (fictis imaginationibus)» Писания, соотнесенными с нашей умственной незрелостью.
Аллегорическая интерпретация Гомера легитимировала аллегорическое толкование Библии: «Богословие, – замечал Скот Эриугена, – в определенном смысле и есть поэзия (theologica veluti quaedam poetria)»[110]110
«Quemadmodum ars poetica per fictas fabulas allegoricasque similitudines moralem doctrinam seu physicam componit ad humanorum animorum exercitationem, hoc enim proprium est heroicorum poetarum, qui virorum fortium facta et mores figurate laudant; ita theologica veluti quaedam poetria sanctam Scripturam fictis imaginationibus ad consultum nostri animi et reductionem a corporalibus sensibus exterioribus, veluti ex quadam imperfecta pueritia, in rerum intelligibilium perfectam cognitionem, tanquam in quandam interioris hominis grandaevitatem conformat» [ «Подобно тому как поэтическое искусство с помощью вымышленных рассказов и аллегорических уподоблений создает нравственное и физическое учение для воспитания человеческих душ (ибо таково свойство эпических поэтов, которые посредством метафор восхваляют деяния и нравы отважных мужей), так и богословие, которое в определенном смысле тоже поэзия, с помощью вымышленных образов приспосабливает Священное Писание к разумению нашего духа, уводя от внешних телесных чувств, словно бы из некоего несовершенного детства, к совершенному познанию умопостигаемых вещей, словно бы к зрелости внутреннего человека»] (PL. Т. 122. Col. 146; цит. по: Robertson D.W., jr. Some Medieval Literary Terminology, with Special Reference to Chrétien de Troyes // Studies in Philology. 1951. Vol. 48. P. 669–692, 673, с отсылкой к Петрарке [ «Familiares», X, 4]).
[Закрыть]. В одном из своих знаменитых писем («Familiares», X, 4) Петрарка воспроизвел эту мысль почти в схожих выражениях: «Богословие, я бы сказал, есть поэзия Бога (parum abest quin dicam theologiam poeticam esse de Deo)»[111]111
Petrarca F. Familiares / A cura di V. Rossi. Firenze, 1934. Vol. 2. P. 301 и далее.
[Закрыть]. Рассуждение Петрарки, с некоторыми добавлениями, перевел Боккаччо в «Малом трактате во хвалу Данте». Традиционное противопоставление богословия, которое «не предполагает ничего, кроме истины», и поэзии, «которая за истину порой принимает вещи самые ложные и обманчивые, противоречащие христианской религии», отвергается здесь самым непосредственным образом:
Богословие и поэзия суть почти одно и то же, они говорят об одном и том же предмете; более того, скажу я, богословие есть не что иное, как поэзия Бога. Называть в Писании Христа то львом, то агнцем, то червем, то драконом, то камнем и еще другими именами, на исчисление которых понадобилось бы много времени – что же это такое, если не поэтический вымысел?[112]112
См.: Boccaccio G. Trattatello in laude di Dante / A cura di P.G. Ricci // Boccaccio G. Tutte le opere / A cura di V. Branca. Milano, 1974. Vol. III. P. 475 (первая редакция).
[Закрыть]
По этой дороге можно добраться и до дикарей Вико, родственников «первобытных людей», которые, пишет Боккаччо, «хотя и были очень грубыми и необразованными, страстно стремились к познанию истины»[113]113
Ibid. P. 469.
[Закрыть]. Представление о древнейшей «поэтической мудрости», выраженной в мифах, в новой своей ипостаси предполагало уверенность в возможности обнаружить истину, скрытую за оболочкой, покровом, «integumentum» поэзии[114]114
См.: Chenu M.D. “Involucrum”: Le mythe selon les théologiens médiévaux // Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge. 1955. Vol. 22. P. 75–79; Jeauneau E. L’usage de la notion d’ “integumentum” à travers les notes de Guillaume de Conches // Ibid. 1957. Vol. 32. P. 35–100; Stock B. Myth and Science in the Twelfh Century: A Study of Bernard Silvester. Princeton, 1972.
[Закрыть]. К этому умозаключению можно добавить еще одно, менее очевидное, а именно что в нашей интеллектуальной традиции осознание лживой природы мифов и, отсюда, поэзии подобно тени следовало за убеждением в том, что они истину скрывают. «Fictio», в его позитивном и конструктивном значении, дало возможность выйти из сложившегося затруднения и примирить две альтернативные и несовместимые интерпретации поэзии – как истины и как лжи[115]115
Здесь я развиваю ряд идей, сформулированных Тримпи ( Trimpi W. Op. cit.). См. также: Pavel T. Univers de la fiction. Paris, 1988.
[Закрыть]. Исидор Севильский писал: «ложь <…> – это то, что не истинно, а „вымысел“ (fictum) – то, что правдоподобно»[116]116
Isidorus Hispalensis. Differentiarum Liber. I, 2, 21: «“Falsum” est ergo quod verum non est, “fictum” quod verisimile est» (цит. по: Lecoq A.-M. Op. cit. P. 228).
[Закрыть]. Впрочем, согласно авторитетному суждению Горация, гибридные, а посему неправдоподобные существа, похожие на сирен или козлооленей, все-таки имели право на гражданство в поэзии или живописи[117]117
См.: Chastel A. Le “dictum Horatii quidlibet audendi potestas” et les artistes (XIII–XVI siècles) // Chastel A. Fables, formes, figures. Paris, 1978. Vol. I. P. 363–376.
[Закрыть].
7. Возможность переходить от вымышленного мира к реальному и обратно, от одного воображаемого пространства к другому, от области правил к сфере метаправил, разумеется, входит в число видовых способностей человека[118]118
А также, возможно, и некоторых видов животных: см. анекдот о Бейтсоне и дельфине, приведенный в книге: Lipset D. Gregory Bateson. Chicago, 1978. P. 246–251. Следствия рассказанной истории самым непосредственным образом касаются анализируемых здесь тем.
[Закрыть]. Однако только в одной из культур (нашей) различия между этими уровнями подверглись теоретическому и зачастую чрезвычайно тонкому осмыслению, которым мы обязаны последующему интеллектуальному импульсу, соединившему греческую философию, римское право и христианскую теологию. Разработка таких концептов, как «μῦθος», «fictio», «signum», – это лишь часть усилий, направленных на все более и более ловкую манипуляцию реальностью. Результат – у нас перед глазами, он встроен в используемые нами предметы (в том числе компьютер, на котором я пишу эти строки). Частью технологического достояния, позволившего европейцам завоевать весь мир, также являлась усовершенствованная в течение веков способность контролировать связь между видимым и невидимым, между реальностью и вымыслом.
«Европейцы» – это, конечно, некорректное обобщение в то время весьма ограниченного феномена. И все же благодаря совокупной деятельности образовательных институтов и печати упомянутое технологическое достояние расцвело там, где мы этого совсем не ожидали. В конце XVI века инквизиция осудила за еретические воззрения фриульского мельника Доменико Сканделла по прозвищу Меноккио. Он защищал религиозную терпимость, ссылаясь на историю (новеллу о трех кольцах), прочитанную им в одном из «нецензурированных» изданий «Декамерона» Боккаччо; в ответ на вопрос инквизитора: «По вашему выходит, что нельзя узнать, какая вера истинная?», он ответил: «Да, господин, каждый думает, что только его вера хороша, но какая правильная, узнать нельзя»[119]119
Ginzburg C. Il formaggio e i vermi. Torino, 1976. P. 60 [Гинзбург К. Сыр и черви. М., 2000. С. 127].
[Закрыть]. Есть ли в этом диалоге что-то специфически европейское (для того времени)? Разумеется, нет – если мы учтем повествовательный прием, использованный Боккаччо: новеллу о трех кольцах, включенную в большой рассказ о султане и еврее Мельхиседеке[120]120
См.: Boccaccio G. Decameron / A cura di V. Branca. Torino, 1980. P. 82 (третья новелла первого дня). На эту тему см.: Fischer U. La storia dei tre anelli: Dal mito al’utopia // Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere e filosofia. 1973. S. III. № 3. P. 955–998; о самом повествовательном приеме см.: Todorov T. Poétique de la prose. Paris, 1971.
[Закрыть]. Разумеется, да – если мы примем в расчет церковные институты, контролировавшие книги и людей. Возможно, да – если мы акцентируем внимание на мельнике, защищающем себя и с легкостью переходящем с уровня «веры» на уровень «веры в то, что он верит», с плана повествования на план метаповествования. В культурном отношении Меноккио был ближе к осудившему его на смерть инквизитору, чем к аборигену из Нового Света.









































