Читать книгу "Деревянные глаза. Десять статей о дистанции"
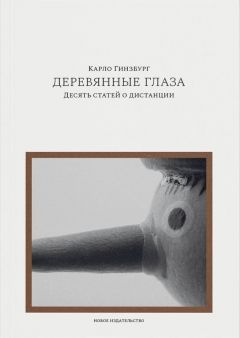
Автор книги: Карло Гинзбург
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Существует убеждение, что контроль над коммуникацией не менее ружей и лошадей способствовал завоеванию ацтекской империи кучкой испанских солдат[121]121
См.: Todorov T. La conquête de l’Amérique: La question de l’autre. Paris, 1982; ит. пер. А. Серафини: Todorov T. La conquista dell’America. Torino, 1984. Этой книге я многим обязан, несмотря на то что ее автор порой не придерживается исторического подхода (а, может быть, и благодаря этому обстоятельству).
[Закрыть]. Однако эта гегемония была плодом более широкого и древнего явления. Ученые пытались прочитать первый великий современный роман (написанный испанцем) как ироничную аллегорию решающего аспекта европейской экспансии: борьбу разных культур за контроль над реальностью. Отношения между реальностью и вымыслом контролирует крестьянин Санчо; итоговую хвалу единству романиста и его творения («Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для него») с гордостью произносит мнимый alter ego Сервантеса, араб Сид Ахмет Бен-инхали[122]122
Cervantes M. de. Don Quijote de la Mancha / A cura di V. Gaos. Madrid, 1987. Vol. II. P. 1043 («Para mí sola nació don Quijote, y yo para él…» [здесь и далее пер. Н.М. Любимова]). О некоторых из этих тем см. замечательную статью: Spitzer L. Prospettivismo nel “Don Quijote” // Spitzer L. Cinque saggi di ispanistica / A cura di G.M. Bertini. Torino, 1962. P. 58–106; Spitzer L. Linguistic Perspectivism in the Don Quijote // Spitzer L. Linguistics and Literary History. Princeton, 1948. P. 41–85. Я прочитал работу Шпитцера уже после того, как написал настоящий текст. На с. 86–87 см. прямое указание на «τραγέλαφος» и схожие гибридные образования.
[Закрыть]. Крестьянин, мавр. С помощью этого блестящего и неожиданного хода эразмианец Сервантес делает так, чтобы последние, отверженные, проигравшие стали первыми – однако лишь в воображении, ибо литературный вымысел иронически увенчивается осуждением «las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías» («вымышленных и нелепых историй, описываемых в рыцарских романах»)[123]123
Cervantes M. de. Don Quijote. P. 1045.
[Закрыть].

1. Диего Родригес де Сильва-и-Веласкес. Кузница Вулкана. Мадрид, Прадо

2. Диего Родригес де Сильва-и-Веласкес. Окровавленный плащ Иосифа приносят Иакову. Мадрид, Эскориал
8. Успех «Дон Кихота» был столь быстрым и поразительным, что мы, не боясь совершить ошибку, вправе включить в число читателей романа и Веласкеса. Не исключено, что косвенный отзвук возможного знакомства с романом мы найдем в двух картинах, написанных Веласкесом во время его первого путешествия в Рим (1629–1630): «Окровавленный плащ Иосифа приносят Иакову» (ныне в Эскориале) и «Кузница Вулкана» (в Прадо) (ил. 1 и 2)[124]124
См.: Brown J., Elliott J.H. A Palace for a King: The Buen Retiro and the Court of Philip IV. New Haven; London, 1980. P. 119–120 (в той же комнате висела «Сусанна» кисти Луки Камбьязо).
[Закрыть]. Первоначально помещенные в гардеробной дворца Буэн-Ретиро, они, вероятно, составляли пару, хотя по размеру их оригиналы и не совпадали[125]125
Так считает Х. Галльего, см. каталог: Domínguez Ortiz A. et alii. Velázquez. New York, 1990. P. 104 и далее. Дж. Браун придерживается противоположного мнения, поскольку «Кузница» (размер сегодня – 223 × 290) была на 33 см ýже, а «Окровавленный плащ Иосифа» (размер сегодня – 223 × 250) – на 50 см шире ( Brown J. Velázquez, Painter and Courtier. New Haven; London, 1986. P. 72). В связи с последними данными Браун отсылает к книге: De los Santos F. Descripción del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Madrid, 1681. P. 66. Впрочем, сведения, содержащиеся в этом тексте, весьма приблизительны («un cuadro casi de cuatro varas de largo, y de alto dos y media»).
[Закрыть]. В обоих случаях перед нами повествовательный ряд, разворачивающийся слева направо и объединенный движущимся героем, восходящим к одному и тому же прототипу (третий справа в картине «Окровавленный плащ…» и четвертый справа на полотне «Кузница Вулкана»): этот человек склонил голову, взгляд его обращен влево[126]126
Атрибутируя Веласкесу полотно «Ссора солдат перед посольством Испании» («La Riña en la embajada de España») из коллекции Паллавичини Роспильози, Р. Лонги заметил, что изображение одного из героев картины навеяно образцом, фигурирующим и на «Кузнице Вулкана» ( Longhi R. Velázquez 1630: La rissa all’ambasciata di Spagna // Longhi R. “Arte italiana e arte tedesca” e altre congiunture fra Italia ed Europa. Firenze, 1979. P. 91–100). Очевидно, речь идет о молодом кузнеце, нарисованном в профиль (второй персонаж справа). Х. Лопес-Рей отверг атрибуцию этой картины Веласкесу ( López-Rey J. Velázquez: A Catalogue Raisonné of His Œuvre. London, [1963]. P. 166, n. 133).
[Закрыть]. Однако указанные формальные параллели не находят своего соответствия в плане содержания: рядом с эпизодом из Ветхого Завета – «Окровавленный плащ Иосифа приносят Иакову», мы ожидаем сюжет из Нового Завета, а не мифологическую сцену, подобную «Кузнице Вулкана». Это препятствие ученые пытались обойти с помощью тезиса о том, что обе картины описывают предательство: либо в момент его обнаружения, как в «Кузнице», где Аполлон объявляет Вулкану, что его жена Венера была застигнута изменяющей ему с Марсом; либо в перспективе будущего открытия истины, в случае «Окровавленного плаща…», где братья сообщают об убийстве Иосифа, проданного ими в рабство, показывая одежду, испачканную козьей кровью[127]127
См. у К. Юсти, которого цитирует Э. Харрис ( Harris E. Velázquez. Oxford, [1982]. P. 80 и далее).
[Закрыть]. Более убедительным, чем все эти догадки, кажется возведение «Кузницы» к гравюре Антонио Темпесты, служившей иллюстрацией к «Нравоучительному Овидию», опубликованному в Антверпене в 1606 году (ил. 3). В четверостишии, помещенном под эстампом, Аполлон имплицитно сравнивался с Христом: «Не обмануть божественное Благоразумие, / Оно ведает о самых отдаленных закоулках наших сердец, / Ему никогда не нужны ни допросы, ни свидетели, / Ибо ему известны все наши тайны»[128]128
Четверостишие приведено в статье: Ángulo Iñíguez D. La fábula de Vulcano, Venus y Marte y “La Fragua” de Velázquez // Archivo Español de Arte. 1960. Vol. 23. P. 172, n. 10. Сближение стихов с гравюрой Темпесты восходит к работе: Gué Trapier E. du. Velázquez. New York, 1948. P. 162. По мнению Э. дю Ге Трапье, сходство «is not very close» («не слишком близкое»).
[Закрыть]. Должны ли мы заключить, что Аполлон «Кузницы» изображает Христа? Последующее сопоставление подсказывает, что дело обстоит куда сложнее. Путешествие в Рим позволило Веласкесу увидеть оригиналы полотен Караваджо, под чьим влиянием, прямо или косвенно, он, будучи юношей, учился рисовать[129]129
Гипотеза о непосредственном знании Веласкесом картин Караваджо сформулирована в работе: Longhi R. Aggiunte e “marginalia” // Longhi R. “Arte italiana e arte tedesca”. P. 97–98.
[Закрыть]. «Кузница Вулкана» – это уникальный живописный комментарий к картине Караваджо «Призвание апостола Матфея» из церкви Сан Луиджи деи Франчези, который скрывается у Веласкеса за более буквальной и поверхностной отсылкой к гравюре Темпесты[130]130
Э. Харрис приводит «Призвание апостола Матфея» в качестве примера подражания природе, «once revolutionary <…> now looks theatrical» («некогда революционного, но ныне выглядящего театрально») в сравнении с римскими картинами Веласкеса. Последние же, замечает Харрис, гораздо в большей степени навеяны Караваджо, нежели его учениками ( Harris E. Op. cit. P. 85, ил. 76). Об Антонио Темпесте, который, как считалось, просто воспроизводил Pathosformeln («формулы патоса»), см.: Gombrich E. Aby Warburg: An Intellectual Biography. Chicago, 1986. P. 230 и далее (в связи с неизданным докладом Варбурга о «Заговоре Юлия Цивилиса» Рембрандта).
[Закрыть]. Структура сцены; скудная повседневная обстановка, столь непривычная для мифологического сюжета; тончайшим образом намеченные градации вопрошающего удивления – в точности отсылают к «Призванию апостола Матфея» (ил. 4). И не только: Веласкес, безусловно, пересекал неф церкви Сан Луиджи, доказательством чему служит отсылка к расположенной там же «Смерти Святой Цецилии» Доменикино (ил. 5), различимая в двух фигурах второго плана на картине «Окровавленный плащ…»[131]131
В своем комментарии к «Кузнице Вулкана» К. Юсти говорил о «kritische Wendepunkt» («поворотном моменте») между двумя состояниями [персонажей картины] (Justi C. Diego Velázquez und sein Jahrhundert / 2. neubearb. Aufl. Bonn, 1903. Bd. I. S. 255). Отсылка к Доменикино была указана мне Сильвией Гинзбург.
[Закрыть].
Было бы смешно предполагать, будто Веласкес, взяв за скрытый образец «Призвание апостола Матфея», хотел уподобить Евангелие мифу. Впрочем, гипотетическое (и необоснованное) отождествление Аполлона «Кузницы» и Христа не принимает в расчет другую важнейшую вещь. Отсылка к Караваджо, сама по себе очевидная лишь немногим знатокам, говорит о «fictio»: «pictura autem dicta quasi fictura» («живопись (pictura) названа так потому, что она словно бы вымысел (fictura)»), писал Исидор Севильский, автор, хорошо известный тестю Веласкеса Франсиско Пачеко, цитировавшему его в трактате «Искусство рисования»[132]132
Isidorus Hispalensis. Etymologiarum libri. I, 16 (“Pictura”); цит. по: Lecoq A.-M. Op. cit. P. 232. См.: Pacheco F. Arte de la Pintura / Ed. de F.J. Sánchez Cantón. Madrid, 1956. Vol. 1–2; см. указатель (между тем книга не фигурирует в списке, опубликованном в труде: Sánchez Cantón F.J. La librería de Velázquez // Homenaje… a Menéndez Pidal. Madrid, 1925. Vol. III. P. 379–406). В воображаемой речи Веласкеса (дань уважения знаменитым pastiches Карла Юсти) Лонги писал: «…я чувствую, что из состояния сосредоточенного воспоминания выходит нечто, что зовется очевидностью, то есть cамый сложный вымысел» ( Longhi R. “Arte italiana e arte tedesca”. P. 93).
[Закрыть]. Шутка Луки Джордано насчет «Менин», которые он назвал «теологией живописи», может быть законным образом перенесена и на такую метаизобразительную картину, как «Кузница Вулкана». Не исключено также, что на эту мысль Веласкеса мог навести метароман Сервантеса, читателем которого, возможно, был художник[133]133
См.: Celati G. Il tema del doppio parodico // Celati G. Finzioni occidentali [1975]. Torino, 1986. P. 169–218, особенно с. 192: «Борхес отметил однажды, что если персонаж Дон Кихот становится читателем книги, то возникает подозрение, будто и читатель может, в свою очередь, превратиться в персонажа» (этому ощущению, возникающему у всякого, кто смотрит на «Менин», мы обязаны знаменитой шуткой Теофиля Готье: «Où est le tableau?» [ «Где же картина?»]). В одном из подстрочных примечаний к изданию 1975 года Челати резюмировал: «Дон Кихот воплощает современную практику письма как способа описывать мир на расстоянии, таким образом управляя им, подобно чиновникам, или же заново воображая его, подобно романистам (и здесь становится понятно, что оба подхода часто совпадают)». Эти страницы Челати, а равно и тесно связанная с ними статья И. Кальвино ( Calvino I. I livelli della realtà in letteratura [1978] // Calvino I. Una pietra sopra. Torino, 1980. P. 310–323; здесь же, на c. 315, речь идет и о «Дон Кихоте» и метаживописи) часто служили отправной точкой для моих размышлений.
[Закрыть].

3. Антонио Темпеста. Кузница Вулкана. «Нравоучительный Овидий», Антверпен, 1606

4. Караваджо. Призвание апостола Матфея. Рим, церковь Сан Луиджи деи Франчези
Некоторые ученые склонны по-прежнему рассматривать мифологию как репертуар форм и повествовательных схем, к которому не без некоторой усталости обращались художники и поэты. Колебания Веласкеса между «Призванием апостола Матфея» и «Кузницей Вулкана» показывают, что сравнение между разными культурными традициями – различавшимися, прежде всего, своими претензиями на истинность – могло породить глубокое и неожиданное видение реальности. Однако жест Веласкеса, поместившего в кавычки Христа Караваджо для того, чтобы изобразить Аполлона, имеет более общее символическое значение: способность «закавычивать» собственную и чужую традиции служила мощнейшим оружием. Одним из последствий этого явления мы можем считать использование (плод этноцентричного высокомерия, упомянутого прежде) категории «миф» по отношению к культурам, никогда его не знавшим. Однако, как следствие, миф также оказался способен пролить неожиданный и беспощадный свет на христианскую религию.

5. Доменикино. Смерть святой Цецилии. Рим, церковь Сан Луиджи деи Франчези
II
1. Теперь необходимо еще раз вернуться к Платону и проанализировать тему, до сих пор остававшуюся вне нашего внимания: использование мифа в политике. В третьей книге «Государства» Сократ, обсудив на примерах, по большей части взятых из Гомера, развращающее действие поэзии, замечает, что «богам ложь по существу бесполезна, людям же она полезна в виде лечебного средства (ὡς ἐν φαρμάκου εἴδει)» (389b). Из этой ограничительной оговорки следует утверждение общего характера: «Уж кому-кому, а правителям государства надлежит применять ложь (προσήκει ψεύδεσθαι) как против неприятеля, так и ради своих граждан – для пользы своего государства (ἐπ’ ὠφελίᾳ τῆς πόλεως)»[134]134
Platone. La Repubblica / Tr. it. F. Gabrieli. Firenze, 1950. P. 82–83. См. также: Brisson L. Op. cit. P. 144–151 («L’utilité des mythes»).
[Закрыть]. Такое право, напротив, открыто отрицается за простыми гражданами: на деле, лгать правителям еще хуже, чем обманывать врача, учителя гимнастики или кормчего, то есть тех, кому мы доверяем наши тело и душу.
Ложью во имя общего блага и являются мифы. Платон рассказывает об одном из них, мифе, возможно, финикийского происхождения (414b и далее): все люди родились из земли, перемешанной с более или менее драгоценными металлами (золотом, серебром, железом, медью), что и определяло место человека в иерархии идеального города (правители, их помощники, земледельцы и те, кто занимается физическим трудом)[135]135
Изображая Платона предшественником нацизма, Карл Поппер не без намека называл этот миф «мифом крови и почвы» ( Popper K. La società aperta e i suoi nemici [1944–1945]. Roma, 1993. Vol. I. P. 220 и далее [Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 1. С. 181 и далее]).
[Закрыть]. В «Метафизике» (1074b1) Аристотель возвращается к теме социального контроля с помощью мифов, однако проецирует ее в историческую плоскость:
От древних из глубокой старины дошло до потомков в виде предания (ἐν μύθου σχήματι), что светила суть боги и что божественное объемлет всю природу. А все остальное, также в виде предания (μυθικῶς), уже добавлено для внушения толпе, для соблюдения законов и для выгоды (πρὸς τὴν πειθὼ τῶν πολλῶν καὶ πρὸς τὴν εἰς τοὺς νόμους καὶ τὸ συμφέρον χρῆσιν), а именно утверждение, что боги человекоподобны и похожи на некоторые другие живые существа, а также вытекающее из сказанного и сходное с ним[136]136
Aristotele. La metafisica / A cura di C.A. Viano. Torino, 1974. Vol. I. P. 518 [пер. А.В. Кубицкого, с изменениями]. На этот отрывок, назвав его «сенсационным», обратил внимание П. Вейн: Veyne P. Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? P. 153, n. 108. Вейн отсылал к работе: Aubenque P. Le problème de l’Être chez Aristote. Paris, 1962. P. 335 и далее.
[Закрыть].
По Аристотелю, именно очеловечивание истины, а не ее отрицание, используется с целью удержать в повиновении «многих». С его точки зрения, как бы то ни было, в «форме мифа» до нас дошло подлинно божественное, «первоначальное содержание». Платон, создатель уникальных мифов и уникальный их разоблачитель, нарисовал, в сравнении с Аристотелем, картину куда более откровенную. Однако параллельное чтение двух отрывков в сегодняшней перспективе, как представляется, служит предпосылкой для интерпретации, уже намеченной дядей Платона софистом Критием, которой будет суждена долгая жизнь: для анализа религии как обмана по политическим соображениям[137]137
Пассаж из «Сизифа» Крития, переданный Секстом Эмпириком («Adversus mathematicos», IX, 54), обсуждается в работе: Untersteiner M. I sofisti / Nuova ed. ampliata. Milano, 1967. Vol. II. P. 205 и далее.
[Закрыть].
В христианской Европе в период c начала XIII до первых лет XIV века кощунственная острота о «трех обманщиках» – Моисее, Христе и Магомете – приписывалась самой разношерстной толпе людей, включавшей среди прочих одного императора (Фридриха II Свевского), одного богослова (Симона из Турне) и одного неизвестного монаха, дважды отступившего от веры (Томас Скот)[138]138
См. свидетельства, собранные в статье: Esposito M. Una manifestazione di incredulità religiosa nel Medioevo: Il detto dei “Tre Impostori” e la sua trasmissione da Federico II a Pomponazzi // Archivio storico italiano. 1931. S. VII. Vol. 16. A. LXXXIX. P. 3–48 (Эспозито не упоминает отрывки из Платона и Аристотеля, процитированные выше). Исчерпывающие исследования по этой теме отсутствуют.
[Закрыть]. Речь не идет о чем-то новом. Во II веке философ по имени Цельс утверждал (как мы знаем это из направленного против него труда Оригена), что Моисей обманывал козопасов и овчаров с помощью простейших трюков, а Христос проделал с собственными последователями то же самое[139]139
Celso. Il discorso vero / A cura di G. Lanata. Milano, 1987. P. 65 [I, 24, 26]. О судьбе этого текста в XVI веке см.: Febvre L. Origène et des Périers. Paris, 1942.
[Закрыть]. Несколько веков спустя шутки подобного рода, по всей видимости, ставшие частью устной традиции, коснулись и третьего из основателей великих монотеистических религий Средиземноморья – Магомета. Конечно, одно дело – обличать религию как обман и подвох, а другое – подчеркивать (в обличительном смысле или в виде чистой констатации) социально-полезную функцию, которую выполняет религия, гарантируя подчинение законам. И все-таки даже в тех случаях, когда обвинение в религиозном мошенничестве не сопровождалось явными политическими аргументами, связь с перипатетической традицией, точнее, с аристотелевской позицией Аверроэса, вполне различима. Например, монах отступник Томас Скот, попавший под суд инквизиции за то, что позволил себе все ту же шутку о «трех обманщиках», дерзко заявлял, что мир вечен, Аристотель «лучше Христа», а также «умнее и тоньше Моисея»[140]140
См.: Esposito M. Op. cit. P. 40.
[Закрыть]. Существовала ли связь между этими утверждениями? Вероятно, да. Однако инквизитор, как кажется, совсем не стремился вникнуть в нее глубже.
2. Политические следствия этих сюжетов с необыкновенной силой проявились в произведениях Макиавелли, в особенности в главах «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия», посвященных религии римлян (I, 11–15). Основу римского могущества, пишет Макиавелли, еще в большей степени, чем сам Ромул, заложил его преемник Нума, который «делал вид, будто завел дружбу с нимфой»[141]141
[Здесь и далее пер. Р.И. Хлодовского.]
[Закрыть]. Религия, на деле, необходима как для введения новых установлений (случай Нумы), так и для укрепления прежних:
Поэтому главам республики или царства надобно сохранять основы поддерживающей их религии. Поступая так, им будет легко сохранить государство свое религиозным, а следовательно, добрым и единым. Им надлежит поощрять и умножать все, что возникает на благо религии, даже если сами они считают явления эти обманом и ложью. И им следует поступать так тем ревностнее, чем более рассудительными людьми они являются и чем более они сильны в познании природы[142]142
См.: Machiavelli N. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio / A cura di C. Vivanti. Torino, 1983. P. 68, 71–72.
[Закрыть].
«Даже если сами они считают явления эти обманом и ложью» – кажется, будто мы слышим эхо тех оправданий лжи ради общественного блага, которые сформулировал Платон. Не исключено, что Макиавелли читал «Государство» в переводе Фичино; сложнее представить себе, что он был знаком с «Метафизикой» Аристотеля[143]143
Отрывок из «Метафизики» Аристотеля (1074b1) был прокомментирован, хотя и в весьма бледных выражениях, будущим плагиатором «Государя»: Nifo A. In duodecimum Metaphysices Aristotelis et Averrois volumen. Venetiis, 1518. C. 32r.
[Закрыть]. Однако есть и более актуальный и вероятный источник: шестая книга Полибия, которую в то время обсуждали в филэллинских кругах Флоренции[144]144
Этот тезис был обоснован в работе: Dionisotti C. Machiavellerie. Torino, 1980. P. 139.
[Закрыть]. Полибий считал религию главной причиной римского могущества и приписывал политическую слабость своей родины Греции нехватке настоящего общественного культа (VI, 56, 6–15). Он замечал:
…я думаю, что римляне имели в виду толпу. Правда, будь возможность образовать государство из мудрецов, конечно не было бы нужды в подобном образе действий; но так как всякая толпа легкомысленна и преисполнена нечестивых вожделений, неразумных стремлений, духа насилия, то только и остается обуздывать ее таинственными ужасами и грозными зрелищами. Поэтому, мне кажется, древние намеренно и с расчетом внушали толпе такого рода понятия о богах, о преисподней; напротив, нынешнее поколение, отвергая эти понятия, действует слепо и безрассудно[145]145
[Пер. Ф.Г. Мищенко.] См.: Nicolet C. Polybe et les institutions romaines // Polybe. Vandoeuvres; Genève, 1973 (= Entretiens de la Fondation Hardt. Vol. XX). P. 245; там же см. библиографию. Как указывает К. Виванти, отголоски Полибия в этих словах Макиавелли впервые распознал О. Томмазини ( Machiavelli N. Discorsi. P. 65, n. 1).
[Закрыть].
В этом суждении проступает взгляд внешнего наблюдателя, взгляд грека[146]146
А. Момильяно замечает, также ссылаясь на Моммзена, что Полибий плохо понимал религию римлян ( Momigliano A. Polibio, Posidonio e l’imperialismo romano // Momigliano A. Storia e storiografia antica. Bologna, 1987. P. 303–315). Однако, как показывает процитированный выше отрывок, отстраненность могла обернуться и преимуществом.
[Закрыть]. Вероятно, Полибий читал «Государство» Платона; «Метафизика» Аристотеля, напротив, ему была точно неизвестна[147]147
О Полибии и Платоне см.: Friedländer P. Socrates Enters Rome // American Journal of Philology. 1945. Vol. 66. P. 337–351; о Полибии и Аристотеле: Düring I. Aristotele. Milano, 1976. P. 46.
[Закрыть]. Однако невозможность доказать прямую текстуальную преемственность делает описывавшиеся до сих пор совпадения еще более значимыми. C одной стороны, двигаясь в обратном хронологическом порядке, мы встречаем «знатоков естественных вещей» (Макиавелли), «мудрецов» (Полибий), «философов» (Платон, Аристотель); с другой – «народ» (Макиавелли), «толпу» («πλῆθος») (Полибий), «многих» («οἱ πολλοί») (Аристотель), «остальную часть города» (Платон). Подобные противопоставления, сформулированные с разрывом в два тысячелетия людьми, чьи позиции разнились или даже контрастировали друг с другом, исходят из порой открыто провозглашаемого постулата: а именно что большинство, охваченное страстями и пребывающее в невежестве, можно удержать в повиновении лишь благодаря религии или мифам, запущенным малым числом мудрецов «для соблюдения законов и для выгоды» (Аристотель).
Эта идея, усовершенствованная внутри греческой традиции, позволила Макиавелли взглянуть на религию его времени одновременно внимательным и отрешенным взглядом. Нума, «найдя римский народ до крайности диким», установил свои законы, притворившись, будто получил их от нимфы Эгерии; «народ Флоренции не кажется ведь ни невежественным, ни грубым; тем не менее брат Джироламо Савонарола убедил его в том, что он беседовал с Богом»[148]148
См.: Machiavelli N. Discorsi. P. 66–70 (I, 11, глава «Della religione de’ romani», «О религии римлян»). Статья М. Смита ( Smith M.C. Opium of the People: Numa Pompilius in the French Renaissance // Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance. 1990. Vol. 52. P. 7–21) обещает больше, чем дает.
[Закрыть]. Аналогия между христианским Богом и нимфой Эгерией, между Савонаролой и Нумой, проводится хладнокровно, как данность: человеческая природа остается прежней, «люди <…> рождаются, живут и умирают, всегда следуя одному и тому же порядку вещей». Религия есть необходимый обман: однако из столкновения с религией римлян христианство из-за собственной вялости и слабости вышло в плачевном состоянии[149]149
См.: Ibid. P. 223–224 (II, 2, глава «Con quali popoli i romani ebbero a combattere, e come ostinatamente quegli difendevono la loro libertà», «С какими народами римлянам приходилось вести войну и как названные народы отстаивали свою свободу»). О дискуссиях вокруг этих страниц см.: Prosperi A. I cristiani e la guerra: Una controversia fra ‘500 e ‘700 // Rivista di storia e letteratura religiosa. 1994. Vol. 30. P. 57–83.
[Закрыть].
3. Раскол европейского христианства, последовавший за протестантской реформой, привел к трещине в легитимации существующего социального порядка, которую традиционно обеспечивала Церковь. Дело дошло не только до убийства монарха, но и до обоснования этого убийства с религиозной и нравственной точки зрения, как в знаменитой книге иезуита Марианы. Споры между церквями, кажется, пошатнули основания гражданского общежития. Во Франции так называемые ученые либертины, принадлежавшие к поколению, которое жило в последующий за религиозными войнами период, избрали путь благоразумия. Один из наиболее известных из них – Габриель Ноде – во время своего путешествия по Италии (1626–1627) записал признание Чезаре Кремонини, профессора философии в Падуанском университете:
Он признался самым близким друзьям, что не верит ни в Бога, ни в дьявола, ни в бессмертие души: однако я хорошо забочусь (говорил он) о том, чтобы мой слуга был добрым католиком, ибо если бы он ни во что не верил, то, боюсь, однажды он зарезал бы меня в моей постели[150]150
См.: Pintard R. Le libertinage érudit dans la première moitié du XVII-e siècle [1943] / Nouvelle éd. augmentée. Genève, 1983. P. 172. О проблеме в целом см. также: Walker D.P. The Decline of Hell: Seventeenth-Century Discussions of Eternal Torment. London, 1964.
[Закрыть].
Несколькими годами ранее, на расстоянии всего в несколько километров от Падуи (Венеция, 1617), Константино Саккардино, обращенный еврей самого низкого происхождения, проведший какое-то количество лет в шутах при дворе Медичи, прежде чем посвятить себя винокурению, был судим инквизицией за то, что, в частности, утверждал: «Только олухи верят в него [ад]. <…> Государи хотят заставить поверить в него, чтобы своевольничать, но <…> уже вся округа знает правду»[151]151
См.: Ginzburg C. The Dovecot has Opened its Eyes // The Inquisition in Early Modern Europe / Ed. by G. Henningsen, J. Tedeschi. Dekalb, IL., 1986. P. 190–198.
[Закрыть].
С иных идеологических позиций и с противоположными целями другие люди рассматривали загробные наказания как политический миф, последний идеологический оплот (как мы сказали бы сегодня), стоящий на страже существующего порядка. Предупреждение Полибия о том, что не следует разоблачать легенды об Аиде, звучало как никогда актуально. Неверующие прибегли к ироническому языку, полному скрытых смыслов и намеков и адресованному немногим избранным. В «Пяти диалогах в подражание древним», напечатанных в Париже в 1632 или 1633 году под вымышленным именем (Орациус Туберон), сказано:
Выдавать мифы за правду, а басни превращать в глазах потомков в истории – это дело обманщика или легкомысленного и ничего не значащего автора: выдавать прихоти за божественное откровение, а сны за законы небесные – предоставим это Миносу, Нуме, Магомету и им подобным, великим пророкам и истинным сынам Юпитера[152]152
Oratius Tubero [La Mothe Le Vayer]. De la philosophie sceptique // Oratius Tubero [La Mothe Le Vayer]. Dialogues faits à l’imitation des anciens / Texte revu par A. Pessel. Paris, 1988. P. 41 («Escrire des fables pour des veritez, donner des contes à la posterité pour des histoires, c’est le fait d’un imposteur, ou d’un autheur leger et de nulle consideration; escrire des caprices pour des revelations divines, et des resveries pour des loix venuës du Ciel, c’est à Minos, à Numa, à Mahomet, et à leurs semblables, estre grands Prophetes, et les propres fils de Jupiter»). Этот фрагмент также цитируется в работе: Gregory T. Il libertinismo della prima metà del Seicento: Stato attuale degli studi e prospettive di ricerca // Gregory T. Ricerche su letteratura libertina e letteratura clandestina nel Seicento. Firenze, 1981. P. 26–27. При этом Ла Мотт Ле Вайе не включил «Диалоги» в состав своего полного собрания сочинений.
[Закрыть].
Во введении автор – Ла Мотт Ле Вайе, – отводя угрозу возможной цензуры, утверждал, что ставил себе целью «исследование истин или естественных правдоподобий», следуя собственным капризам и фантазиям: выражаясь, в общем, «как античный и языческий философ, in puris naturalibus». Разумеется, в противопоставлении между «мифами» («fables») и «правдой» («veritez»), между «баснями» («contes») и «историями» («histoires») слышны отголоски «Государства» Платона. Впрочем, привилегия лжи, которой Платон, устами Сократа, наделил городских глав, коварно превращена Ла Моттом Ле Вайе в пункт обвинения против самозваных пророков, выдающих свои «прихоти» за «божественные откровения». Он не без намека заключал: «предоставим это Миносу, Нуме, Магомету и им подобным, великим пророкам и истинным сынам Юпитера». Проницательному читателю, «либертину» (то есть человеку, лишенному суеверий)[153]153
Oratius Tubero [La Mothe Le Vayer]. Op. cit. («Ma main est si genereuse ou si libertine qu’elle ne peut suivre que le seul caprice de mes faintaisies, et cela avec une licence si independente et si affranchie, qu’elle fait gloire de n’avoir autre visée, qu’une naive recherche des verités ou vray-semblances naturelles…» [Введение] [ «Моя рука столь бескорыстна или столь лишена предрассудков, что способна повиноваться лишь капризу моих фантазий, и притом с вольностью столь независимой и раскованной, что ставит себе в заслугу не иметь иной цели, кроме чистосердечного поиска естественных истин или правдоподобий»]). Этот отрывок подтверждает интерпретацию понятия «libertin», сформулированную Валери, которая приводится в (путаной и беспорядочной) книге: Schneider G. Il libertino. Bologna, 1970. P. 35–36.
[Закрыть], по умолчанию предлагалось читать между строк и усматривать за историческими параллелями и мифологическими легендами подлинную мишень повествования: христианство и его основателя, посмевшего объявить себя сыном Бога. В более позднем тексте («О добродетели язычников») Ла Мотт Ле Вайе, цитируя произведения языческих полемистов и христианских богословов, отмечал сходства между тем, как были сожжены Содом и Гоморра, и мифом о Фаэтоне, между борьбой Иакова с ангелом и схваткой Юпитера с Геркулесом, и т. д. Он комментировал: «Конечно, велико было невежество язычников, а коварство дьявола безгранично: ведь он захотел бы (если бы, конечно, смог) лишить священную историю всякого смысла, располагая на месте божественных истин обольстительные мифы (des fables agréables)»[154]154
La Mothe Le Vayer. De la vertu des payens // La Mothe Le Vayer. Œuvres. Genève, 1970. Vol. II. P. 156 и далее (новая пагинация; издание воспроизводит собрание, выпущенное в Дрездене в 1757 году).
[Закрыть]. Таким образом, религиозные истины имплицитно приравнивались к мифам, переворачивая связь, намеченную Августином, с ног на голову: языческая «fictio» как «aliqua figura veritatis» («некий образ истины»). Критическая дистанция, образованная мифом, позволяла сформулировать, в полемическом и ироническом ключе, предпосылки сравнительной истории религий[155]155
Фундированные исследования по этой теме отсутствуют. Точкой отсчета при анализе сюжета в последующий период может служить книга: Manuel F.E. The Eighteenth Century Confronts the Gods. Cambridge, MA, 1959.
[Закрыть].
4. Как мы видели, по мнению либертинов, религия была вымыслом, однако вымыслом необходимым: без нее Кремонини был бы оставлен на произвол своего слуги и все общество оказалось бы во власти войны всех против всех. Отсылка к Гоббсу на сей раз неизбежна, и не только потому, что в «Левиафане» обыкновение запирать двери, отправляясь спать, упоминается в числе улик, заметных при наблюдении за повседневной жизнью и доказывающих существование войны всех против всех[156]156
Hobbes T. Leviathan / Ed. by C.B. Macpherson. Harmondsworth, 1974. P. 186 (глава XIII). Гоббс некоторое время прожил в изгнании в Париже. Его трактат «De cive» («О гражданине») был переведен Самюэлем Сорбьером (Амстердам, 1649), о чем см.: Pintard R. Op. cit. P. 552–558 et passim.
[Закрыть]. Как религии откровения, так и религии, его лишенные, будучи частью соответственно «божественной» и «человеческой» «политики», стремятся, замечает Гоббс, превратить людей, «доверяющих им, в наиболее приспособленных к повиновению, к подчинению законам, к миру, к милосердию и к гражданскому общежитию»[157]157
[Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. М., 1991. Т. 2. С. 85; пер. А. Гутермана.]
[Закрыть]. Этим утверждением Гоббс вносил свой вклад в традицию политических рассуждений о религии, сформулированных (хотя и с иными акцентами) Аристотелем, Полибием и Макиавелли. В частности, именно Полибием, как кажется, навеяны слова о древнем Риме, в котором те, кто был облечен большой властью, могли публично издеваться над идеей загробной жизни, в то время как «простой народ» удерживался в повиновении с помощью религиозных обрядов, умерявших его склонность «бунтовать против своих правителей»[158]158
Hobbes T. Op. cit. P. 168–178 [Там же. С. 89] (гл. XII). Гоббс противопоставляет порожденный страхом политеизм и монотеизм, результат «желания людей познать» «the cause of naturall bodies, and their severall vertues, and operations» («причины естественных тел и их различных свойств и действий» [Там же. С. 82]): последнее, «как это признавали даже языческие философы», ведет к понятию «первичного двигателя» и «предвечной причины всех вещей» [Там же. C. 83]. Об отношении Гоббса к Аристотелю см.: Strauss L. The Political Philosophy of Hobbes [1936]. Chicago, 1973. P. 30–43.
[Закрыть]. Однако Гоббс резко дистанцируется от помянутой традиции, когда переходит к анализу чрезвычайно актуального в то время сюжета – «причин изменений в религии». Он связывает изменение а) с дискредитацией мудрости, искренности и милосердия священников и б) с их неспособностью творить чудеса. Первый ряд мотивов прежде всего относится к Римской церкви, второй – к большему числу явлений. В финале 12-й главы «Левиафана» («О религии») он приписывает «все происходившие в мире перемены в религии <…> одной и той же причине, а именно распущенности духовенства, и это не только среди католиков, но и в той церкви, которая в наибольшей мере испытала на себе влияние Реформации»[159]159
Hobbes T. Op. cit. P. 183 [Там же. С. 93] (гл. XIII).
[Закрыть]. За этим резким суждением непосредственно следует знаменитая 13-я глава («О естественном состоянии человеческого рода в его отношении к счастью и бедствиям людей»): естественное равенство между людьми в ситуации, предшествующей появлению общества и права, и вытекающая из равенства война всех против всех, порожденная жаждой власти и страхом, создают предпосылки к тому, чтобы каждый человек отказался от своих прав в пользу неограниченной власти суверена. Переход резок, но логически и исторически очевиден. Религия, уже являвшаяся инструментом контроля, трансформировалась в элемент социального беспорядка. Гоббс отвечает радикальной рефлексией о природе власти, интерпретирует «исключительно принципы природы»[160]160
Ibid. P. 409 [Там же. С. 288] (гл. XXXII).
[Закрыть]. Ослаблению старых мифов он противопоставляет цепь умозаключений, призванных легитимировать абсолютное государство и отчасти верифицированных (как он это открыто отмечает) свидетельствами об американских аборигенах[161]161
Убедительные аргументы в пользу этого тезиса см.: Landucci S. I filosofi e i selvaggi, 1580–1780. Bari, 1972. P. 114–142.
[Закрыть].
Абсолютное государство не может, по определению, допустить существование превосходящей ее власти. С железной логикой Гоббс пишет:
Так как сохранение гражданского общества зависит от правосудия, а правосудие – от власти над жизнью и смертью и другими меньшими наградами и наказаниями власти, присвоенной тем, кто имеет верховную власть в государстве, то не может сохраниться государство, в котором кто-либо иной, кроме суверена, имел бы власть выдавать большие награды, чем жизнь, или налагать наказания более жесткие, чем смерть. И вот ввиду того что вечная жизнь есть большая награда, чем земная жизнь, а вечное мучение – большее наказание, чем естественная смерть, то всем людям, желающим повиновением власти избежать бедствий смуты и гражданской войны, стоит хорошенько подумать над тем, что подразумевается в Священном Писании под вечной жизнью и вечным мучением, за какие и против кого совершенные преступления люди должны быть осуждены на вечные муки и за какие деяния они должны получить вечную жизнь[162]162
Hobbes T. Op. cit. P. 478–479 [Там же. С. 343] (гл. XXXVIII; курсив автора).
[Закрыть].
По итогам долгого рассуждения Гоббс приходит к выводу, что Писание говорит об общем спасении, а не о вечной жизни, гарантированной отдельным индивидам; о вечной смерти для грешников в день Страшного суда, а не о вечных мучениях; об адском пламени и спасении в метафорическом смысле, без отсылки к конкретным местам. Однако еще более важным, нежели все эти ответы, является сформулированный Гоббсом вопрос. Он со всей ясностью выражает желание создать государство, «смертного бога», которым, в его глазах, и является Левиафан, по образцу религии sui generis[163]163
Ibid. P. 227: «This is the Generation of that great LEVIATHAN, or rather (to speake more reverently) of that Mortal God…» («Таково рождение того великого Левиафана или, вернее (выражаясь более почтительно), того смертного Бога…» [Там же. С. 133]) (гл. XVII).
[Закрыть].
5. Согласно Гоббсу, право на свободу совести распространялось лишь на тех, кто разделял основное положение христианской доктрины, веру в Иисуса как Христа. Гоббс пишет:
Кроме того, задача служителей Христа в этом мире – побудить людей верить и иметь веру в Христа. Вера же не имеет отношения к принуждению и приказаниям и зависит совершенно не от них, а исключительно от достоверности или вероятности аргументов, исходящих из разума или выведенных из того, во что люди уже веруют[164]164
Ibid. P. 526 [Там же. С. 381] (гл. XLII).
[Закрыть].
Согласно Бейлю, это право должно было принадлежать всем. С помощью примера с воображаемым обществом безбожников он утверждал, что человеческое общежитие возможно и за пределами связей, установленных религией; посредством примера с Китаем – что государство, незнакомое с религиозными диспутами, имеет более прочную основу, нежели государства европейские. Не безграничная терпимость угрожала стабильности гражданского общества, по мнению Бейля, но политическое христианское богословие в его различных формах[165]165
См. трактат П. Бейля «Разные мысли о комете» («Pensées diverses sur la comète», 1682, под иным названием; расширенное издание – 1683, новое дополненное издание – 1694); ит. пер.: Bayle P. Pensieri diversi / A cura di G. Cantelli. Bari, 1979. P. 303 (гл. 161) et passim [Бейль П. Исторический и критический словарь: В 2 т. М., 1968. Т. 2. С. 232 и далее]. См. также другой текст Бейля: Bayle P. Réponse aux questions d’un provincial // Bayle P. Œuvres diverses. La Haye, 1737. Vol. II. Pt. 2. P. 956. Здесь Бейль приводит замечательный диалог между китайским мандарином и иезуитом.
[Закрыть].
Согласно же анонимному читателю Бейля, опубликовавшему в Гааге в 1719 году сочинение «Жизнь и дух Бенедикта Спинозы», затем повторно напечатанное под названием «Трактат о трех обманщиках», именно христианство или даже религия как таковая служили инструментом политического угнетения и, по этой причине, подлежали искоренению[166]166
Trattato dei tre impostori: La vita e lo spirito del signor Benedetto de Spinoza / A cura di S. Berti, con prefazione di R. Popkin. Torino, 1994. На основе свидетельств, восходящих к XVIII веку, С. Берти атрибутирует трактат Яну Фрозену.
[Закрыть]. Текст был основан на ловком соположении пассажей из Спинозы, Гоббса и либертинских авторов (Шаррона, Ла Мотта Ле Вайе, Ноде). Однако исправления и добавления сообщили этому сборнику скрытых цитат новый смысл. Осторожные оговорки, которыми Ла Мотт Ле Вайе сопровождал аналогии между языческими мифами и отрывками из Библии, были систематически исключены из текста[167]167
Помимо примеров, приведенных С. Берти и касавшихся Шаррона (Ibid. P. LXXIV–LXXVI), см. также: La Mothe Le Vayer. De la vertu des payens. P. 157; то же: Trattato dei tre impostori. P. 136. Анонимный автор «Трактата» исключил отрывок, начинавшийся со слов «Certes, l’ignorance Payenne a été grande…» (процитированный выше: «Конечно, велико было невежество язычников…»). Тем самым в тексте возник неожиданный переход – от фрагмента из Ла Мотта Ле Вайе, где вызванный Фаэтоном пожар сравнивался с судьбой Содома и Гоморры, к пассажу, в котором Фаэтон сравнивался с Илией («Car assez de personnes ont remarqué le rapport qu’il y a entre Samson et Hercule, Elie e Phaeton…» [ «Ибо достаточное число людей заметили, что существует связь между Самсоном и Гераклом, Илией и Фаэтоном…»]). К неловкой перелицовке, образовавшейся в оригинальном тексте, добавилась ошибка в итальянском переводе, еще более усложнившая дело («embrasement», «пожар», оказался переведен как «объятие»).
[Закрыть]. Естественное равенство между людьми, с помощью которого Гоббс вводил основополагающий миф об абсолютной власти, использовалось в «Жизни и духе Бенедикта Спинозы» для отрицания тезиса о том, что «пророки и апостолы были из иного теста, нежели простые люди, будучи созданы специально для возглашения божественной воли»[168]168
Trattato dei tre impostori. P. 71.
[Закрыть]. Таким образом, здесь вновь появлялась старая идея религии как обмана. Однако ложь эта, в глазах либертинов, была необходима для удержания в повиновении невежественных масс. По мнению анонимного автора «Жизни и духа Бенедикта Спинозы», речь шла об обмане, который массы, доведенные «политиками» до состояния «слепой покорности», должны были бы уже осознать[169]169
На этом пункте справедливо настаивает в своем введении С. Берти (Ibid. P. LX).
[Закрыть]:
Если бы народ мог представить себе, в какую бездну он опускается из-за своего невежества, то вскоре он сбросил бы иго тех продажных душ, которые держат его в невежестве ради личной выгоды. Для этого достаточно было бы, чтобы он использовал свой разум; невозможно, чтобы, освободив его, народ не открыл истину.
Аноним признавал, что «народ весьма склонен к ослеплению», однако энергично открещивался от «абсурдной максимы», согласно которой истина не предназначалась народу, неспособному познать ее[170]170
Ibid. P. 67, 69, 239.
[Закрыть].
В последующие десятилетия добрая часть Европы была наводнена книгами и брошюрами, откликавшимися на скрытый призыв анонимного автора «Жизни и духа Бенедикта Спинозы»: дабы открыть истину, достаточно того, чтобы «народ» воспользовался «собственным разумом». В этом лихорадочном стремлении к общению, не терпящему цензурных барьеров, мы узнаем типичные черты Просвещения. То же можно сказать и о конкурсе, открытом в 1777 году Прусской королевской академией наук и художеств, на лучшее сочинение по теме «Полезно ли обманывать народ?». Сюжет был подсказан Фридриху II Д’Аламбером. Показательно, что вопрос такого рода формулировался открыто, хотя и среди относительно узкого круга представителей ученой республики. «Наш век есть подлинный век критики», но лишь религии и законодательству удается «поставить себя вне этой критики», в связи с чем «они справедливо вызывают подозрение»[171]171
[Кант И. Критика чистого разума. Предисловие к первому изданию // Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 75; пер. Н.О. Лосского.]
[Закрыть], заметил почти тогда же Кант в предисловии к «Критике чистого разума» (1781) – смелое утверждение, которое было затем исключено из второго издания книги (1787), вышедшего после смерти Фридриха II[172]172
Отмечено в работе: Koselleck R. Kritik und Krise: Ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. Freiburg; München, 1959; ит. пер.: Koselleck R. Critica illuminista e crisi della società borghese. Bologna, 1972. P. 136. В этой книге автор чрезвычайно тонко развивает старый конспирологический тезис аббата Баррюэля.
[Закрыть].
Одним из двух победителей берлинского конкурса оказался профессор математики савойский эмигрант Фредерик де Кастильон. На вопрос, заданный Д’Аламбером, он дал утвердительный ответ, хотя и смягчил его осторожными оговорками. Кастильон замечал, что тема конкурса перекликалась с отрывками из «Государства», где Платон признавал за правителями право на ложь ради общего блага[173]173
Bisogna ingannare il popolo? Bari, 1968. P. 13, 53, 60–62 (том включает в себя диссертации Кастильона и Кондорсе); более пространную выборку оригинальных текстов см.: Est-il utile de tromper le peuple? / Hrsg. von W. Krauss. Berlin, 1966.
[Закрыть]. «Народу может оказаться полезным, если его обманут – и в политике, и в религии, – писал Кастильон, – как в том случае, если его вводят в новое заблуждение, так и тогда, когда народ утверждается в заблуждениях старых, ибо, конечно, это делается, как уже говорилось, для большего блага самого народа». «Однако если сей принцип верен, – предупреждал он, – то абсолютно необходимо, чтобы народ ничего не знал, ибо тогда пропадет вся сила этого принципа». Истина «явлена лишь взору орла; всем прочим, дабы не ослепить их, она должна являться в окружении пелены, умеряющей ее чрезмерный блеск». Кастильон считал, что причиной «беспорядков, преступлений, убийств, столь безосновательно отнесенных на счет христианской религии», служили не «заблуждения, рассеянные в разное время среди народа священниками, но, скорее, несдержанность и неосторожность тех, кто сорвал с них маску». Лучше двигаться медленно, шаг за шагом, перенося народ от большего заблуждения к меньшему, так, как это происходило в языческих религиях и даже в иудаизме. В этом месте Кастильон дал пример «нового заблуждения», которое одновременно являлось «заблуждением меньшим» – патриотизм. Он составляет, объяснял Кастильон, средний путь между, с одной стороны, «подлинным и великим фундаментальным принципом» человеческого братства, известным с древности и все еще господствующим «среди менее цивилизованных народов», и, с другой, явившейся затем личной выгодой, при которой индивид думает лишь о себе и своем семействе. Патриотизм утвердился благодаря совместным действиям «мудрых и бескорыстных законодателей» и «корыстных правителей», которыми двигала только жадность, алчность и жажда власти, то есть сочетание эвгемеризма и обмана. В этом «меньшем заблуждении», «лжи», обращенной к современным народам, Кастильон смутно различал черты религии, чуть позже начавшей отправлять свои порой жестокие ритуалы на большей части территории Европы[174]174
См.: Mosse G.L. The Nationalization of the Masses: Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the Napoleonic Wars through the Third Reich. New York, 1974; ит. пер.: Mosse G.L. La nazionalizzazione delle masse. Bologna, 1975.
[Закрыть]. Начиналась эра «проповедников патриотизма», о которых грезил Новалис[175]175
Novalis. Frammenti. Milano, 1976. P. 227 (фрагмент 884).
[Закрыть].
6. «Куда уж Вулкану против Робертса и Ko, Юпитеру против громоотвода и Гермесу против Crédit Mobilier! Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения; она исчезает, следовательно, вместе с наступлением действительного господства над этими силами природы. Что сталось бы с Фамой при наличии Принтинг-хаус-сквер?»[176]176
Marx K. Introduzione ai “Lineamenti fondamentali dell’economia politica” // Marx K., Engels F. Opere complete. Vol. 29 / A cura di N. Merker. Roma, 1986. P. 43 [Маркс К. Введение (из экономических рукописей 1857–1858 годов) // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / 2-е изд. М., 1958. Т. 12. С. 737]. Фрагмент частично процитирован Э. Кастельнуово в начале его статьи: Castelnuovo E. Arte e rivoluzione industriale // Castelnuovo E. Arte, industria, rivoluzioni. Torino, 1985. P. 85.
[Закрыть] Эти вопросы, сформулированные Марксом во введении к «Критике политической экономии» (1857), сами собой предполагали отрицательный ответ: от экспрессивных форм прошлого, начиная с мифологического старья, следовало избавляться. Мы знаем, что этого не произошло: греко-римская мифология и капиталистические товары оказались прекрасно совместимы (например, в рекламе, к которой мы скоро обратимся). Однако вопросы Маркса исходили из более общего и глубокого убеждения, которое он выразил в противопоставлении между «социальной (то есть пролетарской. – К.Г.) революцией XIX века» и революциями предшествующими: «Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше фразы»[177]177
Marx K. Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte. Roma, 1974. P. 50 [Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. М., 1957. Т. 8. С. 122].
[Закрыть]. «Здесь» – то есть в контексте общественного становления буржуазии, для Маркса синонимичном «холодной реальности», действительности sans phrase, в сущности, свободной от идеологического тумана, который окутывал общества прошлого[178]178
Ibid. P. 46–47.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































