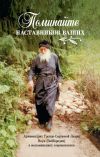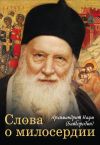Текст книги "Религиозные практики в современной России"

Автор книги: Кати Русселе
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
В отличие от пожертвований в корзину/ящик и платы за мессу существуют некоторые сезонные денежные поступления, которые, однако, сохраняют свой индивидуальный характер. К этой категории относится церковный налог (Denier de l’Eglise); благотворительные приходские ярмарки, также ныне называемые «днями дружбы» (journées d’amitié»), а раньше – «благотворительной торговлей» (vente de charité); запись на курсы катехизации и пр. Сюда же можно причислить средства, связанные с определенными церемониями, хотя они пересекаются с категорией, о которой речь шла выше. Все эти доходы в целом весьма значительны, а для некоторых приходов именно они и преобладают.
Каждый приход организует периодические праздничные встречи, иногда в день престольного праздника, но чаще всего в какой-либо день, согласованный между несколькими соседними приходами, когда проводятся небольшие ярмарки (антиквариат, книги, одежда и т. д.), организованные или импровизированные обеды, вечера с играми и спектаклями и т. д.
К совершенно иной категории относится, например, катехизация. По традиции родители, записывая своих детей в первый катехизический класс, платят определенный взнос (сравнительно скромный, если учесть объем соответствующей работы). Исходя из изучения доступных нам документов, можно признать, что катехизация обращена к тем, кто в большинстве случаев не входит в число воскресных прихожан, и что эти взносы, как инстинктивно полагают священники, можно считать другой формой «церковного налога», собираемого с верующих. Таким образом, люди, записывающие своих детей на эти курсы, в большинстве своем именно этим демонстрируют свою принадлежность к церкви.
По своей сути выплаты за курсы катехизиса отличаются от «церковного налога»; они непосредственно связаны с приходом, и родители, приводящие на эти курсы своих детей, сознают, что дети будут находиться в попечении прихода в той же мере, в какой школы находятся под управлением министерства образования.
Родители, которые связаны с приходскими курсами катехизиса через своих детей, – это люди, которым, как правило, от 33 до 55 лет и которые не платят «церковного налога». Их цель – дать детям дополнительное образование, и они считают, что приход может его дать. Каковы бы ни были конкретные мотивации родителей, скрытые или открытые – например, невозможность самим заниматься образованием ребенка или подсознательная идея о некотором разделении функций гражданского общества (родители берут на себя общее образование ребенка, а светская школа – более специальное), – так или иначе родители признают легитимность приходских институтов. Это признание основано не только на доверии к чисто педагогическим результатам обучения, но и на уверенности в том, что церковь обладает монополией на некоторые символические действия, связанные с детством, – например, такие таинства, как Первое причастие или Торжественное причастие (Première communion и Communion solennelle)9. Принадлежность к церкви как бы опосредуется детьми. Следовательно, здесь надо говорить об ограниченной легитимности церкви: человек отказывается от уплаты «церковного налога», который касается его самого непосредственно (а не через символическую социализацию детей).
Главный источник приходских доходов – «церковные подношения», или «церковный налог» – Denier de l’Eglise (далее – DDE), раньше именовавшийся Denier du Culte (налог на культовые цели). Это не «налог» (1mpôt или taxe) в прямом смысле слова, поскольку никакой системы принуждения в церкви не существует; речь идет именно об абсолютно добровольном пожертвовании, даре; то, что делает этот дар похожим на «налог», – это его регулярность: человек платит DDE, поскольку он участвует в приходской жизни и посещает воскресную мессу, но он может всегда отказаться от его уплаты. В настоящее время, по нашим подсчетам, DDE обеспечивает от 40 до 60 % бюджета прихода.
Мы изучили точные списки уплачивающих DDE прихожан и суммы пожертвований в некоторых приходах (хотя, к сожалению, за разные годы). Результаты оказались чрезвычайно интересными как в плане статистического распределения пожертвований, так и в плане выяснения идентичности жертвователей. Здесь возможно выдвинуть две гипотезы. Согласно первой, дар в качестве DDE выглядит как добровольный налог, уплачиваемый более или менее пропорционально доходам и в соответствии со степенью участия в приходской жизни; в таком случае уплата «налога» производится в ответ на призыв со стороны прихода или церкви как института. Впрочем, эта гипотеза не дает возможности различать активный (militant) и обычный (classique) уровни участия в институте церкви (если использовать типологию Макса Вебера). Вторая гипотеза меняет порядок рассуждений: оплата означает тип членства в приходе (церкви) – активный или обычный. Но и в этом случае нам сложно рассчитать силу такой интеграции без учета доли «налога» в личном бюджете каждого конкретного дарителя и во всей сумме подношений, а этот фактор, безусловно, столь же важен, как и сумма выплат в абсолютном исчислении.
Дар в качестве DDE выявляет некую интенциальностъ, которую можно истолковать как определенный ответ на «вопрос» церкви как института относительно дистанции, на которой данный конкретный верующий находится от церкви. Чем больше такая дистанция, тем ниже уровень дара по отношению к финансовым возможностям дарителя. Представляется, что социальный портрет типичного плательщика DDE довольно легко описать: это посетители воскресных служб, люди определенного возраста, религиозные ожидания которых могут быть удовлетворены воскресной мессой, а «горизонт участия» ограничивается церковью, ближайшей к дому. Эти типичные прихожане (в отличие, например, от такой особой группы, как те, кто платит за обучение детей в воскресных школах) делают наибольший вклад в общую сумму пожертвований, собираемых во время и после службы, а также в благотворительную деятельность. В целом они очень редко отказывают в подношениях и легко отзываются на призывы священников и мирян-активистов жертвовать на благотворительные цели.
Выводы: пестрое многообразие прихожанИтак, когда мы рассматриваем католический приход в его институциональном и публичном аспектах, мы должны видеть и самих людей – тех, кто принадлежит приходам, и тех, кто признает за церковью определенную роль. Финансовые потоки, которые мы рассмотрели, помогают выявить большое многообразие этих людей, несводимость их к одному обобщенному типу «верующих»; вообще, говоря о «верующих», я бы предпочел в этом случае использовать французское слово fidèles, поскольку слово croyants кажется в этом контексте преувеличенным.
Мы выделили пять довольно четко различимых категорий, причем первые четыре из них явно противопоставлены пятой.
Люди первой категории рассматривают церковь как род публичного учреждения: они участвуют в молитве, местом которой, с их точки зрения, является публичное пространство; их участие обусловлено тем, насколько им походит время, внутреннее устройство церкви, имеющиеся в ней объекты культа… Мы не знаем социальной мотивации этих людей, кроме того безусловного факта, что они отличаются от практикующих верующих, поскольку не организованы в группы.
Те, кого мы назвали группой «осторожных» (prudents), – а именно те, кто становится «верующими» в три главных момента жизненного цикла, – сохраняют только отрывочные связи с приходом. Тем не менее они составляют немаловажную часть населения, и их присутствие в приходской жизни весьма заметно. Конечно, это присутствие для каждого из них эпизодично, но взятое в совокупности оно становится постоянным и немаловажным фактором. Их исповедание веры, которое является основой их религиозной практики, связано с осознанием конечности человеческого существования: рождение, половое созревание, смерть суть три главных этапа такого осознания; их пожертвования суть форма, в которой это осознание проявляется.
Следующая, третья, группа – «верующие передачи традиции» – занимает иное положение в церкви: как следует из самого названия, смысл их церковности состоит в процессе социализации детей. Это семьи, которые отдают своих детей в приходские классы. Их связь с приходом опосредуется детьми, посещающими классы еженедельно в течение двух-трех лет. Однако иногда у них устанавливается и прямой контакт с церковью – например, во время родительских собраний, на литургии, в дни праздников и во время других мероприятий. В этой группе, состоящей в основном из лиц примерно в возрасте от 35 до 55 лет, оказываются как регулярные прихожане, так и те, кто пользуется услугами церкви лишь три раза в жизни. Несмотря на многочисленность этой группы, следует сказать, что доля некрещеных детей и невенчанных родителей постоянно увеличивается.
Еще одна группа верующих, которые весьма отличаются от родителей, посылающих детей в классы катехизиса, – это те, кого привязывает к церкви практика «заказа мессы». В более чем двух третях случаев эти мессы заказываются во имя усопших. Для этой категории верующих церковь есть способ сохранения посмертной связи с ушедшими членами семьи. Трудно составить точный портрет этой группы, но можно предположить, что речь идет о людях в возрасте старше 50 лет. Однако поскольку, с точки зрения статистики, именно люди этого возраста чаще всего теряют своих близких, нам стоит воздержаться от категорических заключений.
Четыре только что перечисленные категории так или иначе связаны с жизнью духовенства, находясь на большем или меньшем расстоянии от него. Характеристика, которая объединяет всех этих людей, – определенная ограниченность их религиозных запросов. Каждый из них появляется в приходе с какой-то определенной целью, ограниченной практическими обстоятельствами – актом культа, оплатой за образование, доступностью помещения. Каждый из верующих как бы измеряет свою веруй соответственно этому определяет уровень денежного взноса. Именно этим он отличается от последней группы верующих в нашей классификации – регулярных посетителей мессы (les messalisants).
Эта последняя, пятая, категория, регулярные посетители мессы, составляют видимую, постоянную часть католической жизни, и они же – главные «инвесторы» прихода. Своей активной религиозностью они утверждают значение дара в общественной жизни, о чем свидетельствует как опрос La Fondation de France, так и наши собственные исследования. Как часто повторяют и клирики и миряне-активисты, в приходе «всегда мелькают одни и те же лица». Их практика дарения есть отражение их человеческого участия: они совершают дарения, не считая денег, они никогда не делают перерывов в дарении, и часто, если можно так сказать, «их вера заложена в их семейный бюджет» (например, они предпочитают регулярные ежемесячные взносы в счет DDE). Таким образом, данную группу можно назвать группой «неограниченной веры» (или «верности»). Для них все, что делают другие группы верующих – запросы мессы, катехизис, таинства, – естественное дополнение к их постоянной религиозной деятельности, неотъемлемая часть жизненного континуума.
Как мы видим, французский католический приход – это сложная реальность, в которой нет единства. Эта сложность – в гетерогенности состава верующих. Для одних церковь функционирует фактически как одна из социальных служб, доступных каждому в соответствии с его нуждами. Для других, составляющих центральное ядро прихода, речь идет скорее о социальном пространстве, в котором жизнь верующего установлена на долгую перспективу; центральным же элементом этой жизни является воскресная месса и все, что выстраивается вокруг нее (таинства, дискуссионные группы, социальные службы и т. д.). Именно эти «постоянные» верующие, именно это ядро поддерживает единые рамки для всей системы прихода, хотя не следует забывать, что роль священника остается решающей – особенно для всех прочих категорий верующих.
Примечания1 См. историко-религиозную карту Франции, созданную Ф. Булардом (Boulard F. Materiaux pour l’histoire religieuse du people francais, XIX–XXe siecles. Paris: Editions de l’EHESS, 1982–1987).
2 Lambert Y. Dieu change en Bretagne: La religion a Limerzel de 1900 a nos jours. Paris: Cerf, 1985.
3 Заявления по дисциплинарным и догматическим вопросам, стратегия назначений епископов и т. д. Относительно последнего см.: Gremion С., Levillain Ph. Les lieutenants de Dieu. Paris: Fayard, 1986.
4 Например, отношение к переселению душ, понимание Бога, соблюдение моральной дисциплины и т. д.
5 Мы ограничили наше исследование приходскими церквями. Большие сакральные центры, такие как Лурд или Сакре-Кер на Монмартре, получают огромные пожертвования, которые затем перераспределяются в другие приходы.
6 Thiveaud J.-M. Fait financier et instrument monetaire // La monnaie souveraine / Dir. par M. Aglietta, A Orlean. Paris: Editions Odile Jacob, 1998.
7 Многие цифры свидетельствуют о том, что паранормальные явления – ясновидение, гадание, чародейство и т. д. – никогда не были столь популярны, как сейчас, и это очевидно даже в городах. Отсылаю к лучшим исследованиям в этой области, принадлежащим перу Доминик Камю (Camus D. Voyage au pays du magique: Enquete sur les voyants, guerisseurs, sorciers. Paris: Flammarion, 1995; Camus D. Jeteurs de sorts et desenvoiiteurs, enquete sur les mondes sorciers. Paris: Flammarion, 1997–2000. Vol. 1–3). Насколько мне известно, еще не было специальных социологических исследований, которые бы рассматривали соотношение и пересечение групп, практикующих колдовство и католические обряды. Об обращении к магии тех, кто относит себя к нерелигиозным (sans religion), см.: Denefle S. Socio-logie de la secularisation: Etre sans religion en France a la fm du XXе siecle. Paris: L’Har-mattan, 1997; особенно с. 235–257).
8 Чтобы понять психологию «осторожного» (prudent), полезно обратиться к фигуре «мудреца», описанной Франсуа Жюльеном (Jullien F. Un sage est sans idee. Paris: Seuil, 1998). «Мудрец» – тот, кто предпочитает не принимать какую-либо систему убеждений, действующую на основе принципов оппозиции и исключительности, и кто находится в постоянных поисках «золотой середины» – понятия изменчивого и зависимого от конкретных обстоятельств.
9 Иногда можно видеть, как родители отмечают Торжественное причастие, взяв напрокат специальную белую одежду (ипе aube), фотографируясь на церковной паперти и затем устраивая праздничный стол – без какой-либо катехизации или церковной церемонии. На наш взгляд, это не что иное, как скрытый знак признания символической силы церкви, пусть даже внешне люди отказываются это признавать. Надо также отметить, что значение Торжественного причастия, часто носящего также название Исповедание веры (торжественное произнесение Символа веры в возрасте примерно 11 лет), постепенно уменьшается в пользу Первого причастия, которое становится наиболее важным обрядом инициации.
Перевод с французского Александра Агаджаняна
Александр Львов
Кровь и маца: тексты, практики, смыслы
Согласно определению Оксфордского словаря, «практики – это то, что люди делают, в отличие от того, что они говорят, что они делают»1. В этом звучащем несколько парадоксально определении зафиксирована довольно очевидная, если вдуматься, вещь: пропасть, лежащая между делами и словами, между практиками и текстами. Эту абстрактную пропасть я хотел бы не упускать из виду, обратившись к конкретному материалу, составляющему предмет моего исследования.
Речь пойдет о «кровавом навете» и о современных формах бытования различных фольклорных мотивов, составляющих так называемую «легенду о ритуальном убийстве». Этот материал предоставляет особенно богатые возможности для обсуждения теоретических проблем, связанных с отношениями между практиками и текстами.
Первая часть работы содержит краткий обзор исследований «кровавого навета» и анализ механизмов непосредственного влияния ценностных предпочтений ученых на эти исследования. Причиной прямого вторжения идеологии в поле науки оказывается в данном случае слабость методологии, приводящая к неразличению текстов и социальных практик, в которых эти тексты используются, к подмене тех и других неким абстрактным смыслом – Логосом, недоступным уже для эмпирического анализа и подлежащим лишь оправданию или осуждению.
Следующие две части работы посвящены анализу современных полевых материалов, собранных в бывших еврейских местечках Украины и Литвы в 2001–2005 годах. Рассказы украинцев и литовцев о еврейских практиках мы будем рассматривать в двух взаимосвязанных, но методологически различных аспектах: и как фольклор, и как исторические свидетельства. Последний аспект особенно важен для нашего анализа, поскольку исследование текстов в отрыве от практик, в которых они используются, также ведет к идеологическим аберрациям научного видения, вызванным недостаточно отчетливым различением текста и якобы присущего ему смысла. Рассматривая устные рассказы как исторические свидетельства, мы, конечно, не будем искать в них ни доказательств, ни опровержений «кровавого навета». Моей целью здесь является реконструкция тех практик межконфессионального взаимодействия, которые осмыслялись посредством интересующих нас фольклорных текстов и одновременно наделяли смыслом сами эти тексты. Лишь таким образом, на мой взгляд, вопрос о «кровавом навете» может быть перенесен из поля политики в сферу науки.
Анализ этого частного вопроса является отправной точкой для более общего обсуждения методологических пресуппозиций социальных наук, касающихся соотношения текстов, практик и смыслов. Две модели, позволяющие представить это соотношение в явном виде, будут предложены в последней части работы.
«Кровавый навет» и его изучениеПервое обвинение евреев в ритуальном, имитирующем распятие Христа убийстве зафиксировано в Норвиче в середине XII века. С XIII века в обвинениях появляются новые мотивы: убивая христиан, евреи не только исполняют завещанный предками ритуал, но также используют кровь и другие части тела жертвы для своих магических и медицинских практик. Важный для нашего исследования мотив использования крови для приготовления мацы (ритуального пасхального хлеба) становится постоянным элементом обвинения начиная с XV века2.
Эпидемия кровавых наветов, унесшая жизни множества евреев, быстро охватила христианскую Европу, а позднее и в меньшей степени – мусульманские страны. Свою актуальность кровавый навет не утратил и по сей день. Этим, вероятно, объясняется, с одной стороны, интерес ученых к этому явлению3, а с другой – неизбежная в таких случаях ангажированность исследователей, чреватая смешением методологических проблем с моральными, практик – с текстами, дел – со словами.
Конечно, желание ученых внести свой вклад в нескончаемый спор между обвинителями и защитниками евреев легко понять. Однако характерной чертой этого спора является то, что действующие лица легенды о ритуальном убийстве – «евреи» и «христиане» – воспринимаются не как конкретные люди, а предельно обобщенно – как представители своих народов и конфессий. Вследствие этого никакие эмпирические данные и аналитические процедуры не могут способствовать ни верификации, ни фальсификации легенды. Например, если бы даже факт такого совершенного евреем убийства был установлен, потребовалось бы еще доказать, что этот еврей совершил преступление в качестве представителя своего народа, т. е. повинуясь некоему еврейскому «тайному» нормативному тексту. С другой стороны, самый исчерпывающий анализ всех еврейских текстов, доказывающий отсутствие в них предписаний, повелевающих евреям убивать христиан, не является «опровержением» легенды, поскольку (здесь я процитирую Дж. Фрезера) «исключительная живучесть, которой низшие формы суеверия обладают в умах невежественных людей, будь то евреи или неевреи, была бы достаточной для объяснения случайных рецидивов примитивного варварства в среде низшей части еврейского сообщества»4. Иными словами, можно только верить в истинность легенды – или, наоборот, верить в ее отрицание и использовать эту веру для конструирования еврейской5 или иной идентичности. Спор, таким образом, сводится к обличению чужой и утверждению своей веры, превращается в борьбу между верами.
Эта борьба влияет, конечно, и на научные исследования, связанные с кровавым наветом. Яркий пример такого влияния дает деятельность «Комиссии для научного издания документов ритуальных процессов в России», работавшей в Петрограде в 1919–1920 годах. С.М. Дубнов и другие члены «еврейской» фракции настаивали на том, чтобы в предисловии к изданию Комиссия высказала свое «кредо» со всей определенностью и, не допуская даже «самого легкого намека на возможность существования, например, секты, совершающей убийства с ритуальной целью», признала бы «невозможность допускать мысль о существовании ритуальных убийств научно установленной». «Русские» историки (к ним присоединился и Л.Я. Штернберг) высказывались за «строго объективную постановку вопроса». Однако субъективность, как справедливо заметил Дубнов, проявляется уже в выборе терминов – таких, как «навет» или «ложные обвинения». После долгой дискуссии председатель Комиссии С.Ф. Платонов согласился с тем, что «Комиссия, являясь перед публикой, должна… открыть забрало и сказать от себя по существу вопроса». Он заявил о своей готовности «исповедовать убеждение, что еврейство на почве Талмуда ритуальных убийств не совершало». Однако же он «сомневается в нужности и выполнимости» другого требования: «исповедовать, что ритуальных убийств не было и быть не могло на почве не только Талмуда, но и каких-либо сект»6. Таким образом, в этом предприятии, задуманном как чисто научное, не удалось избежать прямого столкновения ценностных установок. Платонов, отказавшись разделить горячую веру своих коллег в абсолютную невозможность ритуального убийства, столь значимую для еврейской идентичности, и попытавшись остаться на позициях научного скептицизма, оказался, в некотором смысле, «сторонником» кровавого навета – наряду с упоминавшимся выше Дж. Фрезером и некоторыми другими учеными. К этой ситуации, очевидно, в полной мере относятся слова М. Вебера: «Столкновение ценностей везде и всюду ведет не к альтернативам, а к безысходной смертельной борьбе, такой как борьба„Бога“ и„дьявола^. Нет никаких научных (рациональных или эмпирических) методов, которые могут дать нам решение проблем такого рода, и менее всего может претендовать на то, чтобы избавить человека от подобного выбора, наша строго эмпирическая наука, и поэтому ей не следует создавать видимость того, будто это в ее власти»7.
Одним из проводников влияния этой «безысходной смертельной борьбы» ценностей на исследования в данной области является отсутствие в научной литературе терминологического различения собственно «кровавого навета», т. е. обвинения евреев в ритуальном убийстве, и той легендарной традиции, на которой это обвинение основывается. Это приводит не только к тому, что отношение исследователя к практике кровавых наветов (в большинстве случаев – резко отрицательное) автоматически переносится на легендарную традицию (так, А. Дандес называет ее «зловещим фольклором»). Важнее для нас то, что при этом столь же автоматически фольклорные тексты, составляющие легендарную традицию, наделяются смыслом и функцией кровавого навета: a priori предполагается, что они выражают христианскую юдофобию, ненависть к иноверцу, к «чужому». При этом вопрос о происхождении и функционировании фольклорных текстов подменяется вопросом о происхождении и причинах живучести того смысла, который этим текстам приписывается8.
Между тем уже в средневековых источниках отчетливо просматриваются как минимум два способа использования данной легендарной традиции: одни и те же мотивы встречаются и в обвинениях евреев, сопровождавшихся пытками и казнями, и в агиографической литературе. Например, первая письменная фиксация «легенды о ритуальном убийстве» не является, вообще говоря, «кровавым наветом»: целью автора жития было доказательство святости убиенного отрока Уильяма, а не обвинение евреев9. Та же интенция отчетливо видна в сообщении «Англосаксонской хроники», написанной в недалеком от Норвича Питерборо около 1155 года: «Евреи Норвича в канун Пасхи купили христианского отрока и мучили его всеми пытками, которыми наш Бог был замучен, и в Страстную Пятницу повесили его на кресте, подобно нашему Богу, а потом похоронили его. Они полагали, что это останется тайной, однако наш Бог сделал явным, что был он святым мучеником, и монахи взяли его и торжественно похоронили в монастыре, и, благодаря нашему Богу, он творит замечательные и разнообразные чудеса»10. Структура этого нарратива позволяет предположить, что главной виной евреев автор хроники считал не столько убийство, сколько попытку сокрытия святых мощей. По крайней мере, нарративным следствием раскрытия тайны является здесь обретение новой реликвии, а вовсе не наказание виновных в убийстве.
Итак, мы видим, что одни и те же фольклорные тексты использовались для легитимации двух различных религиозных практик: преследования иноверцев и почитания христианских святых. Можно предположить, что в устном бытовании эти же тексты обслуживали и другие практики, связанные с повседневной коммуникацией между евреями и христианами.
Попытаемся взглянуть на эту ситуацию в аспекте отношений между практиками и текстами. С одной стороны, одна и та же практика, будь то преследование евреев или почитание святых, может находить свое оправдание и осмысление в различных текстах. С другой стороны, один и тот же текст, как мы видели, может использоваться для легитимации совершенно несхожих практик. Примеры такого произвольного сочетания текстов и практик легко умножить.
Хорошо известно, что прагматическое значение текста может не совпадать с семантическим. Более того, в прагматических теориях, восходящих к Л. Витгенштейну, значение полностью определяется контекстом, способом употребления слова или текста. Но это – в теории, а на практике мы часто видим, что тексту приписывается одно постоянное, не зависящее от контекста, как бы его собственное значение. Механизм такого приписывания отчетливо виден в нашем случае: одно из нескольких прагматических значений, в силу своей особой значимости для исследователей, заслоняет собой все остальные и воспринимается как первичное, собственное, семантическое значение текста. Все остальные значения, если они вообще замечаются, рассматриваются как «вторичные», как «переосмысление» текста. В результате этой процедуры фольклорные тексты, составляющие «легенду о ритуальном убийстве», наделяются значением, которого в них самих, вообще говоря, нет.
О средневековой устной традиции, связанной с кровавым наветом, нам известно довольно мало. Но зато у нас есть возможность, опираясь на материалы полевых исследований, взглянуть на современное состояние этой традиции, хорошо знакомой жителям бывших еврейских местечек. Я буду опираться на материалы, частично опубликованные
О. Беловой11, а также на записи А. Соколовой, мои собственные и моих коллег – участников экспедиций и студенческих школ в Украине и Литве. Как уже говорилось, мы попытаемся не просто выявить основные мотивы интересующих нас фольклорных текстов, но также реконструировать, по мере возможности, исторический или этнографический контекст – практики, с которыми они связаны. Я назвал бы эти тексты скорее «легендой о маце», чем «легендой о ритуальном убийстве».