Текст книги "Каменная ночь"
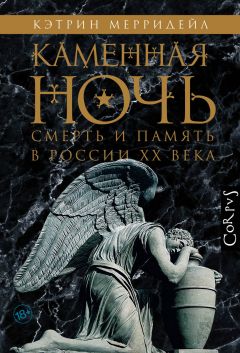
Автор книги: Кэтрин Мерридейл
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Такого рода радикализм не создавался “сверху”. Он родился на фабриках и заводах, в разговорах после рабочей смены. Его питали утопические мечты, которые отчасти вдохновлялись марксизмом, а отчасти уходили корнями к Толстому, к полузабытой мудрости старых крестьянских сект, к холиастическому прочтению Библии или к новому популярному тогда жанру научной фантастики[192]192
Stites R. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. Oxford: Oxford University Press, 1989. P. 13–36.
[Закрыть]. Известно, что революционные активисты проводили занятия с избранными рабочими, собирая их в подпольных кружках, чтобы вместе изучать запрещенные тексты, и что многие люди именно так открыли для себя Маркса и прочли его труды[193]193
См. Harding N. Lenin’s Political Thought: Theory and Practice in the Democratic and Socialist Revolutions. Houndmills: Macmillan Press, 1983. Vol. 1. P. 72–77.
[Закрыть]. Но даже самые заинтересованные ученики не были пустыми сосудами, которые их учителя наполняли революционным содержанием. Они формировали свои собственные впечатления о городе, о том, что такое хорошее сообщество, даже об освободительном потенциале новых технологий. У них также было свое видение путей, ведущих к свободе. Одни мечтали лишь о том, что однажды смогут вернуться домой, в свою деревню, хотя реальная деревня могла уже к тому времени кануть в область снов и фантазий. Другие, безусловно, верили в борьбу, в будущее, выкованное коллективным страданием, и вот эти люди воспринимали смерть товарищей как жертву, пусть и печальную, но приближающую “зарю свободы”. Однако, помимо этой темы, в одном погребальном шествии, сплоченном, пусть и мимолетно, противостоянием общему врагу, самодержавию, присутствовал широкий диапазон возможных идей, сырых или, наоборот, хорошо просчитанных политических программ – радикальных, революционных, популистских, марксистских или не имеющих к этим идеологиями вообще никакого отношения.
Обстоятельства, которые свели всех этих людей в единую толпу, не были обычными для своего времени. Неудавшаяся революция 1905 года на короткий момент сделала допустимыми демонстрации такого масштаба, однако ритуал “красных похорон” к тому времени существовал уже несколько десятилетий. Эмоциям, которые эти похороны вызывали у участников, не требовалась никакая пропагандистская поддержка. Зачастую истинное значение чьей-то жизни становилось понятно только ретроспективно, после смерти этого человека. Толпы собирались на похороны, чтобы выразить свое потрясение и горечь потери. Однако власти хорошо понимали политическую составляющую этих церемоний. В царской России публичные сборища не обходились без надзора властей – повседневные демонстрации революционной солидарности были немыслимы, – однако проведение похоронных процессий ограничить было куда сложнее. К тому времени элита “профессиональных” революционеров уже хорошо понимала, сколько возможностей дает такое коллективное горе. Когда толпы проходили мимо правительственных зданий, дворцов, роскошных магазинов, над процессией разворачивались красные стяги. Люди несли огромные (до метра в диаметре и даже больше!) траурные венки, сплетенные из зеленых веток и лилий. Венки были увиты лентами, на которых виднелись слова солидарности, радикальные лозунги и обращения рабочих к погибшим товарищам.
Подобный ритуал сложился в 70-е годы XIX века. В 1877-м на похоронах поэта Николая Некрасова пришедшие выступали с радикальными речами возле свежей могилы. В 1891 году похороны литературного критика, писателя-народника и участника революционно-демократического движения Николая Шелгунова на Волковом кладбище в Петербурге вылились в организованную демонстрацию с участием семисот мужчин и женщин, которую лидер этой демонстрации и глава марксистской “группы Бруснева” Михаил Бруснев назвал первым появлением российского рабочего класса на арене политической борьбы. Транспаранты, которые несли демонстранты, были получены ими от организаторов или подготовлены самостоятельно на собраниях днем ранее. Почти все они неизменно были обращены к “Указателю пути к свободе и братству от петербургских рабочих”[194]194
Полищук Н. С. “Обряд как социальное явление (на примере «красных похорон»)” // Советская этнография. 1991. № 6. С. 34–35; Пирютко Ю., Еремина Л. С. Исторические кладбища Петербурга, справочник-путеводитель. СПб.: Издательство Чернышева, 1993. С. 49.
[Закрыть].
Однако не только левые революционные силы проводили массовые публичные похороны. 23 октября 1893 года похороны композитора Петра Ильича Чайковского стали одним из самых заметных светских событий года в Петербурге. Пришедшие на похороны толпы наглядно свидетельствовали, что не только политические события способны вызвать такую коллективно переживаемую скорбь. А кроме того, похороны Чайковского вполне закономерно стали первым примером участия в похоронной процессии оркестра в полном составе. Вскоре большевики с энтузиазмом возьмут это новшество не вооружение[195]195
Там же. С. 46–49.
[Закрыть]. На самом деле они в значительной степени позаимствуют те ритуалы и помпу, которые при старом режиме сопутствовали похоронам состоятельных представителей среднего класса. В частности, начиная с 1917 года в прессе в траурных черных рамках стали публиковать объявления о смерти видных революционеров, а церемонии прощания и похорон сопровождались гигантскими венками, почетным караулом и привезенными из-за границы цветами.
Дореволюционный буржуазный похоронный обряд, который стал источником этих заимствований, был по своей сути религиозным, хотя и не всегда православным. Сопутствующие ему ритуалы восходили к известным символам: духовное путешествие, молитвы о спасении и упокоении души, совместная трапеза (кутья из цельных зерен пшеницы, политая медом, и яйца), кажущаяся слишком простой в зажиточном городском контексте, освященная земля с могилы. Сами могилы становились все более затейливыми, по мере того как богател российский средний класс, и все больше людей могли себе позволить заказать близким надгробие из мрамора и бронзы. Все больше предпринимателей вкладывали деньги в строительство семейных склепов, участки на кладбищах обносились коваными железным решетками, а сами кладбища стали походить на настоящие города мертвых. В прежние времена на дворянских могилах обычно лежала простая каменная плита (а на могилах простолюдинов устанавливался временный деревянный крест или столбик), но теперь богачи требовали колонн, урн, рельефов на цветном камне, а иногда даже несколько поэтических или прозаических строк, хотя эпитафии были скорее редкостью[196]196
См., например: Трубникова О. А. “История некрополя Новодевичьего монастыря” // Московский некрополь. История, археология, искусство, охрана. М.: Московский фонд культуры ПТО “Центр”, 1991. С. 106–123.
[Закрыть].
Обычно для убранства гроба и драпировки катафалка на буржуазных похоронах щедро использовалась белая ткань. Сам катафалк, запряженный попарно лошадями, тоже был белым, а гроб, размещенный в задней его части, скрывался под пышными складками белой парчи. Покойника, как правило, тоже обряжали в белую одежду; и даже когда на смену традиционному льну пришел деловой костюм, сам гроб внутри обивался белой тканью. Большинство цветов в окружавших гроб венках тоже были белыми. Священники, которых обычно приглашали в количестве четырех, пяти или даже больше человек, а также причетники на похоронах надевали белое облачение. И хотя скорбящие и носящие траур к тому времени все больше отдавали предпочтение черному или серому, они, казалось, воплощали собой пережитки другого мира – так разительно отличались они от облаченных в белое священнослужителей, за шеренгами которых следовали. Белый цвет был частью традиции, точное происхождение которой неизвестно, однако он символизировал “тот свет”, преображение и перевоплощение. “Красные похороны”, напротив, определяли себя во вполне земных терминах. Их цветом был цвет крови мучеников, пролившейся на настоящую каменную мостовую.
Это подчеркивалось в каждой детали обряда, в каждом жесте. Гроб на “красных похоронах” был затянут красной тканью, покойника часто обряжали в одежду красного цвета, а скорбящие, во что бы они ни были одеты, несли алые стяги, алые цветы и венки, перевитые алыми лентами. Гроб редко везли на катафалке – как правило, его несли на плечах сильные товарищи покойного. Такие похороны обходились без священников. Зачастую было непросто найти участок на кладбище для захоронения, потому что вплоть до 1918 года большая часть кладбищ в центре города находилась под контролем церкви. Однако где бы ни был в итоге похоронен очередной “мученик революции”, какой бы простой ни была его могила, она могла стать местом паломничества. Обычай оставлять на могилах тех, кто пал героической или мученической смертью, цветы или один единственный цветок появился до большевистской революции, как и практика использования таких могил как трибуны, где приносили присягу общему делу.
В этот период формирования ритуалов “красные похороны” отнюдь не встречали безоговорочной поддержки у всего населения. Осиротевшие члены семьи, если они присутствовали на похоронах, зачастую вынуждены были разрешать конфликты. Торжественные речи и застегнутый на все пуговицы революционный формализм “красных похорон” не оставлял места для традиционного погребального плача. На похороны “красного мученика”, родившегося в каком-нибудь селе, могла приехать в город его деревенская бабушка, нелепая представительница “старого мира”. Возникала неловкая ситуация. Нередко одетые в черное женщины вырывались из торжественно марширующей шеренги похоронной процессии и распластывались на гробе, пронзительно выкрикивая свои странные причитания. Мужчины, готовящиеся выступить с речью, вынуждены были уводить их, иногда даже поднимать с земли, если они падали без чувств. Другие семьи просто сами забирали тело покойника из морга и отвозили домой для проведения погребального обряда или религиозной церемонии с традиционными молитвами. Часто под складками кумача на гробах “красных мучеников” скрывался православный крест[197]197
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб). D1900. G14610.
[Закрыть]. Однако в общем и целом “красные похороны” оставались знаком особого почтения к покойному, надолго соединявшим скорбящих узами солидарности. В Севастополе, где в октябре 1905 года более сорока тысяч человек вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь жертв очередного мятежа, в толпе одобрительно шептались: “Не страшно умирать за свободу… если знаешь, что тебя будут хоронить с таким почетом”[198]198
Полищук Н. С. “Обряд как социальное явление”. С. 27.
[Закрыть].
Неохотное, но безропотное согласие родных, а также тех, кто отошел от религии или обращался к ней лишь время от времени, и просто сочувствующих “попутчиков” со светским церемониалом заставляет задаться вопросом о природе веры в более общем смысле этого слова. Смерть всегда была для атеизма лакмусовой бумажкой. Находятся даже писатели, которые берутся утверждать, что необходимость религии изначально обусловлена существованием смерти[199]199
Подробнее об этом: Bowker J. The Meanings of Death. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 6–10.
[Закрыть]. До 1917 года в российское революционное движение входили сотни мужчин и женщин, которые вовсе не были атеистами, а еще большее число их соратников считали борьбу с религией второстепенной задачей по сравнению с другими формами политической борьбы. Тем не менее распространенность религиозности имела для революционных партий серьезные последствия. В числе этих последствий был и конфликт лояльностей (верующие признавали власть, которая была выше власти партии), и неизбывные суеверия, и приверженность прошлому, представленному предками, мертвыми, так называемыми отцами, которые оставались частью духовного сообщества. А кроме того, религия, этот пережиток буржуазного прошлого, отвлекала от задачи социалистического строительства.
Даже траур мог рассматриваться как пример распущенности и потакания своим слабостям, если он затруднял работу или удалял человека от коллектива. Эту идею повторяли марширующие толпы на сменяющих друг друга “красных похоронах”, потому что один из любимых участниками гимнов запрещал публичную скорбь:
Не плачьте над трупами павших борцов,
Погибших с оружьем в руках,
Не пойте над ними надгробных стихов,
Слезой не скверните их прах!
Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам,
Отдайте им лучший почет:
Шагайте без страха по мертвым телам,
Несите их знамя вперед!
С врагом их, под знаменем тех же идей,
Ведите их бой до конца!
Нет почести лучшей, нет тризны святей
Для тени достойной борца![200]200
Правда. 1917. 23 марта. Текст написан в 1865 году поэтом-демократом, сотрудником газеты “Искра” Лидором Ивановичем Пальминым.
[Закрыть]
В этих строках смерть предстает окончательной и бесповоротной, и даже к мертвому телу товарища не требуется относиться с какой-либо особой почтительностью (“Шагайте без страха по мертвым телам!”). Куда важнее то дело, за которое погибшие отдали жизнь, потому что только дело, а не человеческие души, единственное, что не умрет никогда.
В публичной жизни и философских текстах Ленина видна его нетерпимость ко всем религиозным привычкам, яростный антиклерикализм и враждебность по отношению к хилиастам и идеалистам в рядах его собственной партии. В 1908 году, споря с бывшем соратником Богдановым, тексты которого приняли “поповский” оборот, Ленин пишет: “Философия марксизма есть материализм. ‹…› Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. ‹…› Враги демократии старались ‹…› всеми силами «опровергнуть», подорвать, оклеветать материализм и защищали разные формы философского идеализма, который всегда сводится, так или иначе, к защите или поддержке религии”[201]201
Из письма М. Горькому от 13 или 14 ноябре 1913 г.: “Богоискательство отличается от богостроительства, или богосозидательства, или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый черт отличается от черта синего… Всякий боженька есть труположство – будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а построяемый боженька, все равно… Всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость…” Письмо впервые опубликовано: Правда. 1924. № 51. 2 марта.
[Закрыть]. Таким образом, со свойственным ему догматизмом Ленин отвергал любые попытки отыскать духовный смысл в социализме и наделить товарищество человеческих существ каким бы то ни было иным значением, кроме экономического или политического[202]202
Подробнее об этом ниже, на с. 125–127.
[Закрыть]. Богданов был изгнан из большевистской фракции.
Естественно, чем громче противился тому сам Ленин, тем сильнее одолевает историков искушение обнаружить религиозный тон и метафоры в его собственном мышлении и текстах. Та же судьба уготована была и Сталину, чьи публичные выступления нередко намекают на учебу в религиозной семинарии в ранние годы. Догматизм Сталина, как и догматизм Ленина, был сам по себе отголоском православной религиозной догмы, словом единственной истинной церкви, наследницы новой Византии, любое раскольничество и отклонение от постулатов которой было ересью. Согласно этой точки зрения атеизм Ленина и Сталина был своего рода протестом, а вызвавший его рефлекс был по сути своей религиозным[203]203
Это утверждение приходится наиболее часто слышать применительно к Сталину, частью юношеского интеллектуального становления которого была недолгая учеба в семинарии. Cм. McNeal R. H. Stalin: Man and Ruler. New York: New York University Press, 1988. P. 8–9.
[Закрыть]. Это интересное предположение, но какими бы ни были истоки их идеологии, их внутренний мир, их сердца для нас абсолютно закрыты. Для них обоих частное было совершенно неважно[204]204
Как сформулировал это Дмитрий Волкогонов в своей биографии В. И. Ленина, сама советская пропаганда была направлена на то, чтобы еще больше преуменьшить значение индивидуальных, частных чувств и эмоций. См. Volkogonov D. Lenin: Life and Legacy / Trans. by Harold Shukman. London: HarperCollins, 1994. P. xxxii-xxxiii.
[Закрыть].
Не осталось свидетельств того, как они переживали личные утраты, а ведь это один из ключей к личности человека в вопросах любви и смерти. Никто из них не считал эти переживания достойными того, чтобы быть зафиксированными. Для них имела значение лишь политика, государственная власть. Они полностью идентифицировались с той целью, которой служили. Первый председатель ЧК Феликс Дзержинский довольно холодно выразил эту мысль в своем дореволюционном дневнике, который вел в тюремном заключении: “Что же касается чувства, то могу сказать тебе: жизнь наша такова, что требует, чтобы мы преодолевали наши чувства и подчиняли их холодному рассудку. Жизнь не допускает сантиментов, и горе тому, кто не в силах побороть свои чувства”[205]205
Цит. по: Read C. From Tsar to Soviets. P. 202; см. также: Дзержинский Ф. Дневник заключенного. Письма. М.: Молодая гвардия, 1984.
[Закрыть]. Такого рода преданность делу была все-таки исключением из правил, но общая мысль, выраженная выше, определение человеческой жизни с точки зрения коллективной, общей цели отнюдь не были чем-то необычным. Представление о собственной личности как об отдельном мыслящем субъекте и о частной скорби в противовес горю, выраженному публично, были для России того времени в новинку. Такого рода идеи были роскошью, доступной тем, кто жил в достатке, знал грамоту и не делил с многочисленными домочадцами единственную тесную комнатушку. Деревенская культура была коллективистской по своей сути, не менее коллективистской была культура заводская, и революционеры посвящали свои жизни общему делу еще с 40-х годов XIX века.
А если так, значит, мы не можем объяснить личную реакцию Ленина на казнь его старшего брата Александра, приговоренного к смерти в 1887 году за участие в заговоре и попытку покушения на Александра III[206]206
Harding N. Lenin’s Political Thought. P. 11.
[Закрыть]. В то время Владимиру Ильичу было семнадцать лет, и он, прилежный студент, в день казни брата явился на письменный экзамен. Один из биографов Ленина выдвигает предположение, что потеря брата, а возможно, и смерть отца годом ранее могли усугубить склонность к самоанализу и погруженность в себя, характерные для будущего вождя[207]207
Service R. Lenin: A Political Life. P. 22.
[Закрыть]. Ленин не пошел на похороны Александра, хотя его мать на них присутствовала, и говорят, что от всего пережитого она за несколько недель полностью поседела. Однако, судя по всему, самым тяжелым ударом для Владимира оказалась смерть от тифа его младшей сестры Ольги; из-за небольшой разницы в возрасте (в один год) эти двое были особенно близки: средние дети в семье с шестью детьми[208]208
Васильева Л. Дети Кремля. М.: Бослен, 2012. С. 25.
[Закрыть]. Когда в апреле 1917 года Ленин триумфально возвратился из Женевы в Петроград, сойдя с поезда (того самого, со знаменитым пломбированным вагоном), он первым делом направился на Волково кладбище, на могилы матери и любимой сестры[209]209
Московский некрополь. C. 14.
[Закрыть]. Но, за исключением этого, у нас почти нет подлинных свидетельств о его эмоциональной жизни.
Сталин был чуть более откровенным, единственный раз. Его первая жена Екатерина Сванидзе тоже умерла от тифа. На ее похоронах Сталин пробормотал: “Это существо смягчало мое каменное сердце”[210]210
Васильева Л. Дети Кремля. С. 85.
[Закрыть]. Его реакция на самоубийство второй жены, Надежды Аллилуевой, до сих пор остается неясной. Некоторые говорят, что он был в бешенстве, что чувствовал себя преданным. Другие пишут, что он страдал от депрессии[211]211
Считается, что Сталин никогда не был на могиле Надежды Аллилуевой. Подробнее об отношении Сталина к обеим женам и к самоубийству Надежду Аллилуевой см.: Хлевнюк О. Сталин: Жизнь одного вождя. М.: Corpus, 2016. C. 342–356, а также: Tucker R. C. Stalin in Power: The Revolution from Above, 1924–1941. New York and London: W. W. Norton & Company, 1990. P. 217; Медведев Р. К суду истории: О Сталине и сталинизме. М.: Время, 2000); Васильева Л. Дети Кремля. C. 85.
[Закрыть]. За отсутствием подлинного свидетельства нам остается только гадать или верить слухам.
Личные чувства этих двух безжалостных людей могут быть и не особо существенны, потому что, в конце концов, их действия не подчинялись им. Неизменно важными для нашего анализа остается коллективная эмоция толпы как социальное явление. Здесь необходимо выделить два вопроса. Первый касается отношений между ленинизмом и его последователями. Насколько большевики могли опираться на те паттерны верований, которые предшествовали революции, а насколько им пришлось их менять и насаждать сверху новые? Была ли (и если да, то в какой степени) революция в образе мысли, в ментальности, а не только в политике, революцией, осуществленной снизу? Второй же вопрос касается предположения, что предпосылкой появления жестокости служат равнодушие или халатность по отношению к смерти. Это то, что внушало ужас Пастернаку: он чувствовал, как от чуждой толпы исходило ощущение угрозы. Другие писатели, оказавшись свидетелями похоронных процессий, также находили их зловещими. В феврале 1921 года Юрий Владимирович Готье, историк консервативного толка, работавший в Москве, наблюдал похороны анархиста Петра Кропоткина. “Толпа довольно значительная, – замечает он немного неохотно, – но, вероятно, в радио и в отчетах она примет размеры еще большие. В ней были интеллигенты и студенты, но вообще это была та серая масса, которая составляет типичную особенность нашего времени. Анархические группы с черными знаменами занимали очень внушительное место. Лица тупые, обезьяньи, нецивилизованные, варварские”[212]212
Оригинальный текст цитируется по выложенному на сайте Prozhito.ru дневнику Ю. В. Готье, запись от 13 февраля 1921 г.
[Закрыть].
В другом месте своего дневника Готье пишет о революционерах как о “гориллах”, противопоставляя их тем верующим, которых увидел на отпевании погибших студентов в церкви Большого Вознесения[213]213
Там же, запись от 26 (13) ноября 1917 г.: “Сегодня утром я ходил почтить память погибших студентов, которых отпевали у Большого Вознесения; служил, кажется, сам новый всероссийский патриарх; я был в начале церемонии, которая заняла целый день; эти толпы людей, исключительно интеллигентных, вернее цивилизованных, прибывали с каждой минутой. При мне привозили тела с пением «Вечной памяти». Сознаюсь, что я плакал, потому что «Вечную память» пели не только этим несчастным молодым людям, неведомо за что отдавшим жизнь, а всей несчастной, многострадальной России. То, что я видел, было контрманифестацией красным похоронам горилл 10-го; там была чернь; здесь – цивилизованные русские. Сейчас, вечером, я не знаю, благополучно ли прошли похороны; если нет, то побоище было побоищем света тьмою, цивилизации варварами”. См. также: Баранченко В. “Кончина и похороны П. А. Кропоткина” // Вопросы истории. 1995. № 3. С. 149–154.
[Закрыть]. Этот образ делает концепцию “революции снизу” довольно зловещей, как будто бы сама толпа была абсолютно бездушной, способной мрачно “перешагивать через мертвые тела”. В действительности имеющиеся у нас свидетельства указывают на прямо противоположное. На заре революции ни атеизм, ни материализм участников “красных похорон” не были признаком равнодушия или прагматического отношения к смерти. Более того, самодержавие продемонстрировало, что набожность сама по себе не мешает людям поступать жестоко, обесценивая жизни других человеческих существ. В любом случае простонародные верования в значительной степени уцелели и в складках красного стяга, а у многих радикально настроенных революционеров даже сохранялось ясное, подчас буквальное представление о жизни после смерти.
С точки зрения верующего человека, Готье был прав, высказывая сожаление о том, что революционеры-мужчины – и реже женщины – нередко провозглашали себя атеистами и, поступая на фабрику, отбрасывали формальную дисциплину веры; там они общались с товарищами, узнавали законы науки, читали своих Маркса, Дарвина, Жюля Верна[214]214
О привычках чтения, бытовавших среди рабочих в то время см.: Brooks J. When Russia Learned to Read: Literary and Popular Literature, 1861–1917. Princeton: Princeton University Press, 1985; Stites R. Revolutionary Dreams. P. 24–36.
[Закрыть]. Вначале деревенские мальчишки, перебравшиеся в город, еще держались привычной веры. Многие по привычке крестились, особенно проходя мимо церкви и особенно по пути домой. Некоторые поклонялись иконам на заводских стенах и какое-то время принимали поддержку и утешение от священника[215]215
A Radical Worker in Tsarist Russia: The Autobiography of Semen Ivanovich Kanatchikov / Ed. and trans. by Reginald E. Zelnik. Stanford: Stanford University Press, 1986. P. 34.
[Закрыть]. На некоторых фабриках были организованы уроки Закона Божьего, проводившиеся после окончания смены, а на многих были и свои часовни[216]216
Фотография, на которой изображена религиозная служба на одной из уральских фабрик, воспроизведена в книге: The Russian Worker: Life and Labor Under the Tsarist Regime / Ed. by Victoria E. Bonnell. Berkley and London: University of California Press, 1983. P. 42.
[Закрыть]. С одобрения Священного синода рабочий день начинался и заканчивался с молитв, и некоторые начальники присоединялись к своим рабочим, стоя с непокрытой головой впереди всех, похожие на директоров на гимназических собраниях[217]217
Персиц М. Атеизм русского рабочего (1870–1905 гг.). М.: Наука, 1965. C. 100.
[Закрыть].
Хотя некоторые религиозные пережитки могли сохраниться вопреки всему даже в преданных революции сердцах, давление, побуждавшее людей к поиску других, параллельных или полностью альтернативных миров веры, было практически непреодолимым. В беднейших областях церквей было немного. Например, на рубеже XX века в промышленном районе Орехово-Зуево, по сути представлявшем собой разросшуюся подмосковную деревню, была всего одна церковь на сорок тысяч жителей[218]218
Figes O. A People’s Tragedy. P. 65.
[Закрыть]. В таких районах было не слишком много женщин или, по крайней мере, женщин, регулярно посещающих храм, деревенских баб, у которых в доме постоянно бы горела лампада. Кроме того, ритм промышленного производства весьма условно соответствовал сельскохозяйственному циклу. Во мраке и пекле литейного цеха нетрудно было забыть про религиозный календарь со всеми его праздниками и постами. Семен Канатчиков вспоминал, как в юности под влиянием молодого рабочего по фамилии Савинов склонился к атеизму. Савинов настаивал, что даже священник едва ли сможет вообразить себе более ужасный ад, чем те печи, подле которых они работали[219]219
A Radical Worker in Tsarist Russia. P. 30.
[Закрыть]. В стихах рабочих того времени завод часто фигурирует как обитель страдания, с его “железными цепями”, “обжигающими печами” и молотом, вбивающим гвозди в человеческую плоть[220]220
Steinberg M. D. “Workers on the Cross: Religious Imagination in the Writings of Russian workers, 1910–1924” // Russian Review. 1994. April. Vol. 53. № 2. P. 222. Подробнее: Steinberg M. D. Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925. Ithaca: Cornell University Press, 2002.
[Закрыть].
Повсеместный антиклерикализм также способствовал тому, чтобы отвадить людей от церкви. Рабочие вслед за многими своими деревенскими братьями жаловались на алчность духовенства, обвиняли его в том, что оно покорно ест с руки у своих хозяев и не понимает жизни простого народа. Государственная власть в России в значительной степени отождествлялась с церковью, так что революционеры обычно отвергали оба эти института. К последнему десятилетию XIX века даже верующие начали восставать против православной иерархии. Самый серьезный вызов с этой стороны бросило церкви движение чуриковцев, известное также как Общество трезвенников Братца Иоанна Самарского (Чурикова). Движение зародилось в Петербурге в 1890-х годах и своей основой провозглашало благопристойную простую веру, прямую связь с Господом, отказ от потворства своим слабостям и алкоголя, который, казалось, в праздники лился рекой[221]221
Steinberg M. D. “Workers on the Cross”. P. 218; Клибанов А. История религиозного сектантства в России. М.: Наука, 1965. C. 266–268.
[Закрыть]. Как писал в воспоминаниях один московский слесарь-рабочий, в 1894 году он был “человеком религиозным, хотя и недолюбливал попов”[222]222
Персиц М. Атеизм русского рабочего. С. 106.
[Закрыть]. Хотя чуриковцы не всегда были такими уж правильными. В 1890-е годы те же рабочие, что в детстве распевали религиозные песни, с удовольствием разучивали “Сказку о попе и черте”, текст которой, по их словам, был слишком неприличным, чтобы повторять его на публике[223]223
Там же. С. 113.
[Закрыть].
Но, пожалуй, важнейшим подспорьем атеизму стала сила науки. В этом смысле между радикальностью безверия и марксизмом с его верой в прогресс и “научной” основой в виде диалектического материализма существовала связь: одно вдохновляло другое. К примеру, Канатчиков вспоминал, что отказался от религии после того, как его друг Савинов продемонстрировал “научную” интерпретацию сотворения мира. Рабочий-атеист предложил, чтобы тот, кто скептически относится к эволюционной теории Дарвина и настаивает на своей приверженности церкви и библейской версии творения по Книге Бытие, собрал немного земли в коробочку:
И ты увидишь, что там обязательно черви и букашки заведутся.
– А потом?
– А потом из букашки будет другая тварь развиваться и так далее… В продолжении четырех, пяти, а может, и десяти тысяч лет дойдет дело и до человека[224]224
Канатчиков С. Из истории моего бытия. М.: Издательство “Земля и фабрика”, 1934. C. 57.
[Закрыть].
На Канатчикова эта идея произвела такое сильное впечатление, что впоследствии, уже став пропагандистом, он использовал ее сам, называя самым убедительным своим аргументом в спорах.
Итак, атеизм был общим свойством радикальной части левого лагеря. Однако до прихода большевиков к власти он вовсе не был идеологическим требованием. “Красные похороны” были светскими, но не атеистическими. Скорбящие и жертвы насилия, которых они оплакивали, могли исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. В октябре 1905 года похороны жертв еврейского погрома в Екатеринославле вылились в массовую демонстрацию. Погром стал очередным проявлением той ненависти, которая вырвалась наружу в связи с революцией и ее провалом[225]225
Полищук Н. С. “Обряд как социальное явление”. С. 28.
[Закрыть]. В этот раз, как и во многих других подобных случаях, ритуалы, речи и песни были заимствованы из широкого круга источников. Одним из таких источников, вдохновлявшим собравшихся, была музыка другой революции – Великой французской. Когда полиция дозволяла, демонстранты исполняли “Марсельезу”, а также популярные песни, восходящие к Отечественной войне 1812 года с Наполеоном. Военные образы битвы и боевой чести проходили цензуру, и самым популярным гимном “красных похорон”, по воспоминанию Александра Пастернака, стала песня “Вы жертвою пали”. Первоначальный текст, написанный в 1870-х – начале 1880-х годов, был довольно сдержанным:
Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу,
Вы отдали все, что могли, за него,
За честь его, жизнь и свободу!
Но дальнейший текст – а некоторые строфы были добавлены в 1890-е годы – был куда более откровенен в своем революционном посыле:
А деспот пирует в роскошном дворце,
Тревогу вином заливая,
Но грозные буквы давно на стене
Уж чертит рука роковая!
Настанет пора – и проснется народ,
Великий, могучий, свободный!
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь, благородный![226]226
Текст представляет собой комбинацию двух стихотворений А. Архангельского (настоящее имя Амосов Антон Александрович): “Идет он усталый, и цепи звенят…” и “Мы жертвою пали борьбы роковой…”. Мелодия восходит к популярной песне “Не бил барабан перед смутным полком…” на стихи Ивана Козлова (перевод из Чарльза Вольфа, 1826). Еще раньше этот мотив заимствовали военные: в связи с похоронами генерала Бистрома песня Козлова была переделана в соответствии с реалиями Кавказской войны (1816–1864), и в таком измененном виде ее исполняли казаки. Впервые легально песня “Вы жертвою пали” прозвучала на похоронах жертв Февральской революции. Русские песни и романсы / Вступ. статья и сост. В. Гусева. М.: Художественная литература, 1989 (под заглавием “Похоронный марш”, без указания авторства). Этот же вариант: Русские песни / Сост. проф. Ив. Н. Розанов. М.: Гослитиздат, 1952 (под заглавием “Похоронный марш”).
[Закрыть]
Текст этой песни типичен не только из-за духа жертвенности, который пронизывает его, но и потому, что заимствует хорошо знакомый библейский образ – письмена на стене дворца вавилонского царя Валтасара: “мене, мене, текел, упарсин”. Значительная часть революционной поэзии того времени – причем не только гимны, посвященные павшим, – прибегала к похожим религиозным мотивам. В конце концов, в этом нет ничего удивительного, ведь радикально настроенные рабочие 1905–1917 годов были наследниками религиозной культуры. Их язык был пропитан религиозной образностью. Даже излюбленные ими бранные слова обычно в той или иной форме отсылали к Богу или святым угодникам. Но за словами и неисследованными аллюзиями скрывалось более общее метафорическое понимание жизни. В своей статье о религиозности в среде элиты рабочего класса Марк Стайнберг пишет: “Для них характерно было представление о человеческом существовании как о мифическом путешествии через страдания к спасению, к избавлению от невзгод, зла и даже смерти. Образы мученичества, распятия, преображения-перевоплощения и воскресения оставались частью их творческого словаря так же, как и нарративное внимание к страданию, злу и спасению души”[227]227
Steinberg M. D. “Workers on the Cross”. P. 220. Подробнее: Steinberg M. D. Proletarian Imagination.
[Закрыть].
Как верно добавляет Стайнберг, использование подобной религиозной образности отнюдь не доказывало наличие христианской веры. Даже среди грамотных рабочих вера была делом скорее неформальным, и люди нечасто пересматривали свои убеждения и представления о вещах. Прежние идеи о загробной жизни никуда не делись, и в поэзии того времени упоминаются разговоры с мертвыми, однако вера в потустороннее не требовала обязательного принятия других аспектов православной космологии. Революционные тексты полны образами бессмертия. Мертвые возвращаются для того, чтобы поговорить с живыми, являются к ним в снах. Например, в январе 1918 года один автор радикального толка, писавший для газеты рабочих “Рабочая жизнь”, описывал свою “встречу” с одной из жертв Кровавого воскресенья. Ему привиделся лежащий на земле умирающий человек. Когда из него вытащили царский штык, последними словами мученика были: “Господи, прости ему, ибо он не ведает, что творит”[228]228
Рабочая жизнь. 1918. № 2. С. 2. Похожий образ появляется также: Рабочая жизнь. 1917. № 9. С. 3.
[Закрыть].
Подобное обыденное представление контрастирует с миром спиритуализма, который пышным цветом расцвел в тревожной атмосфере российского fin de siècle. Современный спиритуализм появился в Соединенных Штатах в 1840-е годы, однако со временем он нашел плодородную почву и в России, став модным увлечением среди представителей образованных и обеспеченных слоев городского населения. Его последователями были и лексикограф Даль, и химик Менделеев[229]229
Carlson M. “Fashionable Occultism” // The Occult in Russian and Soviet Culture / Ed. by Bernice Glatzer Rosenthal. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1997. P. 136–139.
[Закрыть]. Спиритуалисты были больше обыкновенного зачарованы смертью. На личном уровне их призывали неизменно представлять ее перед мысленным взором, не спуская с нее глаз, “питать свои голодные души”, тогда и их собственная смерть произойдет наименее болезненно (не в физическом смысле) и будет сопряжена с наименьшим страхом[230]230
Оттуда. 1907. № 15. С. 3–4.
[Закрыть]. Естественно, именно переход в смерть, в реальный и густонаселенный мир загробной жизни, позволял духам мертвых свободно говорить с живыми.
Начиная с 1907 года сообщения, полученные от этих духов, публиковались в спиритуально-оккультной газете “Оттуда”. В регулярной рубрике этого издания под названием “Братские подсказки от медиумов”, как в сегодняшних журнальных колонках, консультирующих читателей по личным вопросам, было множество советов, а также предсказаний и предупреждений. Поскольку за этими посланиями стоял непререкаемый авторитет потустороннего мира, содержащиеся в них сообщения не подлежали обсуждению. В общем и целом спиритуализм враждебно относился к демократии, поэтому медиумы, вступавшие в контакт с духами умерших, были особенно восприимчивы к посланиями с того света, пророчившим ее конец. Например, один такой медиум по имени Небо заявил в 1907 году, что через три года, в 1910-м, грядет война между Россией и Францией, их противостояние распространится на весь мир, в результате чего будут уничтожены все демократические правительства. Другой медиум призывал “молиться только Господу и святому Николаю Угоднику” (вполне типичный совет) в ответ на запрос другого рода (оставшийся не опубликованным) – просьбу призвать сверхъестественные силы на помощь в поисках пропавшей девочки[231]231
Оттуда. 1911. № 22. С. 1–2.
[Закрыть].
Хотя это движение никогда не было массовым, оно оказало значительное влияние на мышление и язык людей далеко за пределами довольно узкого круга верных последователей. То же самое можно сказать и о самом экзотическом из многочисленных российских групп и течений, озабоченных темой смерти, так называемом русском космизме. Как и спиритуализм, этот комплекс философских взглядов опирался на православие. Разработал эту концепцию Николай Федорович Федоров (1829–1903). Федоров был глубоко верующим христианином, но кроме этого, он был одержим теми возможностями, которые, по его мнению, были сокрыты в коллективном человеческом разуме. Он полагал, что цель человека состоит в достижении всеобщего коллективного материального спасения на земле[232]232
Wiles P. “On Physical Immortality” // Survey. Nos. 56–57 (1965). P. 132–133. Более общее обсуждение космизма можно найти в сборнике: Русский космизм. Антология философской мысли / Под ред. С. Г. Семеновой и А. Г. Гачевой. М.: Педагогика-Пресс, 1993.
[Закрыть]. Федоров верил, что человеческие существа должны распрощаться со своим стремлением к размножению, потому что сексуальный акт есть акт разрушения, и вместо этого сфокусировать свои силы на моральной задаче первейшей важности – воскрешении мертвых.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































