Текст книги "Каменная ночь"
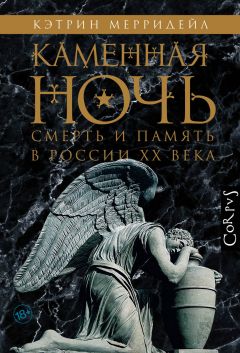
Автор книги: Кэтрин Мерридейл
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Сами могилы были местом чрезвычайно важным, по сути, общественным пространством. Они были отмечены деревянными крестами, а иногда – деревянными столбами, увенчанными крышей-навесом и смахивающими на крошечную голубятню. Под этой крышей должна была найти приют возвращающаяся на могилу душа. Возле могил можно было сидеть и разговаривать – люди верили, что разговоры эти происходили в формате диалога, а не монолога, – можно было послать сообщение давно умершим родственникам и попросить душу помолиться за вас на другом свете, где подобная молитва была бы более действенной и эффективной. Разговоры с мертвыми могли состояться в любой день, но некоторые дни были особенными. Среди этих особенных дней были Масленица, когда первый блин традиционно предлагали мертвым, три или четыре Родительских субботы во время Великого поста, второй вторник после Пасхи (Радоница) и четверг седьмой недели после Пасхи (Семик, или Русалкин Великдень), когда было принято поминать “заложных” покойников и служить панихиду по всем тем, кто не получил отпевания при погребении. В каждый из этих дней кладбища заполнялись людьми, которые приходили навести порядок на могилах своих родственников, и все разговоры вращались вокруг семьи, живых и мертвых ее членов. Посещение могил и обмен воспоминаниями сопровождали каждый уход из жизни. Церемонии поминовения, поминки, устраивали на девятый и сороковой день после кончины, что отражало то самое церковное “расписание”, упомянутое выше, – первое опасное путешествие, которое душа предпринимает, знакомясь с адом, и следующий за ним день суда.
У правила, предписывавшего хоронить “чистых” покойников в освященную землю, было очень мало исключений. Одно из них было продиктовано крестьянской логикой. Некоторые люди опасались, что священник на самом деле осведомитель и может донести на покойного в “высшую инстанцию”. Они были уверены, что те непонятные слова, которые священник бормочет у могилы или записывает под видом молитв, чтобы затем положить их в гроб, были перечнем грехов умерших, адресованным священником самому Господу. Чтобы избежать подобного предательства, многие уговаривали друзей похоронить их в лесу до прихода священника. Еще одним способом был обычай класть в гроб “взятку”: шкалик водки или деньги. Иногда умирающие с последним своим вздохом решали взять себе другое имя. Ведь ангелы пользовались списками, в которые были внесены христианские имена всех грешников, находившихся под их покровительством. Полагали, что недавно переименованный человек будет таким же безгрешным в глазах Господа, как новорожденный младенец[42]42
Заленский Э. Я. Из записок земского врача: Деревенская эпидемия. Народное знахарство. Псков: Типография “Труд и Знание”, 1908. C. 45–46.
[Закрыть].
В каждом элементе крестьянского ритуала можно обнаружить идеи, почерпнутые из повседневной жизни. Еда и питье имели особенно важное значение. За похоронами следовала общинная трапеза; священнику частично платили водкой; на поминках всегда делились едой. Погребальную трапезу обычно устраивали в доме покойного, однако другие церемонии, которые проводили на могилах, легко оборачивались своеобразными пикниками. Мертвые не были бесплотными: им требовалась настоящая еда, а не цветы, так что родственники вместе ели яйца (символ второго рождения), мед (чтобы подсластить жизнь вечную), пирог из дрожжевого теста, и даже от водки не отказывались. Такая общинная трапеза обходилась недешево. Добрая часть погребальных расходов уходила на то, чтобы принимать и угощать родственников, гробовщиков, могильщиков и особенно священника, а так как последний обычно требовал денежный аванс до проведения отпевания и панихиды, то, если случалось несколько смертей одна за другой, вся деревня могла погрязнуть в долгах[43]43
Тенишевский архив. 7/2/1305. Belliustin I. S. Description of the Clergy in Rural Russia. P. 26.
[Закрыть]. К счастью, финансовое бремя, как и сам траур, ложилось на плечи всех членов семьи, включая дальних родственников, а иногда и на всех членов мира.
Следовательно, можно сказать, что церковь и ее учения были вписаны в более мощную систему верований, опирающуюся на семью. В каждой избе были иконы и лампада; священник мог прийти в дом, если нужно было прочитать особые молитвы, однако души умерших всегда были где-то неподалеку, а кладбище обладало некоторыми свойствами, которые не были предписаны формальными церковными правилами. Более того, подчас оно использовалось совсем не по назначение, что церковью официально порицалось. Например, летом в жаркое послеобеденное время скот, бывало, забредал на погост и щипал траву между крестов и могильных холмов. Иногда, когда в деревне случались праздники, на огороженном пространстве кладбища могли заночевать торговцы, приносившие с собой водку, пиво и пироги[44]44
См. подробнее: РГИА. 796/183/4885, 1–10.
[Закрыть].
Российские этнографы подчас называли крестьянскую веру образцом двоеверия и объясняли, что в ней сочетаются элементы христианства с пережитками язычества. Но это объяснение упускает из вида динамизм этой веры, то, как она приспосабливалась к изменяющимся обстоятельствам даже в медленно меняющемся сельском мире. Например, согласно традиции, в сложенные руки умершего перед погребением вкладывали листок с молитвой, обращенной к Господу или святому Петру, с просьбой о милосердии. К концу XIX века этот листок стал известен как “документ покойника”, а в XX веке в некоторых случаях вместо него в руки вкладывали настоящий паспорт. Школьников, умиравших в подростковом возрасте, иногда хоронили вместе с их аттестатами или сертификатами о сданных экзаменах, а подчас и с их странными дорогостоящими книгами[45]45
Смирнов В. Народные похороны и причитания в Костромском крае. Кострома: Типография “Северный рабочий”, 1920. C. 15.
[Закрыть]. Эти новые предметы дополнили те, что люди традиционно хранили, чтобы потом они были положены вместе с ними в гроб. Например, заплетенные женские косы, напоминавшие о временах замужества, или маленькие острые камешки, функция которых сводилась к тому, чтобы напоминать покойному о его грехах, когда он, преодолевая боль, бредет к Высшему суду[46]46
Тенишевский архив. 7/1/29, 36; 7/2/1055, 8.
[Закрыть].
Больше всего крестьяне боялись, что покойник утащит за собой на тот свет и других людей. Имелось огромное число обрядов, призванных предотвратить подобное, например, предписания относительно размеров гроба (он должен был быть настолько маленьким, чтобы помимо покойника в него невозможно было поместить никого другого) или указания непременно закрывать мертвецу глаза, чтобы он не мог ни на кого взглянуть и поманить живого человека за собой. Но страшнее всего была так называемая нечистая сила. Нельзя было сказать, что именно представляла собой эта нечисть: считалось неблагоразумным даже поминать ее вслух, но она всегда была где-то неподалеку, а во времена кризисов, таких как чья-то смерть, влияние нечистой силы вселяло особенный страх.
Любая неосторожность была чревата гибелью. Когда человек умирал, тело обмывали в избе на специальной доске, а мыло и воду быстро выливали в каком-нибудь дальнем, захламленном углу двора, который не использовался в хозяйственных целях[47]47
Некоторые также верили, что мыло, с которым мыли тело покойника, обладало магическими свойствами. Женщины подчас хранили его, чтобы умываться (считалось, что это мыло помогает сохранять молодость) или привораживать своих мужчин.
[Закрыть]. Избу нужно было вымести. Николай Михайлович Бородин, который вырос на Дону на Украине на первое десятилетие XX века, вспоминал смерть своего прадедушки: “Пол в доме сразу подмели, а пыль похоронили во дворе. Мой двоюродный дед рассказал мне, что это было нужно для того, чтобы не дать покойнику ночью вернуться из своей могилы. Это объяснение повергло меня в ужас, и, обнаружив недостаточно хорошо выметенный угол, я начал энергично чистить его, тщательно собирая всю пыль, чтобы похоронить ее во дворе”[48]48
Borodin N. M. One Man and His Time. London: Constable, 1955. P. 5.
[Закрыть]. Во избежание появлений призрака, тело усопшего могли выносить в церковь через открытое окно или даже через специально проделанное отверстие в кровле, а не через дверь дома, в котором умерший жил. Смысл этого обычая заключался в том, чтобы запутать дух усопшего, затруднив призраку обратную дорогу в прежний дом.
Обычаям и заклинаниям не было конца, и хотя они несколько отличались в разных концах страны, в их основе лежал вполне практический взгляд на то, что может понадобиться душе умершего и что она может сделать неправильно. Еще одним пространством, которое подметалось с особенной тщательностью, была баня. Люди верили, что мертвые приходят попариться перед главными праздниками, например перед Пасхой, и в преддверии их прихода баню специальным образом готовили и на всю ночь отдавали в полное распоряжение призраков. Местные жители старались держаться от этого места подальше, потому что считалось что с каждым, кто по неосторожности или беспечности окажется свидетелем возвращения мертвых, услышит их вопли и песни или увидит, как они веселятся, произойдет несчастье[49]49
Ivanits L. J. Russian Folk Belief. P. 59; Громыко М. М. “Дохристианские верования в быту сибирских крестьян XVIII–XIX вв.” // Из истории семьи и быта сибирского крестьянства XVII – начала XX вв. Сборник научных трудов. Новосибирск, 1975. C. 74.
[Закрыть]. Собственно, баня была излюбленным прибежищем нечистой силы, которая также обитала на болотах, в лощинах и лесных чащобах.
Говоря о загробной жизни, обыкновенно использовали выражение “на том свете”, произнося его небрежно как нечто само собой разумеющееся, будто речь шла о прозаическом географическом направлении. Небеса обычно представлялись зеленой лужайкой, усыпанной маленькими домиками. В более овеществленном раю, изобретенном в XIX столетии, была и церковь, но построена она была из пирогов, крыта блинами, с полами из пряника[50]50
Тенишевский архив. 7/2/1305. I, 19.
[Закрыть]. Ад, как правило, представлялся раскаленным, и, следуя визуальному канону икон и фресок, в нем полыхало пламя. Страшный суд, как можно заключить из самого термина, неизменно вселял страх и ужас. На иконе XVIII века, которая в настоящее время находится в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, изображен Господь в сонме ангелов, в руках у него весы. Святые смиренно стоят по одну сторону, а грешники – коих, как всегда, большинство – с тревогой ожидают суда по другую сторону. Огромный змей угрожающе свивается рядом с ними, в то время как они сгрудились на весах; черные рогатые и волосатые черти насаживают своих “товарищей” на вилы, когда те кубарем катятся вниз с облаков. Изобретательные крестьяне развили этот сюжет. Верили, например, что женщина, решившая прервать беременность, в аду должна будет питаться плотью и жевать кости младенца[51]51
Лурье В. Л., Тарабукина А. В. “Странствия души по тому свету в русских обмираниях” // Живая старина. 1994. № 2. С. 22–26; а также: Тенишевский архив. 7/1/26. I, 21.
[Закрыть].
В эпицентре этой драмы была душа, хрупкая и боязливая, которую всегда описывали как бледную субстанцию, похожую на куклу – копию человека, такую же нежную, как новорожденный ребенок. Некоторые представляли душу крылатой, вылетающей из тела человека вместе с его последним вздохом[52]52
Более систематическое описание можно найти в материалах: Тенишевский архив. 7/1/67, 20.
[Закрыть]. На иконах, изображающих мученичество, душа зачастую предстает более молодой и миниатюрной версией умирающего святого, чье тело она готова покинуть. На распространенном изображении Успения Пресвятой Богородицы душа Девы Марии представлена в виде младенца, покоящегося в оберегающих ее объятиях сына – инверсия классической иконы Богоматери с младенцем. Душа – отличительная примета человеческого существа. У животных души не было, хотя для медведей иногда делалось исключение[53]53
Тенишевский архив. 7/1/26, 2. Вероятно, эта традиция восходит к древним сибирским культам медведя. См.: Forsyth J. A History of the People of Siberia, 1581–1990. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 15–16.
[Закрыть]. Обладание душой свидетельствовало о сопричастности человека божественному, однако это могло быть сомнительной привилегией. Ни один погребальный плач, ни одна крестьянская песня не описывают путешествие души навстречу Страшному суду как увеселительную, приятную прогулку, и исход этого путешествия кажется неизменно предрешенным. Традиционное религиозное стихотворение, песня, которую учили дети и которая исполнялась на похоронах и рядом с могилами, описывает последний плач души.
Ты прости прощай, тело белое,
Тело белое многогрешное.
Как тебе, телу, во сырой земле лежать.
“А меня, душу, на суд зовут,
На суд зовут ко Господу.
Где душам будет разделение:
Душам праведным – мир селения,
А душам грешным – мука вечная,
Мука вечная, бесконечная”.
И пришла душа на восток солнца.
Там стоят раи, и все заперты,
В них сидят души все спасенные,
“А мне, душе, здесь места нет”.
И пошла душа заплакала,
На закат солнца шла рыдаючи,
Там стоят ады, и все отперты,
В них сидят души грешные,
“И мне, душе, тут место есть”,
Пошла душа и застряла там,
Находилась она, намытарствовалась[54]54
Смирнов В. Народные похороны и причитания в Костромском крае. C. 46.
[Закрыть].
В деревне смерть была настолько зримой и настолько привычной – зачастую ее жертвами становились люди молодые, в самом расцвете сил, – что все деревенские жители от мала до велика хотя бы однажды становились ее свидетелем. Даже те, кто никогда в жизни пальцем не дотронулся до настоящего покойника, безусловно, хотя бы раз да играли в смерть. Так, похороны “понарошку” зачастую были одним из элементов празднования в святочные дни. Хотя обычно роль “покойника” исполнял вполне здоровый молодой человек, иногда объектом водевильной ламентации и всеобщего веселья становился самый настоящий покойник[55]55
Ivanits L. J. Russian Folk Belief. P. 6; Ryan W. F. The Bathhouse at Midnight: A Historical Survey of Magic and Divination in Russia. University Park: Penn State University Press, 1999. P. 46.
[Закрыть]. Похоронные ритуалы все еще встречались и на некоторых свадьбах; женщины могли оплакивать символическую “смерть” невесты, покидавшую свою семью ради семьи своего мужа[56]56
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). 361/1/4. II, 118–119. См. также: Kligman G.The Wedding of the Dead: Ritual Poetics and Popular Culture in Transylvania. Berkeley: University of California Press, 1988.
[Закрыть]. Дети так же охотно играли в смерть, как и в дочки-матери, а маленькие девочки помогали пожилым женщинам готовить покойника к похоронам. Девочек к тому же заставляли учиться импровизировать, упражняясь в исполнении похоронного плача. Этот навык упоминался в обсуждении возможного брака: молодая женщина, не обладавшая подобным умением (а понадобись оно ей, времени обучиться ему у нее не было бы), считалась такой же неполноценной, как и та, что не умела прясть или стряпать.
Похоронные плачи были поэзией, музыкой причитания, построенной на тончайших, воздушных повторениях и жестком следовании шаблону. В них всегда воспроизводились определенные слова. К примеру, горе всегда было горьким, умерший сын – храбрым и красивым, а вдовы обречены на безутешное одиночество и тяжкий труд[57]57
Барсов собрал самые разнообразные плачи, чтобы показать, как лежащий в их основании шаблон или формула могут различаться в зависимости от статуса оплакиваемого покойного. Первый приведенный им пример – вдова, оплакивающая мужа. Обуреваемая горечью и одиночеством, обреченная на тяжкий труд, вдова включила в свою ламентацию и молитву к Богу и архангелам с просьбой о помощи. Барсов Е. Причитания северного края. Т. I. C. 1–44.
[Закрыть]. Главная тема плача проходит по тексту через импровизированные строки, которые описывают жизнь покойного от колыбели до могилы – ламентация также выполняла функции некролога – и уточняют положение усопшего в семье, состоявшей из нескольких поколений и множества родственников. Оплакивание могло начаться сразу же после смерти покойного. Погребальные плачи были громкими, довольно зловещими и лишенными гармонии. Церковь официально осуждала эту практику, и обычно единственными спокойными моментами во всем процессе ухода из жизни и погребения умершего были те, которыми руководил священник[58]58
Петр I попытался было запретить надгробные плачи, а православная церковь яростно поносила этот обычай вплоть до XX в. См.: Барсов Е. Причитания северного края. Т. I. C. xi.
[Закрыть].
Слова этих погребальных плачей, а также детские песенки и сказки формировали крестьянские представления о смерти как таковой. Церковь пыталась убедить паству в том, что смерть – друг, а не враг, однако обычай неизменно предписывал бояться смерти и избегать ее. Наименее отталкивающие изображения представляли смерть в виде женщины или ангела в форме человеческого скелета, завернутого в плащ с капюшоном, спустившихся с небес по божьему наставлению, чтобы затребовать себе свои жертвы. Крестьяне верили, что падающие звезды и были теми самыми ангелами, которые в сиянии низвергались с небес в поисках добычи[59]59
Тенишевский архив. 7/1/29, 31.
[Закрыть]. Смерть могла обернуться и птицей, обычно соколом, но также могла принимать темный облик существа, привычного к обитанию в уединении болот и топей, лесов и далеких холмов[60]60
Барсов Е. Причитания северного края. Т. I. C. xi.
[Закрыть]. В песнопениях женщин смерть представала закатом, погасшей звездой, снегом, падающим в огонь, морозом, уничтожившим дерево, водой, расколовшей огромный камень[61]61
Там же. C. x.
[Закрыть]. Другой комплекс образов изображал смерть колесницей, запряженной птицами и лошадьми, а иногда лодкой, которые неизменно увозили душу прочь, туда, где ее ожидал Страшный суд.
Время радости настало,
Я в восторге себя зрю.
Мое сердце встрепетало,
Из очей слез токи лью.
Прощай, мир весь со страстями
И со прелестью, навек,
И со всеми суетами –
Я от вас уже … [слово утрачено]
И за все леса и речки
Я от вас уже удаляюсь,
И сказать могу навеки:
В прелестный мир не возвращусь.
Где согласен, там вселюся,
До кончины буду жить.
Нежель в мире веселиться,
Ум и страсти удалить.
Там пещера темновата,
Заставляет слезы лить,
Что не та царем полата
Может душу веселить.
Место всякаго напитка
Ключевая там вода
Течет быстро без избытка,
А имею навсегда[62]62
“Стих о страннике” был записан в 1996 г. для сборника духовных песен о смерти “Как по морюшку”.
[Закрыть].
Эти ритуалы рассказывают нам о крестьянской жизни и о ценностях крестьян, о том, как простые русские люди понимали факт смерти. Это мир, который вскоре будет вдребезги разрушен переменами, резкими и насильственными. Вначале Первая мировая война, которую имперская Россия вела против Германии, затем революция и, наконец, ожесточенная Гражданская война расколют обособленный мир российского крестьянства, частично уничтожат его сакральные пространства, бросят вызов его богам. Воздействие этих событий, особенно в контексте глубоко переживаемого горя, невозможно осмыслить без представления о том, что именно людям предстояло потерять. Слишком просто было бы предположить, что они каким-то образом вынесли все то, что выпало на их долю, просто потому, что очерствели, окаменели душой. Однако верно и то, что крестьянские ценности также оказали свое влияние на характер насилия в начале XX века. Именно крестьяне были пехотинцами на фронтах каждой войны, которую Россия вела в XX веке; когда они перебирались в города, они, по крайней мере на время, уносили деревню с собой; а внутренние распри и соперничество, бытовавшие в их среде, усугубили жестокость насаждаемой сверху сталинской революции. Крестьянская культура была богата самыми разнообразными ресурсами. Было бы непростительным упрощением сказать, что система сталинских лагерей была создана в деревенском кабаке, но вопрос об истоках этой системы поднимается так часто, что его необходимо исследовать подробнее. В “Архипелаге ГУЛАГ” Солженицын задается вопросом: “Это волчье племя – откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня? Не нашей крови? Нашей”[63]63
Солженицын А. “Архипелаг ГУЛАГ”.
[Закрыть].
В России XIX века смертность была очень высокой, и крестьянские семьи куда чаще, чем представители других сословий, наблюдали смерть вблизи, в том числе и детскую смерть[64]64
Подробнее об этом см. ниже, стр. 78–79.
[Закрыть]. Тела “чистых” покойников не сразу выносились из избы: кто-то из местных деревенских должен был омыть и обрядить умершего, положить тело на стол, потом помочь семье отнести его сначала в церковь, а затем на погост. Мертвые были членами относительно статичного общинного мира, и поэтому нельзя сказать, чтобы они моментально исчезали из памяти без следа. Это не значит, что к смерти относились как к чему-то само собой разумеющемуся – в конце концов, смерть была врагом – или что жизнь обыкновенно стоила дешево. На самом деле смерть могла дать соседям возможность проверить на прочность свою солидарность.
Однако солидарность подразумевает и наличие тех, кого группа исключает из своих рядов. Даже самые базовые ритуалы красноречиво рассказывают об аутсайдерах. Крестьянская жизнь не была идиллией, состоящей из массовых гуляний на залитых солнцем лугах, или сказок, рассказанных возле домашнего очага. Среди бед, одолевавших провинциальную Россию, наиболее остро стояли проблемы нищеты и невежества, которые в сочетании с фундаментальным сопротивлением переменам (особенно если инициатива исходила от реформаторов из города) сформировали мир закрытый, исполненный подозрительности, подчас намеренно слепой. Во всех своих расчетах и размышлениях крестьяне четко проводили границу между “своими” и всеми остальными, чужаками, которых редко наделяли коллективным прозвищем, так ужасна была сама мысль о том, чтобы навлечь на себя их гнев.
Нравственные нормы, регулировавшие взаимоотношения крестьян, отличались немалой жестокостью. К тем, кто в крестьянской среде хоть как-то отклонялся от общепринятых представлений, относились как к прокаженным, само их присутствие грозило погибелью. Практика деревенских самосудов напоминала самые кровавые обычаи европейского Средневековья. Например, женщин, подозреваемых в колдовстве и ворожбе, заживо сжигали в их избах, а воров, особенно конокрадов, как правило, пытали до смерти: методично ломали позвоночник, избивали, выжигали клейма на лицах или отрезали конечности[65]65
Frank S. P. “Popular Justice, Community and Culture, 1870–1900” // The World of the Russian Peasant. P. 146–149.
[Закрыть]. Разделение на “своих” и “чужих” продолжалось и в смерти, и после нее. Предрассудки навсегда исключали из общины тех, кто умер “плохой” смертью: некрещеных или неисповедовавшихся, преступников, самоубийц и тех, кого подозревали в том, что они навлекают несчастье[66]66
Oinas F. J. Essays on Russian Folklore and Mythology. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1984. P. 99; Смирнов В. Народные похороны и причитания в Костромском крае. С. 17; Тенишевский архив. 2/943, 8; Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX – начала XX веков. С. 40.
[Закрыть]. Самоубийц, которых, к слову, было не так уж и много в русской деревне, не полагалось хоронить на кладбище. Считалось, что они были слугами дьявола (поговаривали, что сам черт скачет на самоубийцах по ночам, как на лошади), что их грех навлечет проклятие на всю деревню и что их вечные муки не облегчить молитвами[67]67
Ivanits L. J. Russian Folk Belief. P. 48.
[Закрыть].
А кроме того, в воображении крестьян Россия XIX века кишела вурдалаками. Об их присутствии говорили их козни – русские вампиры не сосали у своих жертв кровь, а предпочитали насылать неурожай, чуму на скот и другие заурядные виды злоключений и напастей. Вурдалака также можно было распознать по состоянию его трупа при эксгумации. Средства борьбы с ними были безжалостны и жестоки. Вплоть до XX века тела таких покойников хоронили, отрубив предварительно голову и конечности, чтобы не дать им выйти из могилы, или крепко связав или переломав им руки и ноги[68]68
Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ). 89/4/121. 9; вышесказанное относится к одной из эксгумаций, проведенных в 1924 г.
[Закрыть]. Некоторых хоронили, вонзив им шипы под язык, другим, перед тем, как зарыть их в землю, в рот или сердце втыкали осиновый кол. “Вампиров” сбрасывали в реки, болота и овраги, а во времена голода или мора их тела выкапывали, чтобы методично искалечить труп или просто перезахоронить его от греха подальше на безопасном расстоянии от деревни и местной церкви[69]69
Подробнее о вампирах см.: Barber P. Vampires, Burial and Death: Folklore and Reality. New Haven; London: Yale University Press, 1988; Oinas F. J. Essays on Russian Folklore and Mythology. P. iii – 23; Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX – начала XX веков. С. 40.
[Закрыть].
Обезображивание покойников или живых нечестивцев после смерти как наказание продолжалось и на том свете. Православные верили – а крестьяне трактовали это именно так, – что душе, которой не слышно молитв благочестивых верующих и тело которой не покоится в освященной земле, не дано спастись от вечных мук. Кроме того, было важно захоронить тело целиком, потому что все то время, пока смертная плоть разлагалась на земле, она оставалось все той же плотью, которой в конце концов в день всеобщего воскрешения из мертвых предстояло вновь одеть душу[70]70
Монах Митрофан. Загробная жизнь. C. 49.
[Закрыть]. Это верование было таким сильным, что святым, чьи тела были повреждены (многие были мумифицированы, но со временем стали очень хрупкими), иногда приделывали протезы конечностей, новые руки и ступни. В силу тех же причин убийцы иногда вырезали своим жертвам глаза и разбивали лица, чтобы помешать им в дальнейшем (то есть перед Божьим судом) свидетельствовать о преступлении или о том, кто его совершил[71]71
Несколько подобных случаев описано в документе: РГАЛИ. 2009/1/159.
[Закрыть]. Эта буквальная реакция на религиозное учение, по мнению Максима Горького, в жестокие годы Гражданской войны помогает понять крестьянскую склонность к зверским методам расправы, среди которых, например, было вспарывание брюха. Горький утверждал, что крестьяне отчасти научились пыточному искусству из средневековых житий святых и мучеников[72]72
Serge V. Memoirs of a Revolutionary 1901–1941. Oxford, 1963. P. 73; Серж (Кибальчич) В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера / Пер. с фр. Ю. В. Гусевой и В. А. Бабинцева. М.: Праксис; Оренбург: Оренбургская книга, 2001. С. 91–92. “Максим Горький ‹…› рассказывал мне о страшных казнях, которые придумывали для «комиссаров» в отдаленных деревнях; например, из разреза в животе медленно извлекали кишки и наматывали их на дерево. Он считал, что традиция таких казней сохранялась благодаря чтению «Златой легенды» [жития святых XIII века]”.
[Закрыть].
Трупы мелких преступников, подозреваемых в кражах лошадей, чудаков и уродцев, людей с различными отклонениями и психическими заболеваниями намеренно и показательно обезображивались для устрашения и в назидание живым. Сообщение из Пензенской губернии, написанное в 1899 году, повествует о судьбе “гермафродита Василия – Вассы”. У ребенка, которого считали девочкой, по мере взросления начали формироваться мужские половые органы. В докладе пояснялось: “Она становилась сильнее, и родители ежедневно избивали ее”. Какое-то время девочка была развлечением для всех местных зевак, в нее тыкали пальцем, ее едва терпели и шептались ей вслед, куда бы она ни шла. В конце концов вся деревня подтолкнула ее к самоубийству. Девушке было семнадцать лет. Ее похоронили в яме в глухом, безлюдном месте, над ее могилой не читали молитв, потому что боялись, что она накличет несчастья – нечистую силу – на остальных жителей деревни[73]73
Тенишевский архив. 7/21619.
[Закрыть].
Эти истории образуют своего рода строительные леса – защищая устную историю, Пол Томпсон вслед за Майклом Андерсоном называл ее “кривобоким, пустым остовом-рамкой”[74]74
Thompson P. The Voice of the Past: Oral History. Oxford, 1988. P. 7; Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М.: Весь мир, 2003. С. 20.
[Закрыть], – но так как мы не можем поговорить с живыми представителями того мира, некоторые ключевые аспекты крестьянской идентичности навсегда останутся для нас неизвестными и непостижимыми. Проблема заключается в том, что неграмотное крестьянское общество так никогда и не было должным образом понято и осмыслено теми внешними исследователями, которые его описывали со стороны, не будучи сами частью этого мира. Горевание по умершему ребенку, например, до сих пор можно интерпретировать по-разному. Этнографы сообщают, что детей хоронили под порогом, что по ним не служили панихиды и что матери должны были перекреститься и пробормотать: “Бог дал, Бог и взял”[75]75
Тенишевский архив. 7/2/1444.
[Закрыть]. Социолог в Москве, которую я спросила об этом обычае, объяснила мне: “Вы должны понимать, что Россия была и до некоторой степени все еще остается устаревшим демографическим режимом. Это означает, что детская смертность не имеет такого уж большого значения и что в действительности смертность как таковая остается высокой. Смерть одного ребенка не имеет значения, потому что детей всегда с избытком. Совсем как в Африке”[76]76
Выступление на конференции, организованной автором в Москве в сотрудничестве с Фондом Макартуров в декабре 1997 г.
[Закрыть].
Все это легко говорить, но тезис, высказанный социологом, не до конца объясняет, почему матерей, потерявших ребенка, предостерегали от того, чтобы давать волю слезам, – из страха ли навредить его отлетающей душе, из страха ли обречь эту душу на страдание по безутешной матери или же из страха, что нечистая сила внезапно похитит жизни еще живых. Нельзя было и выставлять тело ребенка для прощания, потому что слезы пришедших непременно огорчат его и, возможно, навсегда привяжут его душу к земле[77]77
Листова Т. “Похоронно-поминальные обычаи и обряды русских смоленской, псковской и костромской областей, конец XIX–XX вв.” // Похоронно-поминальные обычаи и обряды. М.: ИЭА PAH: Библиотека российского этнографа, 1993. С. 77; Ivanits L. J. Russian Folk Belief. P. 48; Тенишевский архив. 7/1/32, 11–12.
[Закрыть]. Таким образом, этот обычай прочитывается двояко, позволяя нам рассуждать о высокой детской смертности или об относительно низкой (с экономической точки зрения) важности ребенка[78]78
Ariès P. L’Homme devant la mort [Человек перед лицом смерти]. Paris: Le Seuil, 1977. P. 440.
[Закрыть]. Однако все это оставляет нас в полнейшем неведении относительно горя и его частного переживании.
Бедные, полные тревоги женщины часто жалуются состоятельным чужакам на то, как тяжело им растить своих детей. Иногда они даже говорят, что детей у них слишком много и что хорошо было бы отдать хотя бы одного в чужую семью, чтобы легче было прокормить остальных. Маленькие дети, пока не вырастут, не могут продуктивно трудиться, а значит, не вносят заметного вклада в сельскую экономику. То же можно сказать и о пожилых, если они перестали пользоваться уважением, – вот почему некоторые крестьяне пытались сговориться со священником о том, чтобы похоронить своих стариков побыстрее и подешевле, особенно если смерть случалась в разгар сбора урожая[79]79
Тенишевский архив. 7/2/1398, 2–7.
[Закрыть]. Эти общие замечание справедливы, но ни демография, ни обычай, ни даже экономические соображения не способны объяснить иррациональной привязанности матери к данному конкретному ребенку, к первенцу, к “младшенькому”, к везунчику, к самому слабенькому, к тому самому, кого из всех своих детей она надеялась спасти[80]80
В интервью, использованных в последующих главах этой книги, часто встречаются рассказы об “особенных детях”. Среди них, например, брат Анны Тимофеевны Валя, “уникальный ребенок, такой талантливый, такой особенный”. См. Глава 6, c. 220–228.
[Закрыть]. Вот и донесение из Пензенской губернии не говорит нам ровным счетом ничего о том отчаянии, которое втайне, в четырех стенах своего дома, возможно, переживали родители гермафродита Вассы, хмуро толкуя о своей дочери и том проклятии, которое их постигло. Родители и другие родственники самоубийцы обыкновенно умоляли священника разрешить похоронить тело в освященной могиле[81]81
РГИА. 796/171/2594.
[Закрыть]. Безусловно, эта культура содержала в себе предпосылки для проявления необычайной жестокости, особенно когда люди испытывали страх или когда чувствовали, что их обвели вокруг пальца, а иного способа поквитаться с обидчиком или восстановить справедливость у них не было. Однако в этой культуре были и другие ресурсы. Ее дальнейшая траектория отчасти зависела от материальных перспектив и общественного благополучия, от того, сулило ли будущее страх или уверенность и безопасность, репрессии или гражданский мир.
“Что может быть универсальнее смерти? – вопрошают антропологи Ричард Хантингтон и Питер Меткалф. – ‹…› и при этом какой невероятный диапазон реакций она провоцирует ‹…› разнообразие культурных реакций есть мера универсального влияния смерти. Но эту реакцию не назовешь произвольной: она неизменно глубоко осмысленна и выразительна”[82]82
Huntington R., Metcalf P. Celebrations of Death: The Anthropology of Mortuary Ritual. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. P. 1.
[Закрыть]. Российская погребальная культура, безусловно, была отмечена и осмысленностью, и выразительностью. Крестьянский способ обращения со смертью не единственный, бытовавший в царской России, но, несомненно, самый распространенный. Его смысловое наполнение было амбивалентным и противоречивым, но в важности его ритуалов никакой амбивалентности не было. Образы и понятия, которыми пользовались крестьяне, говоря о горе и утрате, показывают взаимосвязанность жизни и смерти, общины, сообщества и места в доиндустриальном дореволюционном мире.
Как бы ни повернулась история, крестьянская культура неминуемо обречена была измениться. Существуют свидетельства того, что к концу XIX столетия эта трансформация уже началась, и процесс продолжился бы, даже если бы не произошла революция. Урбанизация, массовая грамотность, возможность путешествовать, телевидение, появление свободного времени и туризм в любой стране мира наступают на доиндустриальный мир, разъедая его. Однако ключевую роль здесь играет скорость происходящих изменений и то, как именно они происходят: есть ли у представителей различных поколений возможность рассчитывать время, договариваться, налаживать коммуникацию, есть ли у них опция сохранить какой-то аспект прежней культуры лишь до поры до времени, а другой – возможно, навсегда. Именно это и стало наиболее болезненным аспектом революции и того смещения общественных и культурных пластов, которые она за собой повлекла, – намеренного разрушения знакомого духовного мира, набора верований и практик и даже священных мест, куда люди отправлялись (во что бы они ни верили), когда их постигало несчастье или умирал любимый человек. Люсьен Февр писал о предшествующей социальной дислокации: “Жизнь перестала заглядываться на смерть, чтобы узнать свои виды на будущее”[83]83
См.: Thomas K. Religion and the Decline of Magic. London: Weidenfeld and Nicholson 1971. P. 721–722.
[Закрыть]. Однако смерть по-прежнему давала семье возможность горевать и носить траур (даже если семья не знала, как сложить воедино ламентацию прошлого), выжившему – объяснять свое собственное везение, а свидетелям – разбираться со своими тревожными снами.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































