Текст книги "Каменная ночь"
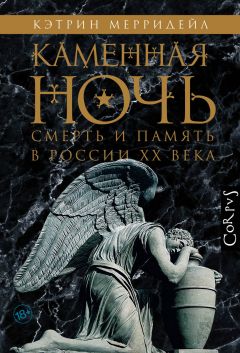
Автор книги: Кэтрин Мерридейл
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Для того чтобы это стало возможным, необходимо достичь коллективного и сознательного единства цели. Работа подразумевала буквальное возвращение к жизни мертвого вещества, повторную сборку из космической пыли частиц, некогда составлявших живые молекулы человеческого тела. Первыми обнаружат эти частицы праха потомки умерших. Федоров не сомневался, что “наука бесконечно малых молекулярных движений, ощутимых только чутким слухом сынов, вооруженных тончайшими органами зрения и слуха, будет разыскивать ‹…› молекулы, входившие в состав существ, отдавших им жизнь. Воды, выносящие из недр земли прах умерших, сделаются послушными совокупной воле сынов и дочерей человеческих и будут действовать под влиянием лучей света, которые не будут уже слепы, как лучи тепла, не будут и холодно-бесчувственны; химические лучи станут способными к выбору, т. е. под их влиянием сродное будет соединяться, а чуждое отделяться. Это значит, что лучи станут орудием совокупной, благой воли сынов человеческих”[233]233
Федоров Н. “Родители и воскресители”, цит. по: Wiles P. “On Physical Immportality”. P. 134–135.
[Закрыть].
Поиск этих разрозненных молекул не может быть ограничен одной небольшой планетой. Космические путешествия становятся насущной необходимостью, потому что космическая пыль, по мнению Федорова, рассеяна по всей Вселенной. Федоров с оптимизмом смотрел на перспективу появления аппарата, приспособленного для полетов в космос, веря, что человечеству будет под силу в скором времени предпринять такой космолет. Он утверждал, что Вселенная предоставит человечеству обширные возможности для колонизации, которая будет осуществлена силами миллионов умерших, воскрешенных к жизни. Федоров объяснял, что воскрешение всего человечества ознаменует собой победу над временем и пространством. Победой над пространством станет покорение Вселенной, в то время как “переход от смерти к жизни, или одновременное сосуществование всего ряда времен (поколений), сосуществование последовательности, есть торжество над временем”[234]234
Федоров Н. Сочинения. М.: Мысль, 1982. С. 572.
[Закрыть]. Мыслитель видел связь между проектом бессмертия и сопутствующими проблемами, такими как генетическая инженерия и продление (до бесконечности) отдельных человеческих жизней. Его теория, возможно, звучит причудливо, но не более, чем концепция всеобщего воскрешения к жизни вечной – ключевой догмат веры, разделяемой миллионами людей. И не менее причудливой, к слову сказать, особенно для тех, кто не привык к утопическим мечтам и фантазиям, может показаться и концепция всеобщего братства или призыв дать “каждому по потребности”.
Большевики и радикалы, перенявшие теории федоровского космизма, избавились от бесполезной и избыточной фигуры Господа Бога. С большевистской точки зрения, сам человек символизирует трансцендентность. Взгляды Ленина на теории такого рода были печально известны после его полемики с Богдановым, поэтому так называемое “богостроительство” – идея замены Бога человеком в рамках божественной, вечной системы – так и не стала частью официальной идеологии[235]235
Богостроительство – этико-философское течение в русском марксизме, одна из первых трактовок марксистской философии в религиозном ключе, основанная на предполагаемом сходстве христианского и марксистского мировоззрений. Среди приверженцев идей богостроительства были Луначарский, Горький, Богданов и др.
[Закрыть].
Однако бывшие “богостроители”, среди которых был и нарком просвещения Анатолий Луначарский, получили влиятельные посты в большевистском правительстве, так что некоторые их идеи вновь зазвучали в дебатах о перспективах строительства нового общества, например, о том, какова вероятность, что это самое новое общество сумеет победить старость, болезни и даже смерть, что стало бы величайшим триумфом науки. Очень многие и в партии, и в обществе в целом предвкушали окончательную победу над смертью. Забавно, учитывая враждебное отношение Ленина ко всем этим идеям, что именно эти прожекты на деле вдохновили Леонида Красина, увлеченного космизмом Федорова члена Комиссии по увековечиванию памяти В. И. Ульянова (Ленина), выступить с инициативой о сохранении тела вождя. В письмах, которые мешками приходили в Кремль после смерти Ленина, люди повторяли ту же мысль, предлагая сохранить бренную оболочку, чтобы однажды наука смогла воскресить вождя к жизни[236]236
Подробнее об этом в главе 5, с. 191–194.
[Закрыть].
Экзотические россказни о бессмертии в материальном смысле слова никогда не владели сознанием и мыслями ленинской элиты. Однако в ее представлении другие типы бессмертия были не только возможны, но и имели жизненно важное значение. Революции 1917 года стоили сотен жизней, и на улицах собирались толпы скорбящих, чтобы оплакать погибших. По крайней мере, в столичных городах, Москве и Петрограде, где царила всеобщая убежденность, что российская история переживает перелом и начало новой эпохи, значение этих смертей не могло быть истолковано никак иначе, чем зловещее, дурное предзнаменование. Ни один политический деятель не имел права упускать такую возможность: это был шанс заявить о том, что умершие отдали жизнь ради высшей цели, превратить их кровь в жертвоприношение, эдакий светский аналог евхаристии.
Каждое действие революционеров, скорбящих о жертвах кровопролития, было задано внешним контекстом. К 1917 году пресса уже три года как искала и находила подходящие слова для того, чтобы оплакивать павших в Первой мировой войне солдат русской армии. Религиозные и политические лидеры пытались найти какой бы то ни было смысл в побоищах на фронте, и большинство сошлось на одном и том же образе искупительной жертвы: патриотизм русских, их простая вера, великий дар, принесенный на алтарь нации. Таким образом, язык жертвенности, жертвоприношения стал повсеместной частью словаря. Поиск смысла, трагического пафоса и даже китча стал частью жизни. Было бы странно игнорировать подобные общественные настроения и отнестись к мученикам революции просто как к мертвым; большевики никогда бы на это не пошли. Однако, подхватив особый язык той эпохи, они также переняли и некоторые содержащиеся в нем религиозные коннотации. Говоря безоценочно, можно также добавить, что большевики опирались и на собственные традиции, выкованные в страданиях иного рода, и черпали символы и образы из глубинных источников народной культуры, наполненной древней поэзией реквиема.
Одной из первых и наиболее впечатляющих публичных церемоний, состоявшихся после падения царизма в феврале 1917 года, стали похороны жертв революции. Общепринятое количество погибших, официальных “жертв февраля” составляло 1382 человека, из которых 869 были присоединившимися к мятежу солдатами, а 237 – рабочими[237]237
Правда. 1917. 25 марта. См. также дипломную работу И. Орлова “Траур и праздник в революционной политике. Церемония 23 марта 1917 г. В Петрограде” (2007), в которой подробно анализируется церемониал этих похорон, превращенных в революционный праздник (http://net.abimperio.net/files/february.pdf), и статью “Марсово поле и траур в политике” (Открытая левая платформа, 7 марта 2015 г. (http://openleft.ru/?p=5683). Орлов, однако, ставит под сомнение как канонизированный советской историографией список “убитых и раненых” из 1382 человек (без указания точного числа тех и других), опубликованный в газете “Правда”, так и данные Центрального регистрационно-справочного бюро Союза городов и объединенного студенчества, сообщающие о “1443 пострадавших, из которых убитых или скончавшихся от ран – 169”, потому что некоторых погибших в начале марта родственники похоронили самостоятельно на родине.
[Закрыть]. Только малая часть всех погибших, 180 человек, будет похоронена в затянутых алой тканью гробах, которые сырым пасмурным мартовским днем колонны демонстрантов пронесли по Невскому проспекту. Остальных забрали из моргов и самостоятельно захоронили родственники. Вероятно, для этих людей возможность воздать своим умершим близким почести “красного” похоронного ритуала быстро перестала быть привлекательной, так как церемония все откладывалась и откладывалась. Скорбящие семьи вряд ли могла утешить та политическая свара, которая развернулась вокруг выбора маршрута, места захоронения и церемониала. В дебатах принимал активное участие Петроградский совет, так как именно этот орган в глазах общества был блюстителем памяти жертв революции, а также видные интеллектуалы радикального толка и Временное правительство, утвердившее проведение гражданской церемонии, но не принимавшее формального участия в ее организации.
Участники обсуждения сразу согласились с тем, что место захоронения должно быть значительным, выразительным, местом паломничества в центре города. О том, чтобы произвести захоронения на одном из уже существующих кладбищ, и речи быть не могло. Для многих очевидным выбором была Дворцовая площадь рядом с Зимним дворцом – просторная, элегантная, возможно, самый великолепный образчик публичного пространства в России, к тому же Дворцовая площадь уже была местом мученической гибели. От превращения в некрополь площадь спасло вмешательство представителей творческой интеллигенции (особенно активную роль в этом деле сыграли А. Н. Бенуа и И. А. Фомин, И. Я. Билибин, Е. Е. Лансере, М. В. Добужинский, К. С. Петров-Водкин, Н. К. Рерих, М. Горький, издатель А. Н. Тихонов), которые направили в Петросовет коллективное письмо, где настаивали на том, что Дворцовая площадь представляет собой бесценное архитектурное сокровище[238]238
Автор целиком и полностью приписывает Максиму Горькому заслугу в деле спасения Дворцовой площади от превращения в некрополь. В действительности же, Горький был одним из 11 авторов письма, направленного архитекторами и художниками в Петросовет с предложением провести захоронение на Казанской площади или Марсовом поле. Лебина Н., Измозик В. Петербург советский. “Новый человек” в старом пространстве. 1920–1930-е годы. Социально-архитектурное микроисторическое исследование. СПб.: Крига, 2010.
[Закрыть]. Альтернативой Дворцовой стали Марсовы поля, расположенные неподалеку, с другой стороны Зимнего дворца. По крайней мере, в тот год этому месту суждено было стать самым престижным революционным кладбищем[239]239
Пирютко Ю., Еремина Л. С. Исторические кладбища Петербурга. С. 49 (о вмешательстве Горького и о выборе места для захоронения). После 1918 г. и переноса столицы в Москву самым престижным местом для захоронения в стране стала Кремлевская стена на Красной площади.
[Закрыть].
Наконец 23 марта похороны состоялись. Церемония, погрузившая целый город в траур, дала повод для глубоких раздумий. Толпы демонстрантов шествовали по Петрограду в долгом молчании. Тысячи людей присоединились к процессии, многие прошагали несколько верст от отдаленных окраин города, неизменно спокойные и дисциплинированные. Здесь были и рабочие в поношенных тужурках рядом с одетыми в меха буржуа, и солдаты и медсестры в форме, и дети, укутанные в теплые пальтишки, шапки и шарфы, чтобы противостоять пронизывающему северному ветру. Процессия растянулась по всему Невскому проспекту и далее, на несколько верст, за железнодорожный вокзал. В ее рядах можно было увидеть самых разнообразных деятелей революционного движения и сочувствующих, а также радикальных активистов. Здесь был не только пролетариат и, конечно, не только большевики. На одном из плакатов, который несли участники шествия, было написано: “ВЫ ДАЛИ СЧАСТЬЕ НАРОДУ! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, ПОКОЙТЕСЬ С МИРОМ”. Пели “Марсельезу” – впервые без вмешательства полиции – и полную версию песни “Вы жертвою пали…”. Однако похороны были не только политическим актом. Когда гробы были наконец открыты и выстроены в ряд вдоль будущей могилы, оказалось, что в некоторые из них снова вложены православные кресты.
В представлении будущих лидеров пролетариата подобная церемония не могла обойтись без надлежащей интерпретации. Ввиду того что Ленин все еще находился в Швейцарии, самым высокопоставленным членом большевистской фракции Петрограда на тот момент оказался Лев Каменев. В день похорон газета “Правда”, которую он возглавлял, призывала читателей: “Не плачьте над трупами павших борцов”, опубликовав полный текст “Реквиема” Лиодора Пальмина на первой странице. Среди других материалов того номера была и статья Александры Коллонтай, в которой автор убеждала скорбящих отбросить сантименты, не задерживаться на переживании горя и сконцентрироваться на действии. Настоящим памятником в честь павших, продолжала Коллонтай, станут не слезы или каменные плиты, а “новая, демократическая Россия”[240]240
Правда. 1917. № 16. 23 марта.
[Закрыть]. Стиль статьи Каменева еще откровеннее заимствовал религиозную образность. Спустя два дня после похорон, 25 марта 1917 года, он писал: “На развалинах старой варварской России возникла новая, свободная Россия. Кровью павших героев Революции смыла она с себя позор старой России! На трупах февральских борцов построила она Дворец Свободы!”[241]241
Там же. Каменев продолжает: “Обнажим головы и поклонимся им, открывшим России путь к свободе! Товарищи! Не все еще сделано для освобождения России, много еще остается сделать. Поклянемся же перед трупами наших товарищей, предаваемых сегодня земле, что мы высоко будем держать поднятое ими знамя революции, что мы с честью донесем его до конца, что мы не пожалеем своей жизни для борьбы за демократию, за социализм!”
[Закрыть]
Будучи большевистским органом, газета “Правда” присвоила в собственных идеологических интересах и длинный список жертв, среди которых были не только те, кто погиб в дни Февральской революции, и провозгласила их мучениками, отдавшими жизнь за общее дело. Каменев объяснял, что раньше не было возможности увековечить память этих людей, и это было очень кстати, так как означало, что их имена можно было назвать сейчас так, как будто бы погибшие стоят за спинами живых членов большевистской фракции. В опубликованном его газетой списке значилось имя Александра Ульянова, брата Ленина, а также имена целого ряда революционеров, включая жертв Кровавого воскресенья, среди которых в действительности практически не было большевиков[242]242
Там же.
[Закрыть]. Подобная манера обращения с реальностью в последующие годы станет обыденным делом в создании генеалогии нового государства, построенного, как это часто случалось в российской истории, на человеческих костях. Очень скоро форма и значение стихийных выплесков эмоций – подлинного горя и ужаса, которые вывели толпы людей на улицы в эти дни страха, вины и тревоги, – будут заданы “сверху”, а сами эти эмоции направлены в нужное русло. Начинал складываться ритуал – государственный церемониал организованного революционного траура.
Мучениками октября стали 238 человек, убитых за десять дней уличных боев в Москве. Местом их погребения была выбрана Кремлевская стена. Как и Дворцовая площадь, это место было светским символом российской государственности, и тот факт, что выбор пал именно на него, означал, что тела убитых будут размещены в символическом и географическом центре нового политического режима. По случаю похорон в городе приостановили работу все фабрики. Толпы людей вышли на улицы, как в феврале это сделали жители Петрограда, и большевистским лидерам не нужно было фальсифицировать общенародное выражение горе – горе этих людей было неподдельным. В то же время октябрьские похороны стали первой церемонией нового типа. Организаторы выпустили специальные входные билеты. На похороны в организованном порядке приехали делегаты из регионов. Присутствовала и пресса. Ораторы, представлявшие новорожденное советское правительство, в своих выступлениях в основном говорили о социализме, международном пролетариате и задачах, которые стояли перед всем миром. На кремлевских башнях трепетали полотнища флагов с лозунгами: “ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА!”, “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧЕСТНЫЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ МИР!”, “ДА ЗДРАВСТВУЕТ БРАТСТВО РАБОЧИХ ВСЕГО МИРА!” В процессии находился и американский журналист Джон Рид. Он писал, что слышал “нечеловеческие крики” шедших за гробами женщин, “молодых, убитых горем или морщинистых старух”. Они рыдали, падали на землю, но их плач тонул в шуме громкоговорителей и маршах объединенных военных оркестров[243]243
Абрамов А. У Кремлевской стены. М.: Государственное издательство политической литературы, 1984. С. 31–36.
[Закрыть].
Почести “красным мученикам” 1917-го продолжали воздавать и в последующие годы. В начале церемонии были неорганизованными и спонтанными. Например, в январе 1918 года, в первую годовщину событий 1905 года, отмечавшуюся в послереволюционной России, 9 января стало днем молчания. Никто не хотел помпы и маршей. Фабрики были закрыты, улицы пусты, люди горевали дома, поминая погибших так, как считали нужным и как могли бы это делать в домашних условиях. В последующие годы появилась некая компенсация в виде праздников в честь нового вида святых[244]244
Подробнее об этом далее, на с. 298–299 и 340–341.
[Закрыть]. Почти сразу же был возведен и заполнен революционный пантеон.
Но кое-чего не хватало. Сравнение с Западной Европой отчетливо показывает, чего именно, хотя, читая исключительно советскую революционную прессу, вы не найдете упоминаний об этом. Конечно, в то время Первая мировая война занимала такую значительную часть общественного сознания, что никто бы и не подумал увидеть в этом проблему. Война была не столько фоном обеих революций, сколько самой сердцевиной того отчаяния, которое вызвало их к жизни. Она сформировала мировоззрение даже революционно настроенных активистов, окрасила их отношение к смерти, дала миллионам их будущих подданных опыт столкновения с насилием и смертью длинной в долгих три года до прихода большевиков к власти, когда ей был положен конец. Она погубила не десятки, а миллионы жизней. Но в силу того, что советский режим после 1917 года не чтил память о Первой мировой войне, она исчезла из большевистского мифа о происхождении советского государства. Едва ли найдется история, более наглядно иллюстрирующая могущество социальной памяти: не существует ни одного советского памятника, посвященного Первой мировой войне[245]245
Люди, которых я спрашивала об этом, вспоминали памятники в западных республиках СССР, а особенно в Галичине, которая вплоть до Второй мировой войны не была частью Советского Союза. Но ни один из моих респондентов не мог вспомнить ни единого сколь бы то ни было крупного памятника национального масштаба в самой России, и сама я тоже такого памятника не видела.
[Закрыть].
Царская империя, будь у нее эта возможность, не преминула бы вписать бойню Первой мировой войны в собственную историческую мифологию. Как и все остальные европейские страны-участницы конфликта, в первые месяцы войны Россия приветствовала ее начало, потому что, казалось, война сплотила нацию, отвлекла внимание населения от стачек и нехваток продовольствия, направив общественную гнев на врагов, которых каждый мог ненавидеть от души. Интеллектуалы правого толка, опасавшиеся упадка российской духовности, тоже праздновали начало войны, и практически каждый крупный литератор посчитал долгом внести свою лепту в нее написанием патриотических колонок в ежедневных газетах. Даже количество самоубийств пошло на спад[246]246
Подробнее о самоубийствах см.: Лейбович Я. 1000 современных самоубийств (социологический очерк). C. 3–4. О патриотизме см.: Figes O. A People’s Tragedy. P. 251–252.
[Закрыть]. Мужчины уходили “умирать за Христа и Святую Русь”, и церковные колокола звонили в честь священного дела[247]247
Сенин А. “Армейское духовенство в Первую мировую войну” // Вопросы истории. 1995. № 10. C. 160–162.
[Закрыть]. В действительности церковь немедленно приняла на себя ответственность и заботу о большей части военных потерь. Армейские капелланы – причем не все из них представляли Православную церковь, на фронте были и католические священники, и раввины, и муллы – взяли на себя написание значительной части писем осиротевшим семьям. Священников неизменно приглашали для того, чтобы те благословили братские могилы, которые, как тогда предполагалось, однажды будут оформлены подобающим образом, превратятся в постоянные захоронения, отмеченные надгробием. На фотографиях священники запечатлены в благословляющем жесте, стоящими в полном церковном облачении около огромных курганов земли выше человеческого роста. Каждый из этих курганов обложен дерном или лапником, в каждый воткнуто по простому деревянному кресту.
Никто из тех, кому довелось воочию увидеть фронт, не стал бы идеализировать его. Российские войска, состоявшие как из профессиональных военных, так и из призывников, вынуждены были противостоять неприятелю в отчаянных условиях. Дело было не в плохой экипировке, по крайней мере не в начале войны, но с экипированностью прусских войск им все равно было не сравниться. В то время как на Западном фронте солдаты могли годами биться за небольшой клочок земли во Фландрии или Пикардии, на Восточном фронте воюющие армии преодолевали равнины и болота Польши и Галиции, огибали Карпатские горы, месили в брод бесконечную грязь вдоль Дуная. Все стороны несли существенные потери, но русские, что характерно, потеряли больше людей, чем все остальные. За первый же год войны правительственное ведомство, отвечавшее за сбор имен погибших, оказалось перегружено работой. Точные цифры потерь так никогда и не станут известны. По различным оценкам, они колеблются между 1,6 и 2 миллионами погибших в боях с 1914 по 1917 год, хотя, как объясняют авторы одного исследования, “это число не включает в себя тех солдат, что были комиссованы с фронта раненными или больными и продолжительность жизни которых сократила война”[248]248
Wheatcroft S. G., Davies R. W. “Population” // The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913–1945 / Ed. by Robert William Davies, Mark Harrison and S. G. Wheatcroft. Camrbidge: Cambridge University Press, 1994. P. 62.
[Закрыть]. Эту цифру можно сравнить с данными о погибших подданных Британской империи, потерявшей за четыре года войны (с 1914 по 1918 год) около 767 тысяч человек, Франции (1383 тысячи погибших) или Германии, которая понесла очень тяжелые потери, ведя войну на два фронта (1 686 тысяч человек). Соединенные Штаты, вступившие в войну позже других стран-участниц и не воевавшие на своей территории, потеряли 81 тысячу человек.
А в это время в тылу, в городах по всей России пресса не просто призывала гражданское население удвоить усилия и трудиться еще упорнее. Она начала формировать то, что применительно к другим странам историк Джордж Мосс назвал “мифом военного опыта”[249]249
Mosse G. L. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World War. Oxford: Oxford University Press, 1990. P. 85–96.
[Закрыть]. В газете “Олонецкая неделя”, выходившей в одноименной северной губернии, статья под названием “Как умирают наши солдаты”, подписанная “офицером действующей армии”, представляла собой смесь религии, патриотизма, описаний смерти и военного китча. Автор писал, что посетил поле недавней битвы, где обнаружил “пример нашего глубоко христианского способа умирать”:
В этих боях я видел пример настоящей глубоко христианской смерти. Я ехал на разведку, когда увидел одного солдатика, лежащего на спине и по всем признакам совершенно безнадежного. Увидевши меня, он сделал неимоверное усилие и поманил меня. Я, несмотря на то, что страшно торопился, остановился, передал лошадь вестовому, подошел к умирающему и наклонился над ним, солдат слабо пробормотал: “Ваше благородие, крестик снимаете с меня, достать не могу”. Несмотря на то, что крест достать было очень трудно, я снял крест и передал ему в руки. Грудь у него вся была раздавлена осколком снаряда и бинты насквозь промокли кровью… Увидев свой крест, он весь затрепетал, взял в левую руку цепочку, а правую – крест и довольно внятно начал читать “Отче наш”. После первых слов голос его начал слабеть и слабеть… и когда я взял его за руку, то пульс уже не бился. Но его рука все еще держала крест, а глаза так и остались устремленными на распятие. Я перекрестился и не мог без слез отойти от этого героя[250]250
Олонецкая неделя. 1914. № 42. С. 6–7.
[Закрыть].
Подобного рода статьи могли послужить великолепным (или скорее, хрестоматийным) пропагандистским материалом, прославляющим “наших храбрых ребят”. В сентиментальной литературе, описывающей смерти и горе Гражданской войны 1918–1921 годов, можно найти отголоски этого образа, правда, уже без крестов и молитв. Еще более сильные отзвуки той же темы проявились во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов[251]251
Подробнее об этом на с. 150–151, 267–270.
[Закрыть]. Однако после 1917-го большевики не использовали Первую мировую войну для пропаганды. Послевоенное отношение Советов к Великой войне резко отличается от того, какую роль эта война играла в западноевропейском общественном сознании. Россия после 1917 года не пережила расцвет антивоенной поэзии, здесь не появилось своих Уилфрида Оуэна или Зигфрида Сассуна, которые могли бы бросить вызов патриотическому дискурсу самопожертвования. Точнее говоря, в России были свои военные поэты, и некоторые из них описывали калечащий ужас войны, другие посвящали стихи набожности и нации, но их работы не стали частью советского литературного канона. В нескольких случаях эти тексты могли быть позже адаптированы для других нужд без всяких объяснений и использоваться в контексте других конфликтов[252]252
Hodgson K. Written with the Bayonet: Soviet Russian Poetry of World War Two. Liverpool: Liverpool University Press, 1996. C. 20–24.
[Закрыть].
Схожая судьба постигла после Первой мировой войны советское искусство. В то время в Европе на руинах 1918 года пышным цветом цвели экспериментальные жанры – дадаизм, сюрреализм, анархические эксперименты с подсознательным. Они бросали вызов старым элитам, маячили знаком вопроса над извечными мечтами о прогрессе и рациональности человека. В советском же официальном искусстве эти направления никогда не играли заметной роли, хотя сюрреалистическое – размытое и неисследованное – было основной чертой частных воспоминаний людей о войне. Напротив, как будто в противовес тому очевидному, что было у всех перед глазами, советский соцреализм в литературе и искусстве вплоть до правления Никиты Хрущева продвигал мысль о том, что освобожденный от угнетения человек в основе своей рационален и добродетелен и что общество возможно усовершенствовать.
Ввиду того что Первая мировая война не стала центральным элементом доминирующего советского нарратива, не стала основополагающим мифом нового государства, наследие войны оставалось неясным, смущало и приводило в замешательство. У каждого были свои воспоминания, миллионы жили с последствиями военного опыта – туберкулезом и осколочными ранениями, потеряв зрение или конечности. Однако в отсутствие публичных норм и моделей частные, личные воспоминания трудно поместить в контекст, особенно когда общество по-прежнему опрокинуто в хаос. Дело не только в отсутствии физических знаков памяти, архитектурного увековечивания войны или в нехватке публичной истории. Коллективная история Первой мировой войны потерялась за время массовых миграций и войны гражданской. Связанные с ней достопримечательности и даже поля сражений были уничтожены, не говоря уже о других формах публичного пространства вроде зданий, улиц, фабрик, церквей, лавок. Семьи были разбиты вдребезги – иногда эмиграцией, иногда безнадежностью, голодом или смертью. Все это означало, что не было и не могло быть “простой истории войны”, “нашей войны”, а вместо этого были миллионы и миллионы разных историй, каждая из которых была такой болезненной, что рассказчик должно быть чувствовал, что его страдание было исключительным, единственным в своем роде.
В месяцы между двумя революциями на Петроградский совет обрушилась лавина писем, свидетельствующих об этой дезориентированности, лишениях, утратах и боли. Десятки тысяч человек просили о помощи в поисках пропавших без вести родственников: “По крайней мере, скажите мне, что их нет в живых, чтобы я мог помолиться за упокой их душ”. Многие умоляли вернуть их сыновей и мужей домой. Уповая на то, что новое демократическое правительство поправит ситуацию, одна женщина писала, что в ее семье “забрали всех”. Другая писала, что грядут нехватки продовольствия и голод, и просила отпустить воинов-мужчин для сельскохозяйственных работ, иначе от голода не спастись[253]253
Это лишь несколько из многих сотен писем, хранящихся в собрании Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), 7384/9/268, май 1917 г.
[Закрыть]. Подобные истории могли однажды стать частью послевоенной государственной мифологии о страдании народа, но у Советской России для этих целей будет свой материал.
Брест-Литовский мирный договор, подписанный в марте 1918 года, ознаменовал собой окончание участия Советской России в европейской капиталистической войне. Условия договора, среди которых была потеря Польши, Украины и балтийских провинций, были для России крайне невыгодны – потерянные территории составляли более трети промышленного потенциала бывшей империи, имели самые плодородные земли и население в 62 миллиона граждан. Однако само по себе поражение не до конца объясняет, почему в последующие годы советское руководство обходило Первую мировую войну молчанием. Германия заработала пропагандистский капитал на расхожем образе “ножа, который в 1918 году вероломно вонзили в спину нации левые мятежники”, и миф об отважных солдатах Первой мировой поддерживал ее в самые тяжелые, унизительные года лишений и невзгод. Для Советской России война оказалась предысторией, катализатором неизбежного, обернувшимся трагедией и напрасными смертями, в которых, как всегда, было повинно самодержавие. Кроме того, сразу после окончания Первой мировой новое государство получит в свое распоряжение миллионы других, более актуальных мертвых тел – тел погибших красных героев Гражданской войны – больше заслуживающих почестей со стороны нового режима.
Цензура не понадобилась, этот эпизод просто обходили вниманием. В 1920-е годы было проведено несколько исторических исследований Первой мировой с точки зрения ее последствий для национального здоровья и экономики, а также стратегии и полководческих навыков высшего командного состава, но сам этот сюжет практически не появлялся в официальных нарративах нового режима[254]254
Историк-марксист Михаил Николаевич Покровский выпустил сборник статей о Первой мировой войне под названием “Империалистическая война: сборник статей, 1915–1927”. (М.; Л.: Государственное издательство, 1927). Более системную библиографию военных и других работ можно найти в: Хмелевский Г. Мировая империалистическая война, 1914–1918 гг. систематический указатель книжной и статейной военно-исторической литературы за 1914–1935 гг. М.: Издание Научно-исследовательского отдела Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, 1936.
[Закрыть]. Могильные курганы, затерянные среди болот и топей в западной части бывшей империи, начали зарастать или осыпаться. Сегодняшние раскопки вряд ли позволят с уверенностью сказать, чьи тела покоятся в этих курганах: солдат Первой мировой, гражданской, Великой Отечественной, партизан, дезертиров или даже немцев, – если только исследователю не попадутся клочки сукна с солдатской формы, пуговицы, кокарды, пули или золотые зубы. В 1997 и 1998 годах я опросила пять групп взрослых людей и сделала около двадцати индивидуальных интервью, попросив своих респондентов назвать три войны в истории России XX века, повлекшие за собой наибольшее число смертей. Почти никто не обмолвился о войне 1914 года. Некоторые даже удивились, когда ее упомянула я: “Ах, эта!” Какой поразительный контраст с британским обществом, в историческом сознании которого по-прежнему важнейшее место занимают так называемое “потерянное поколение”, окопы, грязь и посттравматический синдром, порожденный Первой мировой!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































