Читать книгу "Искусство обольщения"
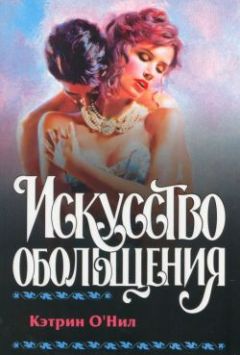
Автор книги: Кэтрин О`Нил
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 6
Мэйсон ехала в карете по бульвару Клиши. В любое другое время она бы наслаждалась роскошью обстановки, предаваясь приятным воспоминаниям о том, что происходило здесь вчера, но сейчас ей было не до этого. Она нервничала, не зная, как сообщить Гаррету правду. И встреча с полицейским еще более усиливала ее нервозность.
За завтраком Лизетта заявила:
– Дюваль что-то знает.
– Ничего он не знает, – запальчиво возразила Мэйсон. – Откуда ему знать?
– Он что-то подозревает, иначе не пришел бы.
– Эта записка. Почему я о ней не подумала? Что мне стоило что-нибудь нацарапать?
– Сыщик – специалист по таким делам. Мелкие детали – вот его конек. Мелочи, о которых обычным людям даже не приходит в голову подумать. Говорят, если он что-то откопает, то держит подозреваемого мертвой хваткой, как бульдог, и ни за что не отпустит.
Мэйсон потеряла аппетит.
– Я уже все поняла, Лизетта, – раздраженно сказала она.
Но Лизетта не унималась. Перегнувшись через стол, она заговорила трагическим шепотом:
– У нас во Франции самое суровое наказание за мошенничество во всей Европе. Джуно знает одного человека, которого Дюваль упрятал в тюрьму на целых десять лет всего лишь за то, что тот обналичил чек на вдовью пенсию матери после того, как она умерла. Всего один чек – и десять лет в тюрьме, представляешь?
Между тем карета остановилась на площади Клиши, возле ипподрома. Гаррет стоял на пороге дома напротив вместе с каким-то господином. Вывеска над входом сообщала, что в здании находилась риелторская контора. Заметив карету, Гаррет извинился перед своим собеседником и поспешил к Мэйсон.
Мэйсон глубоко вздохнула, еще раз прокрутила в голове заготовленную речь, и, когда Гаррет раскрыл перед ней дверь кареты и помог ей выйти, она с места в карьер заявила:
– Мне надо кое-что вам сообщить.
– Какое интересное совпадение. Я тоже имею вам кое-что сообщить. Павильон Мэйсон Колдуэлл. Как вам это нравится?
Гаррет застал ее врасплох.
– Что?
Он прямо дрожал от возбуждения.
– Павильон Мэйсон Колдуэлл на Всемирной выставке.
– Но ее работы были отклонены комитетом.
– Комитет передумает. И, даже если они не передумают, мы можем устроить такой павильон и без одобрения комитета. Представляете: павильон, в котором будут одни лишь картины Мэйсон Колдуэлл.
– Но… Это невозможно.
– Еще как возможно. Курбе сделал это на ярмарке 1855 года, а Мане повторил его опыт в 1867-м. Но наш павильон будет больше и солиднее. Я знаю многих людей в мире искусства, которые могут спонсировать эту акцию. Более того, они будут только счастливы содействовать такому благородному делу. Сегодня утром я уже закинул пару пробных шаров.
– Вы за этим отправились к риелтору? – недоверчиво поинтересовалась Мэйсон.
– Нет, сюда я приехал, чтобы приобрести то здание на Монмартре, где у Мэйсон была студия.
– Вы… купили этот дом? Но зачем?
– Потому что это священная территория. Там должен быть музей. Место, куда могли бы приходить люди, чтобы отдать должное гению художницы.
– Вы шутите!
– Нисколько. Все именно так и будет, если мы с вами предпримем необходимые шаги и станем работать вместе. Я всю ночь об этом думал. Эта мысль пришла ко мне внезапно, меня словно громом поразило, и ничто и никогда меня так не заводило.
– Но… павильон, музей в ее доме… вам не кажется, что это слишком?
– Я уже говорил вам, что ваша сестра – особенная, уникальная.
– Но в Париже много талантливых художников.
– Вы все еще не понимаете, Эми. Дело не только в ее искусстве. Дело в ее жизни. Пойдемте, я попытаюсь вам все объяснить.
Ричард взял ее под руку и повел по широкому бульвару в сторону ипподрома и улицы Коленкур.
– Ричард, я должна вам что-то сказать…
– Подождите. Дайте мне объяснить, пока все еще свежо в моей памяти. Мэйсон работала годами, не продав ни одной картины. Она жила в ужасающей нищете, она голодала, не получая ни одного слова одобрения, одни отказы. И все же она продолжала верить в себя, в свое видение. Ничто не могло заставить ее свернуть с единожды выбранного пути. Ей было наплевать на коммерческий успех, на то, что скажут критики. Она всегда находила в себе силы и средства, чтобы выражать себя в красках на холсте, вопреки всему, невзирая ни на что, день за днем, не прислушиваясь ни к чьему мнению. Она была воплощением честности, чистоты и увлеченности делом. Она действительно была Жанной д'Арк от искусства. Настоящая Жанна д'Арк.
Мэйсон внутренне съежилась. То, что он говорил, было далеко от правды. Она никогда не была настолько бедна. На нее временами нападала лень. Бог видит, насколько она была не уверена в себе. И ей отчаянно хотелось достичь коммерческого успеха и получить похвалу у критиков.
– Но то, что действительно сделало ее жизнь эпически цельной, – продолжал Гаррет, – это ее смерть. Самоубийство. Сердце разрывается при мысли о том, что столь талантливая, столь мужественная личность доходит до этого. И в то же время по законам героического эпоса эта смерть придает истории ее жизни мифическую власть и тот резонанс, который вызовет отклик в душах людей и через сто лет и более. Словно бессознательное «я», жившее в этой гениальной художнице, осознало, что миссия ее на земле исполнена, что сама ее жизнь стала произведением искусства, и самоубийство было необходимо, чтобы придать этому произведению горьковато-нежное, трогательное и грустное звучание.
У Мэйсон упало сердце. По его словам выходило, что самоубийство является неотъемлемой частью всей легенды, причем легенда сама по себе в существенной мере подогревала его интерес к картинам, его восхищение и любовь.
Гаррет вел ее по улице Коленкур.
– Я пытаюсь вам объяснить, Эми, что Мэйсон – новая личность в искусстве. Художник – это всегда изгой, идеалист, герой и мученик. Я верю, что, если мы донесем эту мысль до сознания масс, мы сумеем потрясти мир. Но это случится, только если мы – вы и я – это сделаем. Если мы будем подпитывать легенду. Если мы представим ее работы нужным критикам в нужном свете и с нужными комментариями. Более того, если мы сможем собрать ее работы и показать перед мировой общественностью, перед теми, кто со всего света съедется этим летом в Париж, тогда… мы дадим свершиться чуду. Чудо свершится!
«Господи, как я теперь ему все скажу?» Мэйсон подняла глаза и увидела перед собой ворота, ведущие на кладбище Монмартра. Что им с Ричардом тут делать? Он повел ее по неровной булыжной мостовой. По обеим сторонам возвышались мрачные памятники и склепы. Многие памятники почернели от сажи, кое-какие потрескались от старости и забвения. Дорога привела их к лестнице, и в это время солнце спряталось за тучу и подул ветер, обдав их холодом. Мэйсон поежилась от холода и страха – инфернальная энергетика этого места действовала на нее весьма заметно.
На нижней террасе Гаррет остановился наконец у простого квадратного камня, нового и чистого. Мэйсон в ужасе смотрела на эпитафию.
Покойся с миром,
Мэйсон Колдуэлл
1864–1889
– Это все, что могла позволить себе ее подруга-акробатка, – сказал Гаррет. – Но мне нравится то, что она сделала. Простота, на мой взгляд, гораздо больше подходит Мэйсон, чем все эти вычурные громадины.
Мэйсон словно в трансе уставилась на могильную плиту. Этого она никак не ожидала. Но, разумеется, они должны были где-то похоронить ту бедняжку с моста Альма.
Любой на месте Мэйсон испытал бы потрясение. Отчего-то при виде этой плиты то, что вначале казалось ей быстротечной шалостью, игрой, стало восприниматься как приговор, смертный приговор, окончательный и не подлежащий ни обжалованию, ни пересмотру. Ричард протянул ей руку.
– Вы со мной в этом деле, Эми? Станете моей партнершей? Вы поможете мне подарить Мэйсон бессмертие, которое она заслужила?
Мэйсон покидала кладбище в трансе. Она не приняла руку Ричарда и ничего не стала ему обещать. Онемев от шока, она лишь пробормотала что-то невразумительное, из чего следовало, что ей надо подумать над этим. Расставшись с Ричардом, Мэйсон пустилась бегом прочь с кладбища.
«Наверное, – думала она, – сейчас было самое время сорвать маску. И зря я этого не сделала. Струсила!»
Но как могла она рассказать Гаррету правду после такого откровения с его стороны? Он все равно ее бы не понял. Он упивался трагизмом смерти молодой художницы настолько, что, скажи она ему правду, он был бы возмущен, потрясен, убит совершенным ею подлогом. Правда лишила бы его того, что он считал самым главным в Мэйсон. Ее смерть представлялась ему благородной, эпической, мифической. Похоже, именно смерть художницы привлекала его в ней больше всего.
Теперь Мэйсон стало окончательно ясно, что, как только она расскажет ему правду, он уйдет от нее и никогда не простит.
И она потеряет то, о чем всегда так мечтала.
Но какова альтернатива? Протянуть Ричарду руку навстречу? Стать его партнершей? Остаться Эми Колдуэлл?
Это невозможно… просто невозможно.
Время шло. Мэйсон бродила по городу, пытаясь сделать выбор. Она знала, куда ее тянет, но сопротивлялась желанию. Но постепенно искушение пересилило волю, и она сдалась.
Мэйсон прошла по левобережью до Марсова поля. На территории будущей Всемирной выставки, огороженной канатами, трудились бригады рабочих. Скоро там вырастет целый город с дворцами, фонтанами, ресторанами и прочим. Уже заканчивалось строительство стеклянного купола, венчавшего Дворец машин и художеств, полным ходом шли работы по реконструкции камбоджийской деревни и египетского базара. Все страны мира привезут сюда все лучшее, все, чем они гордятся. Здесь будет все, чтобы удовлетворить самые взыскательные кулинарные, научные и художественные вкусы 32 миллионов гостей выставки… И именно здесь Ричард Гаррет собирался возвести храм, посвященный исключительно искусству Мэйсон Колдуэлл.
Только подумать, как бы прославились Колдуэллы! Какой щелчок по носу всем тем «добрым самаритянам», что заставляли их, Колдуэллов, ходить, уткнувшись взглядом в землю. Как могла она отказаться от такой перспективы? Она обязана была сказать Гаррету «да», хотя бы ради памяти покойной матери. Но хватит ли у нее мужества отказаться от собственного «я»? По своей воле похоронить себя, стать этой несуществующей сестрой и писать тайно, выдавая новые свои работы за откуда-то взявшиеся произведения покойной Мэйсон?
Но сколько это будет продолжаться? Наверняка не пару недель и даже не пару месяцев – она обрекает себя на целую жизнь во лжи!
И еще оставался вопрос с инспектором полиции, с Дювалем. Кто знает, о чем он догадывается? В чем ее подозревает? Если остановиться сейчас, если сделать так, что Эми исчезнет, а Мэйсон воскреснет, то у нее еще есть шанс выйти сухой из воды. Но если мистификация продолжится и если ее в итоге выведут на чистую воду, то… Что по этому поводу говорила Лизетта? Во Франции самые суровые законы против мошенничества в Европе. Десять лет тюрьмы как минимум. Позор. Унижение. Еще больше позора на голову Колдуэллам в Массачусетсе.
Нет, только не это.
Об этом не может быть и речи. Уже одно то, что она не против продолжить опасную игру, – симптом душевной болезни. Безумия! Для того чтобы вести такие игры, надо иметь стальные нервы. И актерский талант Сары Бернар. Но если она этого не сделает… Она потеряет эту чудесную возможность, она упустит шанс, подаренный судьбой, вымоленный у судьбы в ту ночь на мосту. Еще она упустит шанс удержать возле себя того единственного мужчину, который способен заполнить пустоту ее души.
Мэйсон… или Эми?
Немыслимый выбор.
Но… Что, если все же попробовать? Воспользоваться шансом, рискнуть и получить все и сразу. «Судьба бросает тебе вызов?» Ты же всегда хотела приключений. Уже сейчас она чувствовала радостное волнение.
Мэйсон обогнула здание, напоминавшее постройку раннего Средневековья, и вышла к башне. Она никогда не приближалась к этой башне так близко. Издали невозможно оценить весь грандиозный масштаб сооружения. Мэйсон задрала голову – башня словно парила над ней. Самое высокое сооружение в Европе. Пессимисты утверждали, что башня не выдержит напора ветра и свалится еще до того, как завершится ее строительство. Но вот она стоит. Стоит как символ того, что человек способен воплотить в жизнь самую смелую фантазию.
Завтра принц Уэльский торжественно откроет этот новый грандиозный монумент. Ему будет предоставлена честь первому подняться на лифте на вершину. Рядом с башней уже построили трибуну, откуда будут произноситься речи, и откуда королевская свита будет заходить в лифт.
Но это завтра, а сегодня башня принадлежала только ей и никому больше.
Сгущались сумерки. Мэйсон огляделась, дивясь хитроумному переплетению железных балок, изяществом и красотой металлических поперечин, и тут взгляд ее упал на лестницу, идущую зигзагом с северного основания башни как раз за трибуной, занимавшей весь первый уровень. Повинуясь первому побуждению, она подошла к основанию и обнаружила, что доступ к лестничной клетке свободен. С минуту она просто стояла и думала – решится ли?
Мэйсон ступила на лестницу и взглянула наверх. В темноте трудно было что-то разглядеть, но тем загадочнее и интереснее казалось приключение. Почему бы не подняться и не посмотреть?
Мэйсон начала подниматься по железной лестнице. Шаги ее отдавались гулким металлическим эхом. Подъем был довольно крут, но Мэйсон привыкла каждый день подниматься на холм Монмартра, и за пять лет ноги ее достаточно окрепли, чтобы не чувствовать усталости.
Без особых усилий она поднималась выше, еще выше, повторяя зигзаги лестницы. Наконец она оказалась на нижней смотровой площадке. Мэйсон поразилась тому, как высоко забралась. Неужели никому нет до нее дела? Неужели никто не спохватится и не поспешит за ней, преступившей запретную черту?
Она подошла к перилам. Под ней слева был купол Дома инвалидов, еще ниже расстилалось Марсово поле. Уже совсем стемнело, на небе начали зажигаться звезды. Мэйсон чувствовала себя напроказившей девчонкой, и нельзя сказать, чтобы это чувство было так уж ей неприятно. И тут она подумала: «А выше смогу?»
Мэйсон обвела взглядом площадку и увидела вход на лестницу, ведущую на следующий уровень. Эта лестница была винтовой и очень-очень крутой. Ощущая себя еще большей грешницей, Мэйсон начала подъем. Выше, еще выше. Теперь она уже тяжело, сбивчиво дышала, но при этом чувствовала странное удовлетворение. Она потеряла счет времени, когда, наконец, добралась до второго уровня. Мэйсон подошла к перилам и посмотрела вниз, но с этой, еще большей, высоты вид был более впечатляющим. Она никогда не видела ничего такого, от чего бы так захватывало дух. Фонарщики зажгли фонари, и ночной Париж предстал перед ней во всем своем великолепии.
И вдруг Мэйсон поняла, как любит этот город. Двадцать лет назад он еще лежал в руинах после Франко-прусской войны и всех тех потрясений, что за ней последовали. Но этот город восстал из пепла, чтобы вновь назваться столицей мира. И эта выставка должна была стать тому подтверждением, и эта башня являлась зрелищным символом возрождения Парижа. Глаза у Мэйсон защипало от накатившего чувства к этому городу, от гордости за него. Он словно зарядил ее своей энергией, и она чувствовала себя сильной, уверенной в себе и готовой ко всему.
«Почему бы не пройти до конца? Плевать на принца Уэльского. Кому, если не мне, суждено стать первой жительницей планеты, которая поднимется на эту башню?»
И вновь Мэйсон начала подъем. Лестница становилась круче и уже. Мэйсон шла на одной силе воли, подчиняясь ритму собственных шагов, звук которых гулко отдавался в ушах. Вверх, вверх, в самое небо. Икры болели, но Мэйсон было все равно. Холодный ветер продувал насквозь, но Мэйсон казалось, что он лишь поддерживает ее стремления. Ощущения были острыми и волнующими, почти сексуальными. Теперь, даже если бы она захотела остановиться, она бы не смогла себя заставить. Выше, выше, выше…
И вот лестница закончилась. Она была на вершине! 919 футов, 1665 ступеней покорились ей!
Мэйсон облокотилась о перила, пытаясь отдышаться. Воздух жег легкие. Вокруг было черным-черно, но городские огни ковром расстилались у ее ног. От восторга захватывало дух.
И верно, возможно все!
– Мадемуазель! – Мужской голос у нее за спиной здорово напугал Мэйсон. Она оглянулась и увидела бородатого мужчину с фонарем. Он появился из маленькой ниши бельведера. – Что, скажите на милость, вы тут делаете?
Преисполненная чувством собственного достоинства после совершенного восхождения, Мэйсон сказала:
– То же я могу спросить у вас.
– Меня зовут Гюстав Эйфель, и я построил ту башню, на которую вы незаконно забрались. Теперь я повторю вопрос. Кто вы такая?
Итак, кто же она? Время принять решение. Протянув ему руку, она сказала:
– Меня зовут Эми.
Глава 7
Прошла неделя с того памятного вечера, как Мэйсон совершила свой головокружительный подъем на верхнюю площадку Эйфелевой башни. Мэйсон и Ричард в просторном банкетном зале «Лё-Гранд-Отеля» принимали лысеющего полноватого мужчину лет пятидесяти в пенсне на мясистом красном носу.
Ужин состоял из пяти перемен блюд, прекрасных образчиков французской кухни. Их обслуживала целая армия официантов. И сейчас, сытые и довольные, они потягивали кофе с бренди.
В гостях они принимали Стюарта Катбера, парижского корреспондента «Лондон тайме», давнего знакомого Ричарда. Единственной темой разговора была Мэйсон Колдуэлл. Мэйсон, сделав свой выбор тогда, на верхней смотровой площадке только что построенной башни, бросилась в обман, как в омут – с головой. Стараясь не мучиться нравственными проблемами, Мэйсон сосредоточилась на приятных моментах жизни под чужим именем. Ей нравилась окружающая ее роскошь, вечерние дорогие наряды и то, с какой полнотой отдавался Ричард созданию культа трагически погибшей художницы.
За прошедшую неделю Мэйсон и Ричард встречались нечасто и лишь для того, чтобы обсудить планы дальнейших действий. Ричард был занят тем, что убеждал упрямых членов комитета выставки и прочих чиновников из муниципалитета разрешить персональную выставку доселе неизвестной американской художницы (да, она была не просто неизвестной, но при этом иностранкой и, что самое ужасное, женщиной) на территории выставки. За всей этой суетой ни на что личное просто не оставалось времени. И вот, наконец, Мэйсон представилась возможность побыть с ним рядом, когда он никуда не торопился и находился в состоянии приятной расслабленности.
За ужином говорил в основном Ричард, подбрасывая журналисту ровно столько пикантных подробностей, сколько необходимо, чтобы статья хорошо продавалась. Но теперь чутье опытного переговорщика подсказывало Гаррету, что пора отдохнуть и дать высказаться своему визави.
Катбер глотнул кофе.
– Вы не упомянули один существенный момент – свалку в галерее.
Ричард поднял бокал с бренди, любуясь золотистым содержимым на просвет.
– Ах, вы про это, – с небрежной медлительностью произнес он. – Я подумал, что вы довольно начитались о том случае в местной прессе. Люди, кажется, потеряли головы. Приятного в том происшествии мало, но, судя по тому, что творилось с публикой, у картин Мэйсон нашлось немало фанатичных почитателей. Хотя я на вашем месте не стал бы заострять в своей статье внимание на том эпизоде.
Катбер посмотрел на Ричарда с той неприязнью, с которой профессионал смотрит на постороннего, смеющего давать ему советы относительно профессиональной деятельности.
– А на чем мне следует заострить внимание в своей статье? – язвительно поинтересовался он.
– На том, о чем я вам рассказывал. На ее творчестве и подвижничестве. Вы знаете, как ее стали называть? Жанной д'Арк.
Журналист сделал запись в своем блокноте, но при этом с сомнением покачал головой:
– Не знаю, Ричард. Каждый год случается что-то подобное: всплывает новое имя, вокруг него начинается ажиотаж, но проходит месяцев шесть, и никто больше и не вспоминает о «восходящей звезде». Откуда нам знать, удержится ли эта звезда на небосклоне?
– Ты знаешь меня не первый год, старина. Ты слышал, чтобы я так хоть о ком-нибудь говорил? Я абсолютно уверен в том, что Мэйсон – гениальная художница. Я бы поставил на ее картины собственную репутацию, и сделал бы это не раздумывая. Но здесь мы имеем дело не только с картинами экстра-класса, тут еще и целая жизнь, похожая на прекрасную и печальную сагу. Два в одном, так сказать.
Катбер обратился к Мэйсон:
– Как вы думаете, почему ваша сестра покончила с собой?
Ричард ответил за Мэйсон:
– Я думаю, она достигла предельной полноты выражения себя в искусстве. Дошла до конца. И дальше идти было некуда. Самоубийство было осознанным актом самопожертвования. Утверждением, что в этом жестоком мире нет места чувствительным и ранимым. Единственное возможное завершение жизни для той, что жила исключительно ради художественного самовыражения.
Катбер кое-что записал и снова обратился к Мэйсон:
– Мисс Колдуэлл, что вы могли бы рассказать о вашей семье?
Мэйсон была готова к этому вопросу. Но тема не перестала от этого быть особенно неприятной. Семейная рана все еще болела и кровоточила, и распространяться на эту тему она не хотела и не могла. Мэйсон решила ограничиться полуправдой:
– Собственно, рассказывать почти не о чем. Мой отец пал жертвой Гражданской войны. Мама оставила после себя небольшое наследство, на которое мы и жили. Пять лет назад, когда мама умерла, мы с Мэйсон разделили материнское наследство. Она уехала в Париж, взяв себе половину, а я осталась жить в Америке.
– Вы были близки с сестрой?
– Да, были в юности. Но интересы у нас всегда были разными. После того как Мэйсон уехала в Париж, мы фактически потеряли связь друг с другом. Однако примерно год назад она написала мне, попросив сохранить у себя несколько ее картин.
– Как вы думаете, что подвигло вашу сестру на то, чтобы посвятить себя искусству? Что явилось побудительной причиной к такому фанатичному стремлению к самовыражению?
Вопрос оказался глубже, чем она ожидала. Мэйсон взглянула на Ричарда и увидела, что он тоже с интересом ждет ответа.
– Наша мама была художницей-любительницей. Она рисовала главным образом пейзажи. Ей хотелось привнести в этот мир больше красоты. Но ее желание так и осталось неисполненным. Никто не понимал маму. Наш отец не одобрял ее увлечения и считал, что она попусту тратит время. Ее считали странной. Соседи смотрели на нее искоса, чурались ее, и в конечном итоге это надорвало ее сердце. – В голосе Мэйсон слышался надлом. Она успела пожалеть о своей откровенности и потому, переведя дух, быстро закончила: – Полагаю, Мэйсон хотела сделать то, что не удалось ее матери, воплотить в жизнь ее устремления.
Мэйсон замолчала, надеясь, что следующий вопрос уведет их от опасной темы, но Катбер сказал:
– Тогда центральной фигурой в работах Мэйсон является ее мать, а фон символизирует те косные силы, что делали вашу мать изгоем.
– Наверное, – сказала Мэйсон. Она чувствовала себя не в своей тарелке.
Катбер подумал немного и покачал головой:
– Ваши доводы убедительны, но вопрос не меняется: останется ли Мэйсон Колдуэлл в анналах истории или лишь промелькнет и исчезнет, как солнечный зайчик?
– Но вы и сами видите, – хриплым от избытка чувств голосом заговорил Ричард. – История Мэйсон Колдуэлл не может не затрагивать самые тонкие струны человеческой души. В попытке продолжить дело матери, в попытке доказать справедливость ее притязаний она сама навлекла на себя остракизм и унижение. Она стала мученицей сродни первым апологетам Христа. И в конечном итоге на ее долю выпало больше страданий, чем на долю ее матери. Мы все чувствуем силу ее жертвенности. Кто из нас в свое время не впадал в отчаяние, страдая от непонимания тех, кто нас окружает? Кто из нас не знает, что такое оказаться один на один с враждебным миром, когда идти не к кому, когда никому нет дела до твоих горестей? Когда тебя никто не любит, когда рядом нет никого, чей голос мог бы тебя поддержать? Когда никто не произнесет таких нужных и таких простых слов, как «я тебя понимаю»? Любой, кто посмотрит на ее картины, увидит в них одиночество и боль сродни его собственным. О, в этих картинах есть нечто большее: это та сила, что способна трансформировать одиночество и боль отдельного человека в великую силу искусства. Ни один художник нашего века не имеет достаточного потенциала, чтобы оказывать такое воздействие на человеческую душу.
За столом воцарилась тишина.
Заерзав на стуле, журналист деликатно откашлялся и спросил:
– Так каковы конкретно ваши планы по представлению картин?
Ричард закинул руку за спинку своего стула. Вновь в его манерах появилась обычная непринужденность.
– Если остановиться на главном, то мы надеемся взять те восемнадцать картин, что сейчас находятся в галерее Фальконе, и добавить к ним примерно дюжину тех, что Эми хранит у себя в Штатах. Есть еще несколько картин, которые Мэйсон раздала или выменяла на еду за те годы, что жила в Париже. Эти картины мы тоже попытаемся раздобыть. Таким образом, мы хотим собрать все картины Мэйсон Колдуэлл вместе, в одной коллекции, и представить их на выставке в одном павильоне. Естественно, это займет некоторое время. Чиновники от комитета чинят препятствия. Но я уверен, что мы добьемся своего. И, зная силу убеждения ваших слов, я уверен в том, что ваша статья поможет их переубедить.
Катбер засмеялся:
– Но выставка открывается через месяц. Как вы сможете за столь короткий срок раздобыть картины и построить павильон?
– К открытию мы, конечно, не успеем. Но выставка продлится несколько месяцев, и настоящее, сакральное открытие выставки состоится не раньше 14 июля. Тогда, в столетнюю годовщину Республики, когда весь Париж будет праздновать, когда состоится театрализованное представление со взятием Бастилии, гулянья и фейерверки, вот тогда все и начнется всерьез. А мы постараемся успеть все закончить незадолго до главного юбилея Франции, скажем 21 июня.
– Допустим. А потом? Потом куда уйдут картины?
– Это решать Эми. Картины принадлежат ей. Я надеюсь, что картины не разойдутся по частным коллекциям, не попадут в руки спекулянтов, но станут достоянием той организации, которая сможет достойно ими распорядиться, показать их миру.
– Как насчет правительства Франции? Вы, полагаю, знаете, что французские законы обязывают музеи действовать так, чтобы лучшие произведения французских мастеров оставались в стране, перекупая их у иностранных коллекционеров.
– Я знаю. Но даже если эти картины были созданы во Франции, они принадлежат кисти художницы-американки.
– Это так, но французы довольно странный народ. У них на этот счет может быть иное мнение.
Мэйсон никогда о таком не слышала.
– Вы хотите сказать, что даже если кто-то купит картину, французское правительство может выдвинуть встречное предложение и оставить картину у себя?
– Только если картина написана французом, – заверил ее Ричард. – Я не знаю случаев, когда Франция присваивала бы картины американских художников, даже если они долгое время жили во Франции.
Официант принес счет, и Ричард подписал чек. Катбер между тем сделал еще несколько записей в блокноте и улыбнулся:
– Должен признаться, Ричард, это будет статья что надо.
– Я так и подумал. Естественно, я хотел, чтобы вы услышали ее первым. Как ты думаешь, старина, когда она выйдет в свет?
– Не могу сказать. Надо посмотреть, что скажут мои лондонские редакторы. – Катбер обернулся к Мэйсон. – Приятно было познакомиться с вами, мисс Колдуэлл. Я должен сказать, что вы представляете свою сестру весьма элегантно.
– Еще бы! – сияя от гордости, подтвердил Ричард.
Мэйсон стояла в фойе, наблюдая за тем, как Ричард провожает Катбера. Ее всю трясло. Она жалела о том, что рассказала о матери. Теперь она чувствовала себя еще более уязвимой. Могла ли она обойти острые углы? Наверное, да. Но вопрос Катбера словно приоткрыл шлюзы в ее душе, и она не смогла не поделиться своими переживаниями, своей болью. Мэйсон обхватила себя руками, чтобы унять дрожь. Надо успокоиться как можно быстрее. Чтобы Ричард, вернувшись, ничего не заметил. Если он увидит ее такой, он станет задавать вопросы, на которые она не хотела и не могла отвечать.
Но Ричард уже шел к ней с победной улыбкой на устах. Взяв ее руками за плечи, он сказал:
– Ты была великолепна.
– В самом деле?
– Ты дала ему и мне именно то, что нам было нужно.
Мэйсон избегала встречаться с Гарретом глазами, не могла видеть сиявшую в них гордость.
– Ты говорил о Мэйсон так, словно она святая.
– А разве это не так?
Мэйсон с трудом проглотила комок в горле.
– Я не думаю, что ей понравилось бы, чтобы ее считали святой.
– Вот именно поэтому она святая. Вот что делает настоящих подвижников мучениками. Их скромность. В любом случае вечер удался на славу. Из нас получилась отличная команда, из тебя и меня.
Мэйсон подняла глаза, увидела во взгляде Ричарда искру желания и поняла, что сам процесс манипулирования Катбером его возбудил.
– Ты дрожишь.
Она не осознавала, что ее все еще трясет.
– Я замерзла, – солгала Мэйсон. Ричард сжал ее плечи.
– Давай поднимемся ко мне в номер, – предложил он, многообещающе понизив голос. – Я тебя согрею.
И внезапно Мэйсон захотелось, чтобы ее обняли, успокоили, полюбили. Чтобы зияющая пустота в ее душе заполнилась теплом его признательности, его понимания.
Мэйсон кивнула и отправилась вместе с Гарретом к лифту. В лифте он взял в руки ее ладонь и нежно провел по ней пальцем.
Тело Мэйсон мгновенно ожило. И внезапно она почувствовала, что более не в силах ждать. Воспоминание о страстном соитии в экипаже нахлынуло, взбудоражило, и чувство ноющей пустоты в душе вдруг трансформировалось в нестерпимое желание плоти. Ричард увидел вспышку страсти в ее глазах и наклонился к Мэйсон, губы его остановились в дюйме от ее губ. Он не стал ее целовать, и это заставляло ее желать его еще сильнее. Его близость, чистый мужской аромат возбуждали ее, предвкушение разлилось по телу живым теплом.
Ричард взял руку Мэйсон и прошептал:
– Не могу дождаться… Хочу обнять тебя.
И шепот его был как музыка для ее души. Теперь и Мэйсон не могла дождаться… Гудение лифта действовало ей на нервы. Слишком медленно… слишком медленно.
Наконец лифт остановился. Держась за руки, они побежали по пустому коридору. Глаз не фокусировался на предметах, мелькали цвета: красный, черный, золотой и зеленый толстого ковра у них под ногами, изумруд стен. Отсветы полировки красного дерева дверей в тот момент, когда Гаррет поворачивал ключ в замке. Приглушенный золотистый громадной сумрачной гостиной, освещенной единственной лампой. Эта комната была больше, чем весь ее номер, и роскошная обстановка эпохи Второй империи была достойна того, чтобы здесь жили короли или принцы.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































