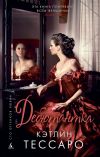Текст книги "Дочь часовых дел мастера"

Автор книги: Кейт Мортон
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Часть вторая
Особые люди

V
Долгое время, до того как Ассоциация историков искусства открыла здесь музей и до того как появился нынешний гость, в доме никто не жил. Приходилось лишь изредка довольствоваться компанией ребятишек, которые в будние дни прибегали сюда и забирались в окна первого этажа, чтобы показать своим друзьям, какие они храбрые. Иногда я им подыгрывала, если была в духе: громко хлопала дверью или скрипела окном, – и тогда они с визгом, толкаясь и мешая друг другу, бросались наутек.
Я давно уже соскучилась по настоящему жильцу. За прошедший век здесь побывало не много людей и еще меньше – тех, к кому я привязалась, но были среди них и такие вот, особые. А теперь я вынуждена каждую неделю терпеть наплыв разных зазнаек и чинуш, да еще выслушивать, как они бесцеремонно препарируют мое прошлое. Туристы, те, наоборот, чаще говорят об Эдварде, только называют его то «Рэдклифф», то «Эдвард Джулиус Рэдклифф», словно какого-то старого зануду. Люди забывают, сколько ему было лет, когда он жил в этом доме. Он едва отпраздновал свой двадцать второй день рождения, когда мы решили смыться из Лондона. А эти так серьезно и глубокомысленно разглагольствуют об искусстве, глядят в окна и, показывая на реку, добавляют:
– Вот тот вид, который вдохновил его на пейзажи верховий Темзы.
Фанни тоже интересует многих. Она стала настоящей трагической героиней – вот уж во что не поверил бы ни один человек, знавший ее при жизни. Люди все время ломают голову над тем, где произошло «это». В газетах о случившемся писали туманно, отчеты противоречили друг другу; и хотя в доме в тот день было немало людей, никто из них так и не рассказал ничего конкретного, и все подробности канули в Лету. Сама я ничего не видела – меня в тот момент не было в комнатах, – но гораздо позднее, по какому-то капризу судьбы, смогла прочитать полицейские отчеты. Один из моих прежних жильцов, Леонард, где-то раздобыл хорошие, контрастные копии, за чтением которых мы с ним провели не один тихий вечер. Правда, все в них оказалось чистой воды выдумкой, но так уж тогда делались дела. А может быть, и сейчас не лучше.
Портрет Фанни работы Эдварда, тот самый, где она изображена в зеленом бархатном платье и с изумрудом в форме сердца на фоне глубокого бледного декольте, привезли сюда, когда ассоциация надумала пускать в дом туристов. Теперь он висит на стене в спальне второго этажа, как раз напротив окна, за которым видны сад и тропинка, ведущая к сельскому кладбищу. Иногда я думаю: интересно, что сказала бы об этом сама Фанни? Она была такой впечатлительной и совсем не хотела жить в спальне, окно которой глядело чуть ли не прямо на могилы.
– Это всего лишь сон, только другой, вот и все, – так и слышу я голос Эдварда, который пытается ее успокоить. – Просто мертвые спят очень долго.
Иногда туристы подолгу стоят перед портретом Фанни, сравнивая его с картинкой в путеводителе. Некоторые говорят, что, мол, она была красивой и богатой и надо же, прожила так мало; другие ломают голову над тем, что здесь тогда произошло. Но чаще всего люди просто качают головами да вздыхают, довольные; в конце концов, недаром размышления над чужой бедой испокон веку были любимым развлечением человечества. Вот и они без конца перемалывают одно и то же: отец Фанни и его деньги, ее жених и его разбитое сердце, письмо, которое она получила от Торстона Холмса за неделю до смерти. Мне это понятно: стать жертвой убийства – значит обрести бессмертие. (Правило распространяется на всех, кроме круглых сирот в возрасте десяти лет, живущих на Литл-Уайт-Лайон-стрит – в их случае стать жертвой убийства означает просто перестать существовать.)
Ну и конечно, туристы много говорят о «Синем Рэдклиффе». Иные прямо до хрипоты спорят о том, куда он мог деться.
– Вещи не исчезают просто так, – приговаривают они значительно, вытаращив глаза.
Иногда говорят и обо мне. За это мне следует поблагодарить Леонарда, моего молодого солдата, ведь это он написал книгу, где первым назвал меня возлюбленной Эдварда. До него я была всего лишь натурщицей. Книгу тоже можно купить здесь, в магазине подарков. Иногда я вижу его бледное лицо, которое смотрит на меня с оборота обложки, и тогда вспоминаю, как он жил в этом доме и как ночами громко звал «Томми».
Туристы, которые ходят здесь по субботам – руки сложены за спиной, на лице заученное выражение самодовольного всезнайства, – называют меня «Лили Миллингтон», что вполне понятно, учитывая, как все вышло. Некоторые спрашивают, откуда я взялась, куда исчезла и кто я вообще была такая. Такие мне нравятся, хотя все, что они думают обо мне, неверно. Все равно приятно, когда на тебя обращают внимание.
Каждый раз, когда незнакомый человек произносит при мне «Лили Миллингтон», я вздрагиваю от удивления. Сколько раз я пыталась нашептать им на ухо мое настоящее имя, но слышали меня лишь двое – в том числе мой маленький друг с красивой челкой, которая лезла в глаза. Ничего странного: дети вообще восприимчивее взрослых, причем во всех смыслах.
Миссис Мак часто говорила: меньше слушай, что болтают вокруг, не узнаешь о себе дурного. Немало она говорила разного, но тут оказалась права. Меня запомнили как воровку. Самозванку. Нахалку, которая вылезла из грязи и даже целомудрие не сохранила.
Так оно и было, в одни годы больше, в другие меньше, а когда и похуже случалось. Но в одном они обвиняют меня напрасно. Я не убийца. Не я сделала тот выстрел, от которого погибла Фанни Браун.
Мой нынешний гость здесь уже полторы недели. В субботу он смылся из дому с утра пораньше и не появлялся весь день – до чего же я ему завидовала, как бы мне хотелось сделать то же самое, – после чего еще несколько дней все шло как по заведенному. Я уже стала думать, что так и не выясню, зачем он здесь, он ведь не болтлив, не то что иные до него: он никогда не оставляет на столе бумаг, в которых я могла бы подглядеть ответы, и не радует меня долгими содержательными разговорами.
И вот наконец сегодня он поговорил по телефону. Так я узнала, зачем он здесь. А еще я узнала его имя. Его зовут Джек – Джек Роулендс.
Целый день он, как всегда, провел на улице – ушел куда-то с утра, как обычно, с лопатой и фотоаппаратом. А когда вернулся, я сразу поняла: что-то изменилось. Во-первых, он отнес лопату к старому сараю, где есть уличный кран с водой, и начисто ее вымыл. Видимо, копать больше не будет.
Да и его самого как подменили. Движения стали свободнее, размашистее, будто он принял какое-то решение. Войдя в дом, он даже приготовил рыбу на ужин, что на него совсем не похоже: до сих пор он ел только суп из банок.
Все это заставило меня насторожиться. Наверное, он закончил то дело, ради которого сюда приехал, сразу подумала я. И тут, словно подтверждая мою догадку, раздался тот самый звонок.
Джек, видимо, его ждал. Он еще за ужином пару раз взглядывал на телефон, точно проверял время, а отвечая, точно знал, кто на том конце.
Я уже забеспокоилась, что это Сара хочет отменить завтрашний ланч, но нет; это оказалась другая женщина, некая Розалинд Уилер, она звонила из Сиднея, и их разговор не имел никакого отношения к тем двум малышкам с фотографии, которую разглядывал Джек.
Я сидела на скамье в кухне и слушала их беседу, как вдруг он произнес имя, которое я давно и хорошо знала.
Сначала разговор представлял собой неловкий обмен вымученными любезностями, но потом Джек, который, вообще-то, не мастер ходить вокруг да около, сказал:
– Послушайте, мне неприятно вас разочаровывать. Но я десять дней подряд проверял все места из вашего списка. Камня здесь нет.
Есть лишь один камень, о котором вспоминают люди, когда говорят об Эдварде и его семье, вот почему я сразу поняла, что именно он ищет. Признаюсь, поначалу я даже была немного разочарована. Как это предсказуемо. Но, с другой стороны, люди вообще предсказуемы, просто одни больше, а другие меньше. Тут уж ничего не поделаешь. Да и кто я такая, чтобы осуждать охотника за сокровищами?
Но тут мне стало интересно, почему Джек решил искать «Синий Рэдклифф» именно здесь, в Берчвуде. Из разговоров туристов я знала, что о пропавшем бриллианте по-прежнему помнят, больше того, вокруг его исчезновения сложилась целая легенда, но Джек первым додумался приехать за ним сюда. С тех пор как в газетах были опубликованы первые репортажи об этом деле, общественное мнение склонялось к тому, что драгоценность увезли в Америку в 1862-м, где ее след затерялся. Леонард зашел дальше многих, высказав предположение, что камень вынесла из этого дома именно я. Конечно, он был не прав, и я уверена, что в глубине души он и сам знал это. Его сбили с толку отчеты полиции – после смерти Фанни полицейские опрашивали всех и каждого, но с предубеждением, и оттого получали неверные ответы, которые толковали вкривь и вкось. Но все же мне было обидно. Я-то думала, что мы с ним поняли друг друга, я и Леонард.
И вот в Берчвуд явился Джек, посланец какой-то миссис Уилер, чтобы искать здесь «Синий Рэдклифф»; заинтригованная, я погрузилась в задумчивость, из которой меня вывели следующие слова:
– Вы как будто хотите, чтобы я пробрался в дом.
Все прочее тут же вылетело у меня из головы.
– Я знаю, как это для вас важно, – продолжал он, – но в дом я не полезу. Люди, которые тут всем заправляют, совершенно ясно дали мне понять, что я пребываю здесь на известных условиях.
Я так боялась что-нибудь пропустить, что, сама не заметив, подвинулась слишком близко к Джеку. Он вздрогнул, встал и пошел закрывать окно, наверное думая, что это сквозняк; телефон он положил на стол, но, должно быть, нажал какую-то кнопку, потому что я вдруг услышала вторую половину разговора. Женщина – судя по голосу, немолодая – говорила с американским акцентом:
– Мистер Роулендс, я заплатила вам, чтобы вы сделали определенную работу.
– И я проверил все места из вашего списка: лес, излучину реки, поляну на холме – все, о чем Ада Лавгроув писала родителям.
Ада Лавгроув.
Сколько лет прошло с тех пор, как я в последний раз слышала это имя; признаюсь, я даже расчувствовалась. Кто же эта женщина на том конце? Американка, которая звонит из Сиднея. И как к ней попали старые письма Ады Лав-гроув?
Джек повторяет:
– Камня нигде нет. Мне очень жаль.
– При нашей личной встрече, мистер Роулендс, я выразилась предельно ясно: если поиск в указанных местах не принесет результатов, задействуйте план «Б».
– Вы ничего не говорили о вторжении в музей.
– Это очень важно для меня. Как вы знаете, я бы полетела сама, если бы мое физическое состояние не исключало такую возможность.
– Послушайте, мне страшно жаль, но…
– Уверена, мне незачем напоминать, что вторую половину гонорара вы получите лишь в том случае, если обеспечите результат.
– И все-таки…
– Дальнейших указаний ждите по электронной почте.
– А я говорю вам, что схожу в дом в субботу, когда там открыто для публики, и посмотрю, что к чему. Не раньше.
Она повесила трубку, явно недовольная разговором, но Джека это, похоже, не тронуло. Надо же, какой он, оказывается, невозмутимый. Прекрасное качество, только мне почему-то сразу захотелось его позлить. Ну так, самую малость. Боюсь, что со временем у меня испортился характер; а все от того, что я слишком давно вожу компанию со скукой и ее близкой подружкой – хандрой. Ну и наверное, Эдвард отчасти тоже виноват: для него несдержанность в проявлениях эмоций всегда была равносильна красоте духа, причем он так страстно отстаивал свою точку зрения, что не поддаться его очарованию было просто невозможно.
Взволновал меня этот звонок, растревожил не на шутку. Джек достал фотоаппарат и начал переносить снимки в компьютер, а я отправилась в свой любимый теплый уголок дома, туда, где лестница делает поворот, чтобы посидеть там и все хорошо обдумать.
С одной стороны, причина моего беспокойства ясна. При мне упомянули имя Ады Лавгроув, которого я не слышала уже много лет, вот я и удивилась. Столько воспоминаний нахлынуло сразу, столько вопросов – и ни одного ответа. В том, что имя Ады связывают с «Синим», есть логика; но почему именно сейчас? Почему через сто лет после того, как подошел к концу недолгий срок ее пребывания в этом доме?
Однако у моего беспокойства была и другая подоплека. Не столь очевидная. И более личная. Никак не связанная с Адой. Зато имевшая отношение к упорному нежеланию Джека сделать то, на чем настаивала эта миссис Уилер. Нет, сама миссис Уилер тут совершенно ни при чем, просто я пришла в смятение от того, что поняла: Джек закончил дело, которое привело его сюда. Оно никак не связано с двумя малышками на фотографии, к которым он проявляет постоянный интерес, а значит, он скоро уедет.
А я не хочу, чтобы он уезжал.
И даже наоборот: я очень-очень хочу, чтобы он остался; хочу, чтобы он вошел в мой дом. И не в субботу, вместе со всеми, а сам по себе, один.
В конце концов, это мой дом, а не их. Больше того, это мой единственный настоящий дом. Я, конечно, терплю их здесь, но лишь ради Эдварда, в память о котором они здесь все затеяли; он был достоин столь многого, а получил так мало. Но все равно, дом мой, и я буду принимать в нем кого захочу.
К тому же у меня так давно не было гостя, настоящего, моего собственного.
Тогда я встала и пришла сюда, в старую пивоварню, где мы с Джеком так и сидим вдвоем: он молча разглядывает снимки на экране компьютера, а я также молча разглядываю его.
Он переводит глаза с одного изображения на другое, а я внимательно слежу за его лицом, пытаясь уловить в нем малейшие перемены. Но все спокойно; никаких перемен нет. Я слышу, как в доме тикают мои часы: те самые, которые Эдвард подарил мне перед нашим приездом сюда, в то лето.
– Сколько бы времени ни отмерили эти часы, знай, что моя любовь к тебе будет длиться дольше, – пообещал он в тот вечер, когда мы выбрали место для них.
За спиной Джека – стена, а в стене – дверь на кухню. Из кухни открывается проход ко второй, непарадной лестнице на второй этаж. На площадке между этажами есть окно, его подоконник достаточно широк, чтобы на нем могла усесться женщина. Помню один июльский день: напоенный ароматами цветов теплый ветерок влетает в приподнятое окно и щекочет мою обнаженную шею; рукава Эдварда закатаны до локтей; тыльная сторона ладони гладит мне щеку…
Джек убрал пальцы с клавиатуры. Сидит так тихо, будто вслушивается в далекую мелодию. Но вот его внимание снова обратилось к экрану.
Помню, как Эдвард смотрел мне в глаза; как билось у меня сердце; помню слова, которые он шептал мне в ухо, его теплое дыхание на моей коже…
Джек снова отрывается от компьютера и оглядывается на дверь у себя за спиной.
Вдруг мне в голову приходит одна мысль. Я подхожу к нему.
«Войди внутрь», – шепчу я.
Теперь он хмурится; локтем он упирается в стол, подбородок лежит на сжатых в кулак пальцах. Он смотрит на дверь.
«Войди в мой дом».
Он встает, подходит к двери и замирает, положив ладонь на ее поверхность. Вид у него озадаченный, как у человека, который силится разгадать арифметическую загадку, оказавшуюся сложнее, чем ему думалось.
Я стою прямо рядом с ним.
«Открой дверь…»
Но он не открывает. Поворачивается к ней спиной. И выходит из комнаты.
Я иду за ним, пытаясь повлиять на него силой мысли, но он подходит к старому чемодану, где хранит одежду, открывает его, роется внутри и наконец достает черный футлярчик с инструментами. Какое-то время он стоит, глядя на него и даже подбрасывая на ладони, точно оценивает вес. Но я понимаю, что мысли его заняты не только набором инструментов, потому что он с решительным видом поворачивает назад.
Он возвращается!
На стене у двери есть сигнализация – ассоциация поставила ее, когда держать смотрителя стало слишком дорого; по субботам, когда посетители уходят, механизм заводят, как часы, и этого завода хватает на неделю. И вот я жадно слежу за каждым движением Джека, который при помощи инструмента из футляра пытается обхитрить механизм. Ему это удается, он переходит к замку, с легкостью открывая его уже другим инструментом, и я невольно вспоминаю Капитана: вот на кого он точно произвел бы впечатление. Дверь распахивается, и Джек мгновенно скрывается за ней.
У меня в доме темно, а фонарь он с собой не захватил; дорогу ему освещает только луна, чей серебристый свет льется в окна. Он проходит через кухню в холл, останавливается.
А потом разворачивается и возвращается в старую пивоварню.
Мне бы очень хотелось, чтобы он остался и все увидел. Но меня обнадеживает задумчивое выражение его лица на обратном пути. Опыт подсказывает мне, что он еще вернется. Те, к кому я проявляю интерес, всегда возвращаются.
Сегодня я даю ему уйти и остаюсь в темном доме одна, слушая, как он запирает дверь с другой стороны.
Мужчина, умеющий открыть замок без ключа, приводит меня в восхищение. Да и женщина тоже, если уж на то пошло. Наверное, дело в моем воспитании; миссис Мак, которая много знала о жизни, а еще больше – о том, как обтяпывать разные делишки, часто повторяла: коли дверь заперта, стало быть есть что прятать. Правда, самой мне вскрывать замки не доводилось, – по крайней мере, это не входило в мои обязанности. Предприятие, которым заправляла миссис Мак, было устроено не просто, а залогом его преуспеяния была гибкость; выражаясь словами самой хозяйки, которые я бы высекла на ее могиле, «шкурку с кошки можно снимать по-разному».
Я была хорошей воровкой. Как и предвидела миссис Мак, все оказалось просто: люди знали, что уличные мальчишки таскают из карманов кошельки, и сразу настораживались, заметив поблизости одного или нескольких чумазых сорванцов. Но чистенькая девочка, в нарядном платьице, с сияющими медно-рыжими локонами до плеч, не вызывала ровным счетом никаких подозрений. Так что мое появление в доме миссис Мак позволило ей вывести свою предпринимательскую деятельность за границы Лестер-сквер и распространить сферу своего влияния до Мэйфера на западе и Линкольнз-Инн-филдз и Блумсбери на севере.
Радуясь такой экспансии, Капитан потирал руки и весело приговаривал:
– Вот где настоящие богачи, у которых карманы трещат от денег, – знай только выгребай.
В сценке с Заблудившейся Девочкой ничего сложного не было: от меня требовалось только стоять на виду и крутить головой с выражением тревоги и страха на лице. Слезы тоже очень шли к этой роли, но были необязательны – они отнимали много сил, к тому же их непросто было унять, если вдруг выяснялось, что на мою наживку клюнула не та рыбка, поэтому я берегла их для особых случаев. Скоро у меня выработалось чутье: я стала понимать, ради кого стоит постараться, а с кем и так сойдет.
Когда рядом со мной оказывался подходящий джентльмен – а это всегда случалось, рано или поздно – и начинал расспрашивать меня, где я живу и почему стою одна на улице, я излагала ему свою печальную историю и добавляла адрес, респектабельный, но не роскошный, чтобы не рисковать; он слушал развесив уши, потом ловил кеб и усаживал меня в него, предварительно оплатив проезд. Сунуть руку ему в карман и вытащить оттуда бумажник, пока он занимался Благородным Делом, было парой пустяков. Податель помощи ближнему обычно испытывает прилив праведного самодовольства, очень полезного в нашем деле; притупляя способность к здравому суждению, оно делает благодетеля слепым и глухим ко всему вокруг.
Однако Заблудившейся Девочке приходилось подолгу стоять на одном месте, и это было скучно, а зимой к тому же сыро, неуютно и холодно. Но я скоро сообразила, как сделать условия работы приемлемыми, не потеряв при этом в деньгах. А заодно предотвратить возникновение проблемы Благородного Джентльмена, которому вздумается проводить меня до самого «дома». Миссис Мак умела ценить изобретательность в других – она сама была настоящей, природной аферисткой, и любое новое плутовство приводило ее в восторг; к тому же она мастерски управлялась с иголкой и ниткой. Вот почему, когда я изложила ей свой план, она, не откладывая дела в долгий ящик, раздобыла где-то пару белых лайковых перчаток и принялась перешивать их для моего удобства.
Так появилась на свет Маленькая Пассажирка, тихое, незаметное существо, ведь ее задача была совсем не той, что у Заблудившейся Девочки. Если Девочка всем своим видом взывала о внимании, то Пассажирка, напротив, делала все, чтобы его избежать. Она часто путешествовала в омнибусах, где всегда занимала местечко у окна и сидела тихо как мышка, скромно сложив на коленках ручки в белых лайковых перчатках. Естественно, рядом с такой чистенькой и невинной малышкой охотно садились леди, также путешествующие в одиночестве. Но стоило такой леди ненадолго увлечься разговором с нечаянным попутчиком или созерцанием проплывающих за окном городских красот, раскрыть книжку или начать разглядывать букетик в своих руках, как настоящие руки Пассажирки, совершенно невидимые, погружались в пышные складки объемистых юбок соседки и начинали аккуратно прощупывать их в поисках кармана или сумочки. До сих пор помню это ощущение: вот моя рука оказывается между складками юбки нарядной леди, холодный, гладкий шелк обнимает ее со всех сторон, пальцы погружаются в него все глубже, кончики их раздвигают упругую материю, а в это время фальшивые руки в белых лайковых перчатках лежат у меня на коленях.
В иных омнибусах за небольшую мзду можно было ездить весь день. А если подкупить кондуктора не получалось, в игру снова вступала Заблудившаяся Девочка – одинокая и беззащитная, она стояла, испуганно озираясь, на улице, где было полно нарядной публики.
В те дни я многое узнала о людях. Например, вот это.
1. Богатство делает человека доверчивым, особенно если этот человек – женщина. Жизненный опыт не предупреждает ее о том, что кто-то может желать ей зла.
2. Ни один джентльмен не откажется помочь, если это видят другие.
3. Искусство иллюзиониста состоит в знании того, что люди ожидают увидеть, и умении уверить их, что они видят именно это.
В последнем меня окончательно убедил французский волшебник из Ковент-Гарден, ибо я твердо помнила завет Лили Миллингтон и внимательно следила за его руками, пока не поняла, откуда в них берется монета.
А еще я узнала, что, если случится худшее и за мной погонятся с криками «Держите! Воровка!», моим самым надежным союзником станет Лондон. Ведь для ребенка, маленького и верткого, к тому же знающего, куда бежать, давка и толчея на улицах – не помеха, а, наоборот, лучшее укрытие; лес движущихся ног надежно ограждает от погони, особенно если у маленького беглеца есть друзья. И опять я должна поблагодарить Лили Миллингтон за науку. Так, всегда можно было положиться на человека-сэндвича: обвешанный досками с рекламой, он так неуклюже вертелся на тротуаре, что обязательно пару раз попадал по голени некстати возникшему полицейскому. Или на шарманщика, чей громоздкий, снабженный колесиками инструмент имел прямо-таки сверхъестественную привычку срываться с места и катиться наперерез преследователям. А последней моей надеждой был фокусник-француз: в нужный момент он доставал искомый бумажник из кармана и вручал его запыхавшемуся владельцу, приводя того в неописуемое замешательство, которое отчасти умеряло его гнев и давало мне возможность скрыться.
Итак, я была воровкой. Хорошей воровкой. Которая полностью отрабатывала свое содержание.
Каждый день я возвращалась домой с добычей, и миссис Мак с Капитаном были довольны. Много раз я слышала от нее, что моя мать была настоящей леди и что те леди, у которых я воровала, ничем не лучше меня, а то и хуже, ведь не у всякой дамы пальчики устроены так, чтобы выполнять самую тонкую работу, а значит, у меня есть все основания гордиться собой. Думаю, так она хотела предупредить появление у меня мук совести.
Зря она волновалась. Все мы порой делаем то, чего потом стыдимся; мелкие кражи у богачей стоят невысоко в списке моих постыдных деяний.
После того как Джек вчера ушел из моего дома, я всю ночь не находила себе места, да и он плохо спал – в розовато-лиловых предутренних сумерках его одолела тревога. Сегодня у него встреча с Сарой, так что он оделся за несколько часов до выхода. Постарался: непривычная одежда сидит на нем несколько неуклюже.
Вообще, готовился тщательно. Нашел пятнышко-невидимку на рукаве, долго его тер, потом так же долго стоял перед зеркалом; побрился и даже провел щеткой по мокрым волосам. Раньше я за ним такого не замечала.
Закончив, он снова встал перед зеркалом и оценивающе посмотрел на себя. Вдруг его отражение в зеркале повело глазами, и долю секунды мне казалось, что он видит меня. У меня чуть не оборвалось сердце, но я вовремя поняла, что он смотрит на двух малышек с фото. Потом он протянул руку и коснулся большим пальцем их мордашек – сначала одной, потом другой.
Я было решила, что причина его беспокойства – сегодняшняя встреча, и, в общем-то, конечно, так оно и есть. Но теперь я думаю, что дело не только в ней.
Он заварил себе чашку чаю, пролив, как обычно, половину, потом с тостом в руках подошел к круглому столику в центре комнаты, где у него стоит компьютер. За ночь пришли два новых письма, одно от Розалинд Уилер, как та и обещала, с довольно длинным списком и еще каким-то рисунком. На это Джек отреагировал так: достал из кармана маленькую черную штучку, воткнул ее компьютеру в бок, затем нажал пару кнопок и снова спрятал штучку в карман.
Не знаю наверняка, связано ли сообщение Розалинд Уилер с тем, что сегодня утром он снова побывал в моем доме. Когда он ушел, я подошла к столу поближе и в строке «Тема» прочла: «Дальнейшие инструкции: записки Ады Лавгроув»; но больше ничего узнать не смогла, мешало открытое предыдущее письмо с рекламой подписки на «Ньюйоркер».
Как бы то ни было, после компьютера он снова достал свой футлярчик с инструментами и отпер дверь в мой дом.
Он и теперь здесь, со мной.
Ничего особенного он пока не делал; судя по тому, как он ходит, никакой определенной цели у него нет. Сейчас он в Шелковичной комнате, стоит у окна, прислонившись к большому письменному столу красного дерева. Взгляд как будто устремлен в сад за домом, на каштан и амбар за ним. На самом же деле он смотрит дальше, куда-то на реку, и выражение лица у него опять тревожное. Когда я подхожу ближе, он моргает и начинает смотреть на луг и амбар.
Я вспоминаю, как в то лето мы с Эдвардом лежали под крышей амбара, смотрели на солнечные лучи, которые просачивались кое-где сквозь щели между черепицами, и он шепотом рассказывал мне о том, где хотел бы побывать.
А в этой комнате, в кресле у камина, Эдвард впервые подробно поведал мне о том, как напишет портрет Королевы Фей, каким он будет; потом улыбнулся, опустил руку во внутренний карман, вынул черный бархатный футляр и открыл – в нем лежала драгоценность. До сих пор помню прикосновения его пальцев, когда он повесил этот холодный синий камень мне на шею.
Конечно, не исключено, что Джек просто ищет, чем занять время, как убить последние минуты перед выходом; он наверняка думает о Саре, об их скорой встрече, поэтому и бросает порой взгляд на мои часы. Когда они наконец показывают то, что ему нужно, он торопливо уходит из моего дома прочь и так быстро запирает кухонную дверь и восстанавливает сигнализацию, что я едва успеваю за ним.
Я провожаю его до ворот, наблюдаю, как он садится в машину и уезжает.
Надеюсь, он ненадолго.
А я, пока его нет, наведаюсь снова в пивоварню. Может, найду там еще что-нибудь от Розалинд Уилер. До смерти хочется знать, как к ней попали письма Ады Лавгроув.
Бедная малышка Ада. Детство – такое жестокое время. Вот ты плывешь, беззаботный, по бескрайнему небу среди серебристых звезд, а вот уже лежишь, уткнувшись носом в землю, и вокруг тебя – темная чащоба отчаяния.
Когда Фанни умерла и полиция завершила свое расследование, люди покинули Берчвуд-Мэнор, и все здесь надолго погрузилось в тишину и неподвижность. Дом отдыхал. Так прошло двадцать лет, до возвращения Люси. Тогда я узнала, что Эдварда нет больше в живых и что этот дом, который он так любил, он завещал младшей сестре.
Поступок совершенно в духе Эдварда, ведь он обожал своих сестер, а те – его. Но я знаю, почему он выбрал именно Люси. Наверняка он решил, что Клэр сама обеспечит свое будущее удачным замужеством либо устроится иначе, но так, чтобы кто-нибудь заботился о ней. А Люси совсем не такая. Никогда не забуду, как я впервые увидела ее: бледная внимательная мордашка выглядывала из окна верхнего этажа темного кирпичного дома в Хэмпстеде, когда Эдвард привел меня в свою студию, стоявшую в саду его матери.
Такой она и останется для меня навсегда: ребенком, юной девочкой, которая злилась на ограничения лондонской жизни, но расцветала, стоило привезти ее в деревню и отпустить на волю – в леса, поля, луга и на берег реки, где она исследовала, копала, собирала коллекции в свое удовольствие. Хорошо помню ее в тот день, когда мы всей компанией приехали в деревню – со станции мы шли пешком, а Люси плелась за нами и не могла догнать, потому что ее чемодан был набит драгоценными книгами, которые она не решилась положить в экипаж, бок о бок с остальной поклажей.
Зато до чего же удивительно было наблюдать за ней, когда она появилась здесь много лет спустя, чтобы обследовать доставшуюся ей собственность. Малышка Люси превратилась в строгую взрослую женщину. Ей было тогда тридцать три – уже немолодая, по представлениям той эпохи. И все же, глядя на Люси, на ее длинную прямую юбку безобразного оливкового цвета и жуткую шляпку, я испытала прилив всепобеждающей нежности. Волосы под уродливой шляпкой уже растрепались – шпильки у Люси никогда не держались на месте, – ботинки покрылись коркой грязи.
Люси не стала осматривать все комнаты подряд, да и нужды не было: дом, со всеми его тайнами, она знала не хуже меня самой. Зашла только в кухню, огляделась, пожала руку поверенному и сказала, что он может быть свободен.
– Но, мисс Рэдклифф, – в его голосе сквозило изумление, – разве вы не хотите, чтобы я показал вам дом?
– В этом нет необходимости, мистер Мэтьюз.
Она подождала, пока его экипаж не скроется из виду, потом снова вернулась на кухню и застыла. Я подошла к ней совсем близко и могла видеть все тонкие морщинки, которыми время уже пометило ее лицо. Но и за ними малышка Люси осталась прежней, ведь люди не меняются с течением лет. Они остаются такими же, как в юности, только делаются печальнее и ранимее. Как же мне хотелось обнять ее тогда. Мою верную защитницу Люси.
Вдруг она подняла голову, и мне показалось, будто она смотрит прямо на меня. Или сквозь меня. Но тут ее внимание привлекло что-то другое, и она, смахнув меня с пути, вышла в холл и стала подниматься на второй этаж.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?