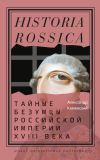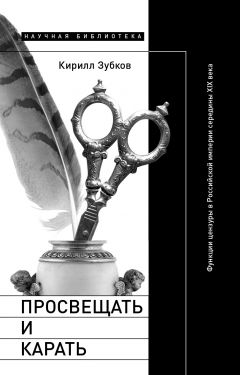
Автор книги: Кирилл Зубков
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Двунаправленное влияние: цензоры, публика и литераторы
В первую очередь мы будем рассматривать цензуру не как бюрократическую организацию, а как социальный институт, который был неотделим от литературной жизни в Российской империи. Самоочевидно и не стоит обсуждения, что основной целью цензуры было от имени государства влиять на литературу и общество. Мы, однако, попытаемся показать, что реальные действия цензоров не до конца вписываются в эту схему. Практика цензурного ведомства быстро дала понять, что невозможно обсуждать литературные проблемы, не испытывая, в свою очередь, общественного давления. Цензоры не мыслили себя исключительно винтиками в государственном аппарате: они, как, например, Гончаров, считали себя представителями образованной общественности и пытались найти в ней свое место. Хотя механизмы обратной связи между литературой и цензурой в Российской империи были едва разработаны, цензоры, принимающие решения, чувствовали сильное давление со стороны литераторов.
Сотрудники цензурного ведомства, как мы попытаемся показать, не могли полагаться исключительно на букву законов и распоряжений, но обращались также к собственному эстетическому вкусу и представлениям о морали, которые, разумеется, определялись не столько приказами начальства, сколько другими людьми, среди которых цензоры жили. В частности, цензурный устав 1828 года, с некоторыми поправками действовавший до реформ 1860‐х годов, требовал запрещать произведения, отклонявшиеся от норм «нравственного приличия»6868
Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб.: Тип. Морского министерства, 1862. С. 317.
[Закрыть], однако нигде не определял, как отделять нравственное от безнравственного. С одной стороны, это открывало простор для злоупотреблений и применения двойных стандартов, с другой – по определению ставило цензоров в зависимость от меняющихся общественных представлений о морали. Высочайше утвержденный доклад министра народного просвещения от 16 февраля 1852 года требовал, чтобы цензоры проявляли осторожность, исключая фрагменты из сочинений «известных наших писателей»6969
Там же. С. 281; Патрушева Н. Г., Фут И. П. Циркуляры цензурного ведомства Российской империи: Сб. документов. СПб.: РНБ, 2016. С. 96.
[Закрыть]. Вместе с тем доклад нигде не определял, как установить, какой писатель считается известным, что оставляло цензора под влиянием литературных критиков. Тем самым складывалась парадоксальная ситуация: технически говоря, сотрудники цензуры должны были влиять на общество, а в особенности на сообщество литераторов; на самом же деле связь между ними оказалась двунаправленной. В отличие от Майкла Холквиста и некоторых других исследователей (см. выше), мы вовсе не пытаемся доказать, что, например, литературные и театральные критики, по сути, занимались цензурой. Однако мы убеждены, что невозможно объективно рассматривать цензурные отзывы вне контекста тех представлений о литературе, эстетических и нравственных ценностях и принципах интерпретации, которые существовали в обществе. Разумеется, предполагается, что эти ценности и принципы не совпадали у разных социальных групп и в разные исторические периоды и становились предметом обсуждений и дискуссий, в которых цензоры не могли не участвовать.
Ограничимся одним примером. В Новый год, 31 декабря 1862 года, цензор драматических сочинений И. А. Нордстрем вместо праздника занимался ответственным делом – он писал отзыв на новую пьесу А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живет». Он завершил ее характеристику следующими словами:
Эта новейшая пьеса талантливого нашего драматурга Островского, появления которой с нетерпением ожидает публика, есть отчасти картина того же «темного царства», которое изображалось им в прошлых его пьесах, и вместе с тем она во многом напоминает не одобренную к представлению драму Писемского «Горькая судьбина»7070
РГИА. Ф. 780. Оп. 1. № 39. Л. 206 – 206 об. Подчеркнуто в оригинале.
[Закрыть].
Приводя аргументы за и против пьесы Островского (начальство, очевидно, в соответствии с мнением самого цензора сочло аргументы за более весомыми и разрешило постановку), Нордстрем проводил аналогию с уже запрещенной пьесой, однако попытался оправдать драматурга, ссылаясь на эстетическую осмысленность предложенного им решения: мрачная драма, посвященная измене и женоубийству, оказалась осмыслена за счет своей эстетической цели. Более того, раз «темное царство», по словам Нордстрема, уже изображалось Островским во вполне разрешенных пьесах, значит, можно было дозволить и очередное произведение на ту же тему.
Подбирая формулировки, чтобы определить смысл творчества Островского, Нордстрем воспользовался выражением из знаменитых статей Н. А. Добролюбова. На первый взгляд, это может показаться совершенно неожиданным выбором. В 1862 году Добролюбов, умерший годом ранее, действительно стал очень известен: был опубликован двухтомник сочинений критика. Поскольку многие статьи Добролюбова печатались под псевдонимами, до этого издания средний читатель, не вхожий в литературные круги, мог не осознавать, какие статьи принадлежали этому критику. Имя Добролюбова прославилось благодаря его старшему другу и единомышленнику Н. Г. Чернышевскому, ставшему главным создателем своеобразного посмертного культа критика7171
См.: Вдовин А. В. Добролюбов. Разночинец между духов и плотью. М.: Молодая гвардия, 2017.
[Закрыть]. Проблема была в том, что в конце 1862 года Чернышевский находился в Петропавловской крепости по политическому обвинению, сфабрикованному тем самым III отделением собственной Его Императорского Величества канцелярии, где служил Нордстрем7272
См. самое подробное исследование: Дело Чернышевского: Сб. документов / Подгот. текста, ввод. статья и коммент. И. В. Пороха; общ. ред. Н. М. Чернышевской. Саратов: Приволжское книжное изд-во, 1968.
[Закрыть]. Казалось бы, серьезные ссылки на Добролюбова в сочинениях сотрудников драматической цензуры встречаться не должны – однако Нордстрему это, как видим, не мешало.
Очевидно, причина не в каком-то особенном уважении цензора к Добролюбову и Чернышевскому, а в значении литературной критики как института, разрабатывавшего общепринятые эстетические и социальные категории. «Темное царство» было популярной и влиятельной характеристикой творчества Островского, на которую удобно было ссылаться. В этом смысле Нордстрему было в целом неважно, каких именно политических взглядов придерживался цитированный им критик, – важно было то, что образованный и следящий за современной литературой российский читатель этого времени мыслил теми категориями, которые ему предложила критика. Цензор в этом смысле не был исключением.
Повседневное и исключительное
Подход к цензуре как к социальному институту предполагает интерес к повседневной ее работе. В большинстве исследований цензурное вмешательство описывается как нечто исключительное, нарушающее «нормальный» порядок функционирования литературы. В действительности, однако, цензоры и писатели взаимодействовали постоянно, и нельзя было вообразить литератора, который сочинял без оглядки на возможное вмешательство «со стороны». Можно было бы сказать, что исключение составляют неподцензурные публикации, наподобие изданий Вольной русской типографии Герцена, но сама идея печататься у Герцена, то есть без цензуры, была уже значимым политическим и эстетическим выбором, а вовсе не типичным писательским поведением. Далее мы покажем, как эстетические, политические и социальные представления цензоров влияли на литературный процесс – и наоборот.
В большинстве случаев исследователей намного больше интересуют запрещенные цензурой издания, а не разрешенные7373
См., напр.: Лемке М. К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб.: Тип. Санкт-Петербургского т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1904.
[Закрыть]. Разумеется, разбор истории запретов выглядит обычно значительно более драматичным и увлекательным, тем более что часто сопровождается сложными интригами, попытками писателя оправдаться или обмануть цензоров и проч. Однако в действительности любому, даже самому строгому и придирчивому, цензору Российской империи разрешать произведения приходилось значительно чаще, чем запрещать. Вместе с тем подавляющему большинству писателей – по крайней мере, создавших несколько произведений – волей-неволей нужно было проводить свои сочинения через цензуру, а не биться о цензурные запреты. Таким образом, любой анализ того, что цензура запретила, бесполезен без изучения того, что она разрешила. Как мы увидим далее (см. часть 2, главу 2), подчас само по себе разрешение может оказаться неожиданностью и послужить для значимых выводов.
Ориентируясь по преимуществу на повседневную работу цензуры, необходимо обратить внимание на специфическую форму, в которой нам доступны источники. Несмотря на обилие отчетов, формулярных списков и прочих документов, описывающих обычную, регулярную работу цензурного ведомства, предпочтение обычно отдается текстам намного более ярким, имеющим определенную нарративную форму – форму исторического анекдота. В российских источниках XIX века такой анекдот (имеющий мало общего с современным фольклорным жанром) определяется как рассказ о неожиданной, парадоксальной новости7474
См.: Мельниченко М. Советский анекдот: Указатель сюжетов. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 7–8.
[Закрыть]. Одна из основных особенностей анекдота как жанра – «моделирование неожиданной, трудно представимой ситуации» и при этом изображение ее как реальной и даже вполне вероятной7575
Курганов Е. Анекдот как жанр. СПб.: Академический проект, 1997. С. 30–31.
[Закрыть]. Анекдоты служат едва ли не основной формой репрезентации истории цензуры XIX века в источниках, не относящихся к официальному делопроизводству: письма, дневники, воспоминания, эпиграммы и сатирические сочинения, посвященные цензорам, пестрят изложением забавных и поразительных историй, касающихся исключительной предосторожности, чрезмерной бдительности, абсурдных критериев оценки произведения со стороны причастных к цензурному аппарату лиц – от рядового цензора до императора. Очевидно, дело здесь не только в популярности анекдотов в мемуарной литературе, но и в специфике жанра, который оказался едва ли не идеальной формой рассказа о столкновении с цензурой с точки зрения представителя литературного поля.
Такой подход к цензуре во многом восходит к отзывам современников, таких как цензор Никитенко, дневник которого до сих пор служит одним из важнейших источников по истории литературы. В форме анекдотов Никитенко излагал по преимуществу события, пришедшиеся на время николаевского царствования. Причины установить нетрудно: непредсказуемое, произвольное развитие событий в анекдоте можно понимать как действие непостижимой для нормального человека, нелепой силы. Роль личности, индивидуальной воли в анекдотах Никитенко всегда оказывается крайне невелика: и писатели, и цензоры становятся жертвами общего положения вещей в стране, губительного как для них, так и для России в целом. Так, в пространной записи от 12 декабря 1842 года излагается история, когда решение императора по цензурному ведомству оказалось абсолютно неожиданным и непредсказуемым не только для Никитенко и его коллеги по цензурному комитету, но даже для управляющего III отделением и члена Главного управления цензуры Л. В. Дубельта:
Неожиданное и нелепое приключение, которое заслуживает подробного описания. Вчера утром, около двенадцати часов, я вернулся с лекции из Екатерининского института и, ничего не подозревая, преспокойно занимался у себя в кабинете. Вдруг является жандармский офицер и в отборных выражениях просит пожаловать к Леонтию Васильевичу Дубельту.
<…>
Нас ввели к Дубельту.
– Ах, мои милые, – сказал он, взяв нас за руки, – как мне грустно встретиться с вами по такому неприятному случаю. Но думайте сколько хотите, – продолжал он, – вы никак не догадаетесь, почему государь недоволен вами.
С этими словами он открыл восьмой номер «Сына отечества» и указал на два места, отмеченные карандашом. <…>
<…> теперь я вижу, что настоящий случай равняется кому снега с крыши, который на вас валится, когда вы идете по тротуару. Против таких взысканий нет ни заслуг, их предупреждающих, ни предосторожностей, потому что они выходят из ряда дел разумных, из круга человеческой логики (Никитенко, т. 1, с. 252–253).
Финальные фразы цитированного эпизода близки к замечанию из «Былого и дум» Герцена, описывающего неожиданный визит жандарма от А. Ф. Орлова: «Появление полицейского в России равняется черепице, упавшей на голову…» (Герцен, т. 9, с. 221). Герцен, разумеется, вряд ли мог знать о содержании неопубликованного дневника Никитенко; тем не менее совпадение достаточно показательное: общая логика анекдотического рассказа о нелепости социального устройства николаевской России объединяет пострадавшего по службе цензора и политического эмигранта, активного противника российского правительства.
Если учесть эти обстоятельства, намного яснее становится снижение количества «анекдотов» о цензуре в дневнике Никитенко начала царствования Александра II. Подготовка реформ воспринималась им как возвращение к нормальному, «естественному» ходу исторических событий. В этой связи анекдоты более не были нужны Никитенко. Даже, казалось бы, содержащие очевидный потенциал для превращения в смешную и неожиданную историю эпизоды уже не разворачиваются в анекдот. В качестве примера можно привести два описания цензурных злоключений, постигших одно и то же произведение при Николае I и Александре II. 5 марта 1841 года Никитенко записал:
Некто <И. Е.> Великопольский, псевдоним Ивельев, написал драму «Янетерской». Она плоха и сверх того безнравственна и полна сценами и выражениями, которые у нас не допускаются в печати. По непонятному недоразумению она, однако, была пропущена цензором Ольдекопом. Лишь только драма вышла из печати и попала в руки министру, он немедленно отрешил от должности цензора и велел повсюду отобрать экземпляры ее и сжечь. Сегодня в одиннадцать часов утра состоялось это аутодафе, при котором велено было присутствовать мне и Куторге. Вот, однако, два хорошие поступка: Великопольский, узнав о несчастии, постигшем по его милости цензора, предложил последнему 3000 рублей, чтобы тому было на что жить, пока он найдет себе другое место. Ольдекоп отказался (Никитенко, т. 1, с. 229).
Разумеется, этот эпизод вполне анекдотичен, особенно его финал, где «хорошие поступки» пострадавших автора и цензора отменяют друг друга. Другой рассказ о драме Великопольского появляется в дневнике намного позже, 5 марта 1864 года:
В Совете по делам печати два мои доклада: один о нелепейшей драме известного литературного чудака Великопольского «Янетерской», которая была в 1839 году напечатана с разрешения цензора Ольдекопа, ее не читавшего, и сейчас после того отобрана у автора и сожжена в присутствии моем и покойного Стефана Куторги. Теперь он решился ее снова пустить в свет и представил рукопись в цензуру. В этой пьесе автор собрал все мерзости, все нравственные искажения, которыми позорит себя род человеческий, – воровство в разных видах, прелюбодеяние, сводничество матери дочерью, смертоубийство, самоубийство, покушение на кровосмешение и пр., и все это намалевал грязнейшими красками. В предисловии он говорит, что делает это для того, чтобы разительными изображениями порока отучить от него людей; но выходит, что у него омерзителен не порок, а сами эти изображения. Я, разумеется, хотел избавить литературу нашу от стыда замараться этим гадким произведением и полагал не дозволять <драмы> к напечатанию, основываясь на прежнем ее запрещении, хотя автор и исключил из нее рескрипт царствовавшего государя с подписью Николай, сочиненный самим г. Великопольским и в котором будто бы государь изъявляет свое прощение и милость Щукину, отчаянному дуэлисту. Совет согласился со мною беспрекословно (Никитенко, т. 2, с. 415–416).
В этом рассказе все ощущение несообразности создается подробным описанием «нелепейшей драмы», тогда как поведение самого Никитенко и других членов Совета оказывается оправданным как с точки зрения цензуры, так и с позиций литературы, которую благодетельный Совет по делам печати защищает «от стыда замараться этим гадким произведением». Литература и цензура в целом уже существуют в рамках одной логики, и их столкновение не служит источником неожиданностей.
Однако в конечном счете репрезентация истории цензуры в виде анекдотов оказалась намного более продуктивной нарративной моделью. Об этом свидетельствуют не только многие воспоминания, авторы которых излагали свой опыт столкновения с цензурой 1870‐х годов в том же ключе, что сам Никитенко – историю своей деятельности в николаевскую эпоху7676
Особенно часто героем таких рассказов становился одесский цензор А. К. Воронич, известный среди прочего тем, что запрещал печатать столичных писателей и дописывал фрагменты в рассматриваемые им произведения (см.: Кауфман А. Е. Журнальное страстотерпство // Цензура в России в конце XIX – начале XX века: Сб. воспоминаний / Сост. Н. Г. Патрушева. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 160–173; 164).
[Закрыть], но и научная история цензуры, которая зачастую строится как изложение регламентирующих документов и правил, перемежающееся разбором «анекдотов».
Если для ранних историков цензуры7777
См., например, Лемке М. К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. С. 328–368. Исследователь излагает историю Негласного комитета, которую сам Никитенко воспроизводил в форме анекдотов.
[Закрыть], не всегда имевших возможность работать с массивом архивных ведомственных документов, дневник Никитенко, как и другие источники личного происхождения, вынужденно служили главной фактической базой, то современные исследователи литературы и цензуры и их взаимодействия черпают из него скорее материал для проблемных case studies, к которым располагает сама нарративная структура анекдота. Естественным предметом комментария и контекстуализации становится заданная анекдотом противоречивая, с первого взгляда кажущаяся непонятной ситуация, прояснить которую можно только за счет реконструкции всего комплекса взаимодействующих акторов и полей7878
См., напр., статью, описывающую отразившийся в дневнике Никитенко в виде двух анекдотов (Никитенко, т. 1, с. 269–273) сложный конфликт, который разгорелся вокруг театральных рецензий: Федотов А. С. Межведомственные проблемы театральной цензуры в николаевское царствование: случаи 1843–1844 годов // Русская филология. 24. Сб. научных работ молодых филологов. Тарту: Tartu Ülikooli kirjastus, 2013. С. 33–42.
[Закрыть]. Разумеется, историки общественной и политической истории России уже неоднократно обращались к этой стороне деятельности цензуры, однако в историко-литературных исследованиях такой подход до сих пор остается редкостью. Причина тому – вполне понятное стремление исследователей уделить больше внимания именно «литературной» стороне конфликта, для которой намного удобнее было представлять столкновения с цензурой в качестве аномальных, странных явлений.
Анекдот как нарративная форма явно неспособен передать другую сторону истории цензуры – ее повседневность, рутинные практики: обыденное, ежедневное взаимодействие писателей, редакторов и цензоров уже не поддается описанию в этой форме, предполагающей единичность, эксцесс, нарушение системы ожиданий. Очевидно, «анекдотический» нарратив может быть лишь частью истории взаимодействия литературного и цензурного ведомств. Может быть, из ежемесячных подсчетов, сколько страниц и листов рассмотрел какой сотрудник цензурного комитета, намного труднее вывести что бы то ни было значимое относительно влияния цензуры на литературное сообщество, чем из эффектных повествований о столкновениях цензоров и писателей. Тем не менее «скучная» сторона также должна приниматься в расчет. В этом исследовании мы попытаемся, в частности, соотнести эффектные эпизоды, относящиеся к деятельности Гончарова-цензора, и сохранившиеся документальные сведения о его «нормальной» службе.
Типичный российский цензор был прежде всего не смехотворным мракобесом, душившим свободу слова, а погрязшим в бюрократических процедурах чиновником и чаще думал о соблюдении многочисленных гласных и негласных законов и правил и о возможности получить награждение за отличную службу, чем о больших политических или эстетических вопросах. Точно так же и для профессиональных писателей взаимодействие с цензурой было не исключительным моментом, а частью повседневной жизни.
Именно бюрократический характер цензуры объясняет постоянные высказывания о ее нелепости и абсурдности, встречающиеся в самых разных источниках. Действительно, столкнувшись с делопроизводством любого официального учреждения Российской империи, неподготовленный читатель может решить, что никакого смысла в этих документах нет и быть не может. Тем более не понимали принципов принятия цензорских решений многочисленные писатели, не посвященные ни во внутренний распорядок, ни во многие правила работы цензуры. Даже цензоры из другого ведомства могли не понимать, по каким принципам действует, например, Комитет 2 апреля 1848 года – достаточно вспомнить высказывания того же Никитенко:
…тот же самый Бутурлин действует в качестве председателя какого-то высшего, негласного комитета по цензуре и действует так, что становится невозможным что бы то ни было писать и печатать. <…> <В. И.> Далю запрещено писать. Как? Далю, этому умному, доброму, благородному Далю! Неужели и он попал в коммунисты и социалисты? (Никитенко, т. 1, с. 312; запись от 1 декабря 1848 года)
Все это, однако, не свидетельствует о полной «бессмысленности» цензуры: будучи малоэффективным и неприспособленным для контактов с литературным сообществом, административный аппарат российской цензуры все же подчинялся определенной логике, которую можно восстановить. Мы попытаемся сделать это в отношении запрета комедии Островского «Свои люди – сочтемся!», который обычно описывается как одно из самых нелепых решений российской цензуры эпохи Николая I. Логика цензоров, как мы покажем, была не столько абсурдна, сколько недоступна большинству участников литературного процесса – как в силу плохого знакомства писателей с бюрократическим аппаратом российского государства, так и в силу полной непрозрачности цензурного ведомства и принципов принятия решений (особенно это относится к драматической цензуре: авторы пьес подчас даже не знали, кто и за что запрещал ставить их произведения).
Более того, цензоры в большинстве своем («нелепые» коллеги, на которых в дневнике жалуется Никитенко, все же были редкостью) довольно неплохо понимали то, что рассматривали. Разумеется, в цензуре служило некоторое количество некомпетентных чиновников, но это вовсе не было закономерностью, тем более что руководство ведомства стремилось от них избавиться. Скажем, когда богобоязненный цензор Воронич запретил печатать в «Одесском листке» сведения, что протодьякон на юбилее архиепископа Никанора возгласил многолетие государю императору и всему царствующему дому, руководитель Главного управления по делам печати при Министерстве внутренних дел Е. М. Феоктистов, вовсе не отличавшийся либерализмом, немедленно распорядился назначить в газету другого цензора7979
См.: Егоров А. Е. Страницы из прожитого // Цензура в России в конце XIX – начале XX века. С. 146–147.
[Закрыть]. Характеристика цензоров как компетентных читателей относится не только к писателям типа Гончарова, но и, например, к драматическим цензорам, которые, как мы покажем, очень неплохо понимали пьесы Островского и других авторов.
Наше принципиальное нежелание рассматривать цензоров как ограниченных и глупых людей имеет под собою и этические основания. Мы убеждены, что цензура плоха вовсе не в силу нехватки интеллектуальных способностей у занимающихся ею людей. В цензоры могли идти и шли самые разные люди, в том числе хорошо образованные и способные найти скрытый смысл рассматриваемых ими сочинений отнюдь не хуже современного исследователя. Проблема цензоров вовсе не в том, что они не понимают литературных произведений, а в том, что они существуют.
Российский и международный контекст
Эволюция цензуры в Российской империи неотделима от меняющихся представлений о политических и общественных функциях литературы и театра. В XVIII–XIX веках развитие театральной и читающей публики было тесно связано с формированием критического общественного мнения, которое, с точки зрения представителей государства, нуждалось в контроле. По крайней мере, для образованных людей того времени театр и литература прямо участвовали в формировании хотя бы относительно автономной от государства публичной сферы. Характеризуя позицию Г. Э. Лессинга и других литераторов его времени, Люциан Хёльшер писал:
По мере того как общение между образованными людьми происходило все интенсивнее, складывалось впечатление, что фикция публики, вершащей свой суд, постепенно превращается в реальность <…> возросшая активность публики способствовала тому, что литературно образованная буржуазия стала по-новому воспринимать себя – как некое публичное единство, не связанное с политическим строем <…> Посредством взаимной критики всех «граждан» этой «республики» публика делала саму себя субъектом «общества», основным законом которого была возможность свободного участия в его жизни, открытая для всех его членов8080
Хёльшер Л. Публичность / гласность / публичная сфера / общественность (Öffentlichkeit) // Словарь основных исторических понятий: Избр. статьи: В 2 т. Т. 1 / Пер. с нем. К. Левинсон; сост. Ю. Зарецкий, И. Ширле; науч. ред. перевода Ю. Арнаутова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 334.
[Закрыть].
В Российской империи соответствующие процессы происходили хронологически позже, с постепенным распространением современных медиа, таких как журналы, газеты и театр. Цензура неизбежно должна была подстраиваться под формирование новой публики и искать способы с нею взаимодействовать.
По преимуществу эта работа посвящена двум десятилетиям из истории цензуры – 1850–1860‐м годам. За это время и литература, и театр, и цензурное ведомство пережили кардинальные трансформации, связанные с общими модернизационными процессами, характерными для стремительно глобализирующегося мира этого периода8181
Далее в этом разделе излагаются широко известные сведения по истории русской цензуры. Мы опираемся прежде всего на следующие работы: Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв. М.: Аспект Пресс, 2001; Ruud C. A. Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press, 1804–1906. Toronto: University of Toronto Press, 2009; Патрушева Н. Г. Цензурное ведомство в государственной системе Российской империи во второй половине XIX – начале XX века. СПб.: Северная звезда, 2013.
[Закрыть]. Последние годы царствования Николая I, так называемое мрачное семилетие, последовавшее за европейскими революциями 1848 года, отметились исключительной жесткостью во внутренней политике. Высшая власть стремилась контролировать не только прессу посредством цензуры, но и саму цензуру посредством секретного Комитета 2 апреля 1848 года, внушившего современникам, включая цензоров, «панический страх» (Никитенко, т. 1, с. 311, запись от 25 апреля 1848 года)8282
См. анализ одного случая из истории этого комитета в ч. 2, гл. 1. Подробнее о его работе см.: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература… С. 175–227; Старкова Л. К. «Цензурный террор», 1848–1855 гг. Саратов: Изд-во Саратовского пед. ин-та, 2000; Шевченко М. М. Конец одного Величия: Власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М.: Три квадрата, 2003. С. 122–159; История Комитета 2 апреля 1848 года в документах / Публ. Н. А. Гринченко // Цензура в России: История и современность: Сб. науч. трудов. Вып. 3. СПб.: РНБ; Санкт-Петербургский филиал Ин-та истории естествознания и техники РАН, 2006. С. 224–246; Волошина С. М. Власть и журналистика… С. 420–637.
[Закрыть]. В сочетании с ограничением числа периодических изданий (император не разрешал открывать новых) российская печать оставалась фактически лишена самостоятельности, за исключением узкой сферы эстетических вопросов.
После воцарения Александра II сложившиеся при его предшественнике механизмы цензуры переставали эффективно работать. В это время печать, больше не ограниченная распоряжением императора, переживала настоящий бум: в прессе разрешено было прямо обсуждать некоторые политические проблемы, открывались десятки новых периодических изданий, их суммарный тираж стремительно рос, как и количество читателей. Соответственно, литература в этих условиях воспринималась как значимый фактор политической и общественной жизни. Еще более активно развивалось сценическое искусство: несмотря на театральную монополию в столицах, в Российской империи появлялось все больше частных театров, стремительно росли количество и влияние театральных газет и журналов8383
Королев Д. Г. Очерки из истории издания и распространения театральной книги в России XIX – начала XX веков. СПб.: РНБ, 1999. С. 64–82.
[Закрыть].
Цензура должна была радикально трансформироваться, чтобы прийти в соответствие с новой ситуацией: практически с середины 1850‐х по середину 1860‐х годов идет подготовка реформы, в ходе которой вместо покровительственной модели, в рамках которой цензор воспринимался скорее как воспитатель публики, была введена полицейская цензура, где цензор должен был расследовать и карать нарушения законов. При Николае в цензурном ведомстве действовала архаичная установка, согласно которой государство не противостоит обществу, а представляет собою механизм, создающий достойных его членов8484
См. об этой установке на материале текстов XVIII века: Каплун В. Л. Общество до общественности: «общество» и «гражданское общество» в культуре российского Просвещения // От общественного к публичному: Коллективная монография / Науч. ред. О. В. Хархордин. СПб.: Изд-во Европейского ун-та, 2011. С. 395–486.
[Закрыть]. Напротив, в интересующую нас эпоху постепенно (как мы увидим в части 1, далеко не быстро) складывалось представление о принципиальной оппозиции государства и общества, воплощением которой и стало цензурное ведомство.
Эта смена парадигмы реализовалась сразу на нескольких уровнях. На уровне ведомственном основной организацией, отвечавшей за цензуру, стало не Министерство народного просвещения, а Министерство внутренних дел – тем самым цензор оказался ближе к полицейскому, чем к преподавателю. Многочисленные цензурные организации николаевского периода, включая драматическую цензуру III отделения, были ликвидированы, за исключением очень специфических ведомств наподобие придворной или духовной цензуры8585
Литература об этих организациях не отличается обилием (см. прежде всего: Григорьев С. И. Придворная цензура и образ Верховной власти (1831–1917). СПб.: Алетейя, 2007; Котович А. Духовная цензура в России (1799–1855 гг.). СПб.: Тип. «Родник», 1909; Карпук Д. А. 1) Духовная цензура в Российской Империи в середине XIX века (на примере деятельности Санкт-Петербургского Духовного цензурного комитета) // Труды Перервинской православной духовной семинарии: Научно-богословский ж-л. 2012. № 6. С. 46–74; 2) Духовная цензура в России во второй половине XIX в. (по материалам фонда Санкт-Петербургского духовного цензурного комитета) // Христианское чтение. 2015. № 2. С. 210–251).
[Закрыть]. На уровне кадровом были отправлены в отставку наиболее одиозные сотрудники цензуры, на место которых пришли люди с другими, более современными представлениями о взаимоотношениях государства и общества, в том числе Ф. И. Тютчев, ставший председателем Комитета цензуры иностранной, и И. А. Гончаров8686
О Тютчеве как либеральном цензоре см. прежде всего: Жирков Г. В. «Но мыслью обнял все, что на пути заметил…» // У мысли стоя на часах…: Цензоры России и цензура / Под ред. Г. В. Жиркова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 100–158. К сожалению, автор этой ценной работы позже опубликовал еще одну статью о Тютчеве и цензуре, содержащую предложение ввести цензуру в современной России: Жирков Г. В. Особенности деятельности Комитета цензуры иностранной при Ф. И. Тютчеве // Цензура в России: История и современность: Сб. науч. тр. Вып. 2. СПб.: РНБ, 2005. С. 107–116.
[Закрыть]. На уровне организации работы всеобщая предварительная цензура, от которой были освобождены лишь издания некоторых государственных ведомств наподобие Академии наук, была частично заменена карательной. Это изменение отразило важный сдвиг в юридической и административной практике: с появлением независимых судов стало возможно наказывать издателей и писателей с помощью не административных мер, а судебного преследования.
В новых условиях представители российского государства постепенно начали иначе мыслить собственное место в публичной коммуникации. Если раньше они стремились покровительствовать всем ее участникам и оставаться над схваткой, то в 1860‐е годы ситуация до некоторой степени приблизилась к партийной полемике: теперь государство в лице министра внутренних дел и его подчиненных выбирало между несколькими журнальными «партиями» и решало, какую из них будет поддерживать8787
См.: Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати. 60–70‐е годы XIX века. Л.: Наука, 1989; Патрушева Н. Г. Теория «нравственного влияния» на общественное мнение в правительственной политике в отношении печати в 1860‐е гг. // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX века: Сб. науч. тр. Вып. 7. СПб.: РНБ, 1994. С. 112–125.
[Закрыть]. В условиях стремительного роста числа периодических изданий правительство не могло себе позволить заниматься полным контролем всей литературной продукции. В этой связи стратегической задачей цензуры стало, пользуясь выражением того времени, «положительное» отношение к литературе, то есть не полный запрет всех неугодных мнений, а скорее поддержка угодных, достигавшаяся за счет комплекса мер, включавших цензурные послабления (как мы увидим, в 1863 году ими пользовался, например, «Русский вестник» Каткова), тайные субсидии (их в глубокой тайне получал «Голос» Краевского) и организация официальных изданий (таких, как газета «Северная почта»)8888
См.: Лемке М. Эпоха цензурных реформ 1859–1865 годов. СПб.: Типо-лит. «Герольд», 1904. С. 239–245; Герасимова Ю. И. Из истории русской печати в период революционной ситуации конца 1850-х – начала 1860‐х гг. М.: Книга, 1974. С. 89–90; Russo P. A. Golos, 1878–1883: Profile of a Russian Newspaper. New York: Columbia UP, 1974. P. 23–25; Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати… С. 41–45, 106–111.
[Закрыть].
Российская империя, включая ее цензуру, была частью большого мира, и вне этого мира понять ее непросто. Если судить по результатам компаративных исследований, российские цензоры XIX века принципиально не отличались от своих коллег из Франции, Австро-Венгрии или Испании8989
См. прежде всего: The War for the Public Mind: Political Censorship in Nineteenth-Century Europe / Ed. R. J. Goldstein. Westport, Connecticut; London: Praeger, 2000; The Frightful Stage: Political Censorship of the Theater in Nineteenth-Century Europe / Ed. R. J. Goldstein. New York; Oxford: Bergahn Books, 2009.
[Закрыть]. Долгое время у цензурного ведомства Российской империи была репутация наиболее репрессивной организации, уникальной на фоне других стран. Во многом это связано с уже упоминавшимися стереотипными представлениями о Востоке и Западе. В действительности и прямое заимствование зарубежного опыта, и во многом схожие социально-политические обстоятельства приводили к значительным сходствам между цензурными аппаратами разных государств. Цензура во всех европейских странах занималась по преимуществу регулированием публичной коммуникации, которая велась с помощью современных медиа: показательно, например, что распространение рукописей цензоров не интересовало, за исключением колониальных территорий, наподобие индийских владений Британской империи9090
См.: Дарнтон Р. Цензоры за работой: Как государство формирует литературу. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 121–206.
[Закрыть].
Если в отношении обеспеченной и респектабельной публики, которая благодаря институтам публичной сферы, таким как периодическая пресса, клубы и кофейни, поддерживала определенный стиль поведения и общения, цензура рассчитывала на хотя бы условный консенсус, то принадлежавшие к «низшим» классам посетители театров могли среагировать на постановку совершенно неожиданным (и подчас деструктивным) образом. Цензоры по всему континенту, видимо, хорошо знали, что бельгийская революция 1830 года началась с беспорядков, вспыхнувших после постановки оперы Д. Обера «Немая из Портичи». Следя за нравственностью репертуара, европейские цензоры, как и многие влиятельные литераторы и философы, надеялись поспособствовать поддержанию общественного порядка, а в перспективе – интеграции всех посетителей театров в единое и хорошо организованное национальное сообщество, объединенное нравственными и политическими нормами, усвоенными благодаря сцене.