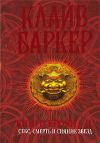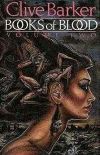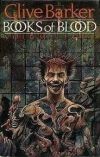Текст книги "Книги крови. I–III"

Автор книги: Клайв Баркер
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Нет, – ответил Личфилд.
– Ну вот видите, это невозможно. Профсоюз строго запрещает подобные вещи. Нас распнут.
– Вам-то что, Хаммерсмит? – спросил Кэллоуэй. – Вам не насрать? После того как это место снесут, вы в жизни не ступите ногой в театр.
– Моя жена наблюдала за репетициями. Она помнит текст назубок, – добавил Личфилд.
– Это будет волшебно, – сказал Кэллоуэй, который после первого же взгляда на Констанцию загорелся энтузиазмом.
– Вы рискуете проблемами с профсоюзом, Кэллоуэй, – напомнил Хаммерсмит.
– Я готов пойти на риск.
– Как вы и сказали, мне-то все равно. Но если им напоет об этом какая-нибудь маленькая птичка, вы останетесь с пометом на голове.
– Хаммерсмит, дайте ей шанс. Дайте всем нам шанс. Если «Эквити» занесет меня в черные списки, это мое дело.
Хаммерсмит снова сел.
– Никто не придет, вы же понимаете? Диана Дюваль была звездой, ради нее люди просидели бы вашу напыщенную постановку, Кэллоуэй. Но новое лицо?.. Ну, вам же хуже. Вперед, я умываю руки. Помните, Кэллоуэй, под вашу ответственность. Надеюсь, вас за это распнут.
– Спасибо, – сказал Личфилд. – От всей души.
Хаммерсмит начал перекладывать вещи на столе, особое внимание уделив бутылке и стакану. Собеседование было окончено: эти бабочки его более не интересовали.
– Уходите, – сказал он. – Просто уходите.
– У меня есть несколько просьб, – сказал Личфилд Кэллоуэю, когда они вышли из кабинета. – Об изменениях в постановке, которые усилят исполнение моей жены.
– Что именно?
– Для удобства Констанции я бы попросил значительно снизить яркость освещения. Она просто не привыкла выступать под такими жаркими и яркими прожекторами.
– Очень хорошо.
– Также я попрошу установить рампу.
– Рампу?
– Странная просьба, я понимаю, но ей куда лучше с рампой.
– Свет рампы может слепить актеров, – сказал Кэллоуэй. – Становится сложно видеть публику.
– И, тем не менее… Я вынужден настаивать на установке.
– Идет.
– Третье – я попрошу, чтобы все сцены с поцелуями, объятиями и прочими прикосновениями к Констанции переделали, чтобы исключить любую возможность физического контакта.
– Все?
– Все.
– Господи, почему?
– Моей жене не нужны эти приемы, чтобы драматизировать порывы сердца, Теренс.
Какая странная интонация на слове «сердце». Порывы сердца.
Кэллоуэй на кратчайший миг поймал взгляд Констанции. Его словно благословили.
– Представим нашу новую Виолу труппе? – предложил Личфилд.
– Почему бы и нет?
И троица зашла в зал.
Переработать мизансцены и исключить все физические контакты оказалось просто. Сперва состав настороженно отнесся к новой коллеге, но благодаря ее естественному поведению и природной грации скоро все были у ее ног. Кроме того, присутствие Констанции означало, что шоу будет продолжаться.
В шесть Кэллоуэй объявил перерыв и, предупредив, что явка на грим к восьми, разрешил часок погулять и отдохнуть. Труппа разошлась, воспрянув духом, постановка снова вызывала у них энтузиазм. Еще утром она казалась пропащим делом, но теперь все пошло на лад. Конечно, была еще тысяча поводов для колкостей: технические неполадки, неудобные костюмы, режиссерские промашки. Все это само собой разумеется. В действительности актеры были счастливы как никогда. Даже Эд Каннингем снизошел до того, чтобы отвесить пару комплиментов.
Личфилд нашел Талулу, когда та убиралась в артистической.
– Сегодня…
– Да, сэр.
– Тебе не нужно бояться.
– Я не боюсь, – ответила Талула. Что за мысли? Как будто…
– Мне жаль, но может быть больно. Как тебе, так и, разумеется, всем нам.
– Я понимаю.
– Ну разумеется. Ты любишь театр не меньше моего: ты знаешь парадокс этой профессии. Играть жизнь… ах, Талула, играть жизнь… что это за любопытное занятие. Знаешь ли, иногда я задаюсь вопросом, сколько еще смогу поддерживать иллюзию.
– Вы прекрасно играете, – сказала она.
– Ты так думаешь? Ты правда так думаешь? – его приободрил благожелательный отзыв. Как это мучительно – притворяться все время, изображать плоть, дыхание, жизнь. Благодарный, он протянул Талуле руку.
– Ты бы хотела умереть, Талула?
– Это больно?
– Чуть-чуть.
– Я была бы счастлива.
– И это правильно.
Его губы накрыли ее, не прошло и минуты, как она умерла, с радостью уступив его пытливому языку. Личфилд уложил ее на протертый диван и запер артистическую ключом Талулы. Она быстро остынет в прохладе комнаты, а потом снова примется за дело, когда прибудет публика.
В шесть пятнадцать Диана Дюваль вышла из такси перед «Элизиумом». Стоял очень темный, ветреный ноябрьский вечер, но она чувствовала себя замечательно; сегодня ее ничто не могло удручить. Ни тьма, ни холод.
Невидимая, она прошла мимо афиш, где были ее лицо и имя, через пустой зал в гримерку. Там она застала предмет своей любви, он курил сигарету за сигаретой.
– Терри.
Несколько секунд она позировала в дверях, чтобы он осознал факт ее появления. При виде ее он весь побелел, и она поджала губы. Это было непросто. Мышцы лица не слушались, но она все же добилась нужного эффекта, к своему удовлетворению.
Кэллоуэй лишился дара речи. Диана казалась больной, тут не могло быть двух мнений, и если она ушла из больницы, чтобы принять участие в генеральной репетиции, то ее придется переубеждать. На ней не было макияжа, а светло-пепельные волосы не мешало бы помыть.
– Зачем ты пришла? – спросил он, когда она закрыла за собой дверь.
– Незаконченное дело.
– Слушай… я должен тебе кое-что сказать…
Боже, сейчас будет скандал.
– Мы нашли замену, для спектакля, – она уставилась на него пустым взглядом. Он торопился, так и сыпал словами: – Мы думали, ты вышла из строя – в смысле, не навсегда, но, знаешь, как минимум на время премьеры…
– Не волнуйся.
У него слегка отпала челюсть.
– Не волноваться?
– Что мне эта роль?
– Ты сказала, что пришла закончить…
Он осекся. Диана расстегивала платье. Она же несерьезно, подумал он, не может быть, чтобы серьезно. Секс? Сейчас?
– Я о многом думала последнее время, – сказала она, стряхнула смятое платье с бедер, позволила ему упасть и вышла из него. На ней был белый лифчик, который она безуспешно пыталась расстегнуть. – Я решила, что мне не интересен театр. Помоги, будь добр?
Она обернулась и подставила ему спину. Он машинально расстегнул лифчик, не понимая до конца, хочет он этого или нет. Его как будто поставили перед свершившимся фактом. Диана вернулась закончить то, за чем их прервали, все так просто. И, несмотря на причудливые звуки, которые раздавались у нее из горла, и остекленевшие глаза, она все еще была привлекательной женщиной. Диана обернулась, и Кэллоуэй уставился на ее полные груди – бледнее, чем он помнил, но такие же прекрасные. Штаны становились тесными и неудобными, а ее поведение только ухудшало ситуацию – как она терлась бедрами, словно последняя стриптизерша в Сохо, как проводила ладонями между ног.
– Не волнуйся обо мне, – сказала она. – Я сделала выбор. Все, чего я хочу на самом деле…
Она положила свои руки, только что побывавшие между ног, ему на лицо. Они были холодными как лед.
– Все, чего я хочу на самом деле, – это ты. Я не могу получить и секс, и сцену… У всех в жизни наступает момент, когда приходится принимать решение.
Она облизала губы. На губах, там, где прошел язык, не осталось влажного следа.
– После несчастного случая я задумалась, проанализировала, что мне на самом деле важно. И, если честно… – она расстегивала его ремень, – …мне глубоко плевать…
Теперь молнию.
– …и на эту, и на любую другую пьесу.
С него упали штаны.
– …Я покажу тебе, что для меня важно.
Она залезла ему в трусы и схватила его. Рука была холодной – и от этого прикосновение показалось еще сексуальнее. Диана рассмеялась, закрыв глаза, стянула его трусы до середины бедер и встала на колени у ног Кэллоуэя.
Она была профессиональна, как всегда, ее горло раскрылось, как труба. Во рту было суше, чем обычно, язык казался шершавым, но ощущения сводили его с ума. Так хорошо, что он едва ли замечал легкость, с которой она его поглощала, брала куда глубже, чем получалось раньше, пользуясь всеми известными ей приемами, чтобы цеплять за живое. Медленно и глубоко, потом набирала скорость, пока он чуть не кончал, и снова замедлялась, пока потребность не проходила. Он был целиком в ее власти.
Кэллоуэй открыл глаза, чтобы посмотреть, как она работает. Диана насаживалась на него, и на ее лице застыл восторг.
– Боже, – выдохнул он, – как хорошо. О да, да.
Она даже бровью не повела в ответ – просто беззвучно продолжала. Не было слышно ее обычных звуков – стонов удовлетворения, тяжелого дыхания через нос. Диана в абсолютной тишине заглатывала его плоть.
Кэллоуэй на миг задержал дыхание, а где-то в животе у него начало зарождаться предчувствие. Голова Дианы размеренно поднималась и опускалась, ее глаза были закрыты, губы сомкнуты на члене, она ни на что не обращала внимания. Прошло полминуты, минута, полторы. И вот теперь живот Кэллоуэя переполнил ужас.
Она не дышала. Минет был бесподобен потому, что она не останавливалась ни на миг, чтобы вдохнуть или выдохнуть.
Кэллоуэй почувствовал, как тело цепенеет, как эрекция чахнет у нее во рту. Она не сбивалась с ритма; неустанная работа продолжалась, пока его разум формулировал невообразимую мысль:
Она мертва.
Я у нее во рту, в холодном рту, и она мертва. Вот почему она вернулась, встала с анатомического стола и вернулась. Она горела желанием закончить то, что начала, больше не заботясь о спектакле или о сопернице. Ценила она вот эту игру – и только ее одну. И решила вечно исполнять свою роль.
Кэллоуэй ничего не мог поделать с этой мыслью, только таращился, как дурак, пока ему отсасывал труп.
Потом она как будто почувствовала его ужас. Открыла глаза и посмотрела на него. Как вообще он мог спутать этот мертвый взгляд с живым? Она спокойно вынула его съежившееся достоинство изо рта.
– Что случилось? – спросила Диана, ее певучий голос все еще изображал жизнь.
– Ты… ты не… дышишь.
Она изменилась в лице. Отпустила его.
– О, дорогой, – сказала она, перестав притворяться. – Я так плохо играю, да?
Ее голос был голосом призрака: тонким, тоскливым. Кожа, которую он посчитал столь прелестно бледной, при ближайшем рассмотрении казалась восковой.
– Ты умерла? – спросил он.
– Боюсь, что да. Два часа назад, во сне. Но я должна была прийти, Терри, так много незаконченных дел. Я сделала выбор. Ты должен быть польщен. Ты же польщен?
Она встала и залезла в сумочку, которую оставила у зеркала. Кэллоуэй посмотрел на дверь, пытаясь пошевелить ногами, но они словно приросли к полу. Кроме того, у него на лодыжках были трусы. Два шага – и он шлепнется ничком.
Диана обернулась к нему с чем-то острым и серебряным в руках. Как ни старался, он никак не мог сосредоточиться на предмете в ее руке. Но что бы это ни было, оно предназначалось для него.
Со времени постройки нового крематория в 1934 году кладбище терпело унижение за унижением. Склепы разоряли в поисках свинцовой обшивки гробов, надгробия опрокидывали и разбивали; его оскверняли псы и любители граффити. Теперь ухаживать за могилами приходили немногие. Поколение уходило, и те, у кого здесь еще были похоронены любимые, стали слишком немощны, чтобы ходить по заросшим тропинкам, или слишком ранимы, чтобы вынести зрелище такого вандализма.
Так было не всегда. За мраморными фасадами викторианских мавзолеев покоились почтенные и влиятельные семьи. Отцы-основатели, местные промышленники и сановники – все и вся, кем гордился городок. Здесь была захоронена актриса Констанция Личфилд («Доколе день дышит прохладою, и убегают тени»), хотя ее могила оставалась уникальной: за ней еще ухаживал какой-то тайный почитатель.
Этой ночью сторожа не пришли, а для влюбленных было слишком зябко. Никто не видел, как Шарлотта Хэнкок открыла дверь своей гробницы, как били крыльями голуби, аплодируя энергии, с которой она вышла, шаркая, навстречу луне. С ней был ее муж Джерард – не столь свежий, как она, ведь он умер на тринадцать лет раньше. От Хэнкоков не отставал Джозеф Жардин с семьей, равно как и Мэрриот Флетчер, и Анна Снелл, и братья Пикок; список продолжался и продолжался. В углу Альфред Кроушоу (капитан 17-го уланского полка) помогал прелестной жене Эмме подняться с гнилой постели. Всюду к трещинам в крышках гробниц прижимались лица: разве это не Кезия Рейнольдс с ребенком на руках, который прожил всего день? А вот Мартин ван де Линд («Память праведника пребудет благословенна»), чью жену так и не нашли; Роза и Селина Голдфинчи – обе выдающиеся женщины; и Томас Джерри, и…
Все имена не перечислить. Все стадии разложения не описать. Достаточно будет сказать, что они восстали: в проеденных мухами похоронных костюмах, с лицами, лишенными красоты до самого ее основания. И все же они шли, распахнув заднюю калитку кладбища и ступая по пустоши в направлении «Элизиума». В отдалении – шум машин. Над головой – рев приземляющегося самолета. Один из братьев Пикок, засмотревшись на проносившегося над ним мигающего гиганта, оступился и упал ничком, раздробив челюсть. Его ласково подняли и поддерживали весь путь до театра. Ничего страшного, да и что за воскрешение без пары смешных оплошностей?
И шоу продолжалось.
– Любовь питают музыкой; играйте
Щедрей, сверх меры, чтобы, в пресыщенье,
Желание, устав, изнемогло…
Кэллоуэя не могли найти за кулисами, но Райану от Хаммерсмита (через вездесущего мистера Личфилда) поступили инструкции начинать спектакль даже без режиссера.
– Он будет наверху, – сказал Личфилд. – На галерке. Более того, мне кажется, я вижу его отсюда.
– Он улыбается? – спросил Эдди.
– От уха до уха.
– Значит, надрался.
Актеры рассмеялись. Этим вечером было много смеха. Спектакль шел как по маслу, и, хотя они не видели публику из-за сияния недавно установленной рампы, они чувствовали, как из зала их окатывает волнами любви и радости. Актеры уходили со сцены, чувствуя душевный подъем.
– Они все на галерке, – сказал Эдди, – но, мистер Личфилд, порадовали ваши друзья старого лицедея, ох, порадовали. Они, конечно, помалкивают, но у них на лицах такие широкие улыбки.
Акт I, сцена II – и первый выход Констанции Личфилд в роли Виолы встречен внезапными аплодисментами. Да какими! Они походили на гулкий грохот малых барабанов, на хрусткие удары тысяч палочек по тысяче натянутых кож. Роскошные, оголтелые овации.
И, боже мой, она их заслуживала. Констанция играла как в последний раз, вкладывая в роль все сердце, не нуждаясь в физическом контакте, чтобы донести глубину своих чувств, но читая текст с таким умом и страстью, что лишь трепет ее руки стоил больше сотни широких жестов. После этой первой сцены каждое ее появление публика встречала такими же аплодисментами, затем погружаясь в почти благоговейное молчание.
За кулисами царило восторженное настроение. Вся труппа чувствовала успех – успех, чудесным образом вырванный из пасти катастрофы.
Вот снова! Аплодисменты! Аплодисменты!
В кабинете Хаммерсмит сквозь пьяную пелену едва заметил хрусткий гул восхищения.
Он уже наполнял восьмой стакан, когда открылась дверь. Хаммерсмит поднял взгляд и узнал в госте этого выскочку Кэллоуэя. Пришел злорадствовать, не иначе, подумал Хаммерсмит, пришел рассказать, как я ошибался.
– Чего надо?
Мерзавец не ответил. Уголком глаза Хаммерсмит заметил на лице Кэллоуэя широкую и яркую улыбку. Самодовольный недоумок, явился, когда человек в трауре.
– Полагаю, вы слышали?
Гость хмыкнул.
– Она умерла, – сказал Хаммерсмит и расплакался. – Она умерла несколько часов назад, не приходя в сознание. Я не говорил актерам. К чему?
Кэллоуэй не отреагировал на эту новость. Неужели ублюдку все равно? Неужели он не видит, что это конец света? Та женщина умерла. Умерла в кишках «Элизиума». Будут официальные расспросы, начнут проверять страховку, проведут вскрытие, дознание; раскроется слишком многое.
Он сделал большой глоток, даже не думая смотреть на Кэллоуэя.
– От этого твоя карьера не оправится, сынок. Под ударом не только я, о нет, не дождешься.
Но Кэллоуэй по-прежнему хранил молчание.
– Тебе все равно? – потребовал ответа Хаммерсмит.
Секунда молчания, потом Кэллоуэй ответил:
– Мне насрать.
– Вчерашний помреж, вот ты кто. И все вы, режиссеры, такие! Одна хорошая рецензия – и вы уже божий дар человечеству. Ну, дай-ка я тебе кое-что проясню…
Он посмотрел на Кэллоуэя – Хаммерсмиту было трудно сфокусироваться из-за алкоголя. Но он все же смог.
Кэллоуэй, грязный извращенец, пришел голый ниже пояса. В носках и туфлях, но без штанов и трусов. Его нагота казалась бы комичным, если бы не выражение его лица. Он сошел с ума: неуправляемо вращал глазами, изо рта и носа у него текли сопли и слюни, язык свесился, как у пыхтящей собаки.
Хаммерсмит поставил стакан на промокашку и увидел самое худшее. На рубашке Кэллоуэя была кровь, следы которой уходили выше шеи, к левому уху, откуда торчала пилка для ногтей Дианы Дюваль. Ее всадили глубоко в мозг Кэллоуэя. Он явно был мертв.
И все-таки стоял, говорил, ходил.
В театре раздалась новая волна аплодисментов, приглушенных расстоянием. Почему-то это было сложно назвать настоящим звуком, он доносился из другого мира – края, где правили эмоции. Мира, из которого Хаммерсмит чувствовал себя исключенным. Актер из него всегда был так себе – видит бог, он пробовал, – а две его пьесы, он понимал и сам, никуда не годятся. Его сильной стороной была бухгалтерия, и он уже привык держаться как можно ближе к сцене и при этом ненавидел нехватку искусства в себе в той же мере, в какой завидовал талантам других.
Овации угасли, и, словно по слову невидимого суфлера, Кэллоуэй бросился на Хаммерсмита. Его лицо казалось маской, но не трагической или комической, в ней слились и кровь, и смех. Загнанного Хаммерсмита приперли к стенке. Кэллоуэй заскочил на стол (как нелепо он выглядел – с развевающимся подолом рубашки и подпрыгивающими яйцами) – и схватил бухгалтера за галстук.
– Филистер, – сказал Кэллоуэй, которому уже было не познать душу Хаммерсмита, и – хрусть! – сломал ему шею под снова разразившиеся аплодисменты.
– Не обнимай меня, не убедясь
Сличеньем обстоятельств, мест и сроков,
Что я Виола.
Из уст Констанции слова звучали откровением. Как будто «Двенадцатая ночь» – новая пьеса, а роль Виолы написана для Констанции Личфилд и только для нее одной. Актеры, делившие с ней сцену, чувствовали, как пред лицом такого дарования съеживается их эго.
Последний акт продолжался до самого момента светлой печали в финале, и публика сидела завороженная, как и прежде, если судить по их неослабевающему вниманию.
Заговорил Герцог:
– Дай мне руку;
И покажись в своем девичьем платье.
На репетиции это приглашение игнорировалось: никому нельзя было касаться Виолы, не говоря уже о том, чтобы взять за руку. Но в разгар выступления обо всех табу забыли. Одержимый страстью, актер потянулся к Констанции. Она же, в свою очередь, забыв о запретах, ответила на его касание.
Личфилд за кулисами выдохнул себе под нос «нет», но его приказ никто не услышал. Герцог схватил ладонь Виолы – жизнь и смерть слились под нарисованным небом.
Рука оказалась холодной – без крови в венах и без румянца на коже.
Но здесь она была не хуже живой.
Они были равны, живой и мертвая, и никто не нашел бы достойного повода разъединить их.
Личфилд за кулисами вздохнул и улыбнулся. Он страшился этого касания – страшился, что оно разрушит чары. Но сегодня с ними был Дионис. Все будет хорошо, он чувствовал это всем своим существом.
Акт подходил к концу, и Мальволио, который даже после поражения все еще сыпал угрозами, укатили. Актеры один за другим покидали сцену, предоставляя Шуту завершить пьесу.
– Наш мир начался давным-давно,
Тут и т. д.
Но все равно, раз вам смешно,
Мы хотим смешить вас каждый день.
Сцена потемнела, и опустился занавес. Галерка взорвалась восторженными аплодисментами – все теми же хрусткими, грохочущими аплодисментами. Труппа, чьи лица сияли еще с генеральной репетиции, выстроилась за кулисами для поклона. Занавес поднялся: аплодисменты нарастали.
За кулисами к Личфилду присоединился Кэллоуэй. Он уже оделся – и смыл кровь с шеи.
– Что ж, блестящий успех, – сказал череп. – Какая жалость, что состав так скоро распустят.
– И в самом деле, – ответил труп.
Актеры звали Кэллоуэя присоединиться к ним. Они аплодировали ему, просили показаться.
Он положил руку на плечо Личфилда.
– Выйдем вместе, сэр, – сказал он.
– Нет-нет, как можно.
– Вы должны. Это в той же мере ваш триумф, как и мой.
Личфилд кивнул, и они вышли вместе, чтобы поклониться бок о бок с труппой.
За кулисами трудилась Талула. После сна в артистической она чувствовала себя возрожденной. Сколько неприятностей ушло вместе с жизнью. Она уже не страдала от боли в бедре или ползучей невралгии в затылке. Больше не было необходимости вдыхать воздух через забитые семидесятилетние трахеи или потирать тыльные стороны ладоней, чтобы разгонять кровь; не надо даже моргать. Она с новой силой готовила костры из хлама с прошлых постановок: старых задников, реквизита, костюмов. Собрав все эти горючие тряпки в кучу, она чиркнула спичкой и подпалила их. «Элизиум» загорелся.
Кто-то перекрикивал аплодисменты:
– Чудесно, друзья, чудесно!
Это был голос Дианы – его узнали все, хотя не видели ее саму. Она, покачиваясь, плелась по центральному проходу к сцене, выставляя себя круглой дурой.
– Глупая сучка, – сказал Эдди.
– Черт! – воскликнул Кэллоуэй.
Диана уже была у края сцены, обвиняя его.
– Что, получил, что хотел? Это твоя новая любовница, да? Да?
Она пыталась взобраться на сцену, хватая руками раскаленные металлические кожухи рампы. Ее кожа начала гореть, жир по-настоящему вспыхнул.
– Ради бога, кто-нибудь, остановите ее, – сказал Эдди. Но она как будто не чувствовала ожогов, только рассмеялась ему в лицо. Над рампой поплыл запах горелой плоти. Труппа начала разбегаться, забыв о триумфе.
– Выключите свет! – закричал кто-то.
Пауза, а затем освещение погасло. Диана упала со сцены, ладони ее все так же дымились. Один из актеров лишился чувств, другого вырвало за кулисами. Где-то позади они слышали слабое потрескивание пламени, но сейчас их внимание привлекало другое.
Без огней рампы они отчетливо увидели зал. Партер был пуст, но балкон и амфитеатр до отказа забили восхищенные почитатели. Ни одного свободного места, в каждом свободном дюйме в проходах толпилась публика. Кто-то наверху снова захлопал – в одиночестве, пока волна оваций не поднялась заново. Но теперь уже немногие из актерского состава ощутили прилив гордости.
Даже со сцены, окидывая зал усталыми и ослепленными глазами, было очевидно, что в этой обожающей публике нет ни единого живого мужчины, женщины или ребенка. Они махали платочками из тонкого шелка, зажатыми в гнилых кулаках, некоторые выбивали ритм на спинках сидений перед собой, большинство просто хлопало, костью о кость.
Кэллоуэй улыбнулся, низко поклонился и принял их восхищение с признательностью. За все пятнадцать лет службы в театре он не встречал такой благодарной аудитории.
Купаясь в любви почитателей, Констанция и Ричард Личфилды сомкнули руки и вышли в просцениум для очередного поклона, пока живые актеры в ужасе отступали прочь.
Они кричали и молились, они подвывали, они бежали, словно разоблаченные любовники в фарсе. Но, как и в фарсе, выхода из ситуации не было. Балки крыши щекотало яркое пламя, справа и слева спустились полотна дыма, когда огонь охватил колосники. Впереди – смерть, позади – смерть. Воздух начал густеть от дыма, стало ни зги не видно. Кто-то уже облачился в тогу из горящего холста, сменив реплики на вопли. Кто-то орудовал огнетушителем против геенны огненной. Все тщетно: провальная комедия, да еще и плохо поставленная. А когда начала проваливаться и крыша, смертоносные падения досок и балок оборвали большинство криков.
Публика в большинстве своем удалилась из амфитеатра. Они поковыляли обратно в могилы задолго до появления пожарных, и, когда оглядывались через плечо на гибель «Элизиума», пожар подсвечивал их саваны и лица. Это было славное представление, и они возвращались домой довольные, готовые провести еще долгое время за сплетнями во тьме.
Пожар бушевал всю ночь вопреки отважным усилиям пожарных. К четырем утра битву признали безнадежной, и огню дали полную свободу. К рассвету с театром было покончено.
В руинах обнаружили останки нескольких человек, причем большинство тел было в таком состоянии, что было невозможно опознать их на месте. По слепкам с зубов в одном из трупов признали Джайлса Хаммерсмита (администратора), в другом – Райана Хавьера (помощника режиссера) и, что шокировало больше всего, в третьем – Диану Дюваль. «Звезда сериала “Дитя любви” погибла в пожаре», – гласили таблоиды. Ее забыли через неделю.
Выживших не было. Некоторые тела так и не нашли.
Они стояли на обочине шоссе и смотрели, как машины уносятся в ночь.
Тут были, конечно же, Личфилд и Констанция, как всегда блистательная. Кэллоуэй решил отправиться вместе с ними, как и Эдди, и Талула. К их труппе присоединились еще трое или четверо.
Это была их первая ночь свободы, и вот они на вольной дороге, странствующие актеры. Эдди задохнулся от дыма, но некоторым повезло меньше, и они получили во время пожара серьезные травмы. Обгоревшие тела, сломанные конечности. Но публика, для которой они станут играть в будущем, простит им мелкие увечья.
– Одни живут ради любви, – сказал Личфилд своему новому коллективу, – другие живут ради искусства. Мы, счастливчики, избрали последнее.
Актеры зааплодировали.
– Вам, неумершим, я говорю: добро пожаловать в мир!
Смех, новые аплодисменты.
Фары машин, летевших по шоссе на север, высвечивали силуэты новой театральной труппы. Все ее участники выглядели как живые люди. Но не в этом ли фокус их ремесла? Подражать жизни так, что иллюзия становится неотличимой от реальности? И их новая публика, ожидающая в моргах, на церковных кладбищах и в прочих местах упокоения, сумеет оценить этот талант больше других. Кому аплодировать притворным страстям и боли, как не мертвым, которые уже все испытали и наконец отбросили чувства прочь?
Мертвые. Они нуждались в развлечении не меньше, чем живые, и это направление, увы, оставалось невозделанной нивой.
Впрочем, новая труппа будет выступать не ради денег, а ради любви к искусству – это Личфилд дал понять с самого начала. Больше никакого служения Аполлону.
– Теперь, – сказал он, – куда ляжет наш путь? На север или юг?
– На север, – сказал Эдди. – Моя матушка похоронена в Глазго – она умерла раньше, чем я начал играть профессионально. Я бы хотел, чтобы она меня увидела.
– Да будет так, – сказал Личфилд. – Найдем себе транспорт?
Он возглавил процессию, направившуюся к придорожному ресторану, где припадочно мигал неон, не подпуская ночь на расстояние вытянутых лучей. Краски казались по-театральному яркими: алый, лаймовый, кобальтовый и белый плескались в окнах, отбрасывая отсветы на парковку, где остановились путники. Зашипели автоматические двери, вышел путешественник с дарами гамбургеров и пирожных для ребенка, сидевшего на заднем сиденье машины.
– Какой-нибудь дружелюбный водитель найдет для нас уголок, – сказал Личфилд.
– Да всех нас? – спросил Кэллоуэй.
– Грузовик сойдет, нам, беднякам, не приходится выбирать, – сказал Личфилд. – А мы теперь именно бедняки, игрушка в руках наших покровителей.
– Всегда можно угнать машину, – сказала Талула.
– Ни к чему красть, разве что в случае крайней нужды, – сказал Личфилд. – Мы с Констанцией пойдем и найдем нам шофера.
Он взял жену за руку.
– Никто не сможет устоять перед красотой, – сказал он.
– А что делать, если кто-нибудь спросит, что нам здесь понадобилось? – нервно спросил Эдди. Он еще не свыкся с новой ролью, его нужно было подбадривать.
Личфилд обернулся к труппе, и его голос зычно прозвучал в ночи:
– Что делать? Играйте жизнь, конечно же! И улыбайтесь!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?