Читать книгу "Амур. Между Россией и Китаем"
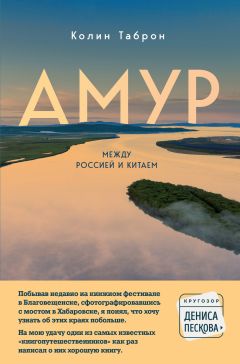
Автор книги: Колин Таброн
Жанр: Книги о Путешествиях, Приключения
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Нерчинск находится в упадке с конца девятнадцатого века – когда его обошла Транссибирская магистраль. Его далекие серебряные рудники давно выработаны, а заводы остановились. Рядом с местом, где в Шилку впадает Нерча, находится тюрьма, а на окраине расположен заброшенный военный аэродром. Я тщетно ищу какой-нибудь памятник подписанному здесь договору – соглашению, нарушения и обещания которого отзываются уже на протяжении трех столетий.
Нерчинский договор 1689 года стал первой преградой на стремительном завоевании Сибири Россией. Менее чем за шестьдесят лет казаки и солдаты прошли весь континент – пять тысяч километров от Уральских гор до Тихого океана. В морозном административном центре Якутске, в тысяче километров от еще неизвестного Амура, распространились слухи о могучей реке на юге, текущей по райским хлебным полям. В 1643 году из голодного поселения началась отчаянная, занявшая три года экспедиция под начальством Василия Пояркова; казаки разоряли среднее течение Амура, взимая меховую дань с разбросанных даурских поселений или вырезая их. К концу пути отряд Пояркова из-за голода, болезней и наказаний (некоторых людей он убил лично) сократился со 150 до 20 человек, и он вернулся в Якутск с первыми ориентировочными картами Амура. В соответствии со схемой, которая еще будет повторяться, Пояркова отозвали на разбирательство в Москву, и его имя исчезает из документов[28]28
Автор ошибается. После возвращения в Якутск в 1646 году Поярков оставался там в прежней должности «письменного головы» до 1648 года, затем отправился с докладом в Москву, а после приезда туда подал челобитную о написании его «за службу по московскому списку», чем его государь и пожаловал. Имя Пояркова как московского дворянина упоминается в хрониках вплоть до 1668 года. (Прим. пер.)
[Закрыть].
Четыре годя спустя на Амур пришла еще более страшная напасть – пират Ерофей Хабаров разорял приречные поселения на протяжении более 800 километров. В одном случае он хвастался, как «божьей милостью» расправился с жителями даурской деревни (661 человек), а также массовыми изнасилованиями[29]29
В донесении Хабарова акценты несколько иные. «И драка была съемная и копейная у нас казаков, и Божиею милостию и государским счатьем, тех Дауров в пень порубили всех с головы на голову и тут на съемном бою тех Даур побили четыреста двадцать семь человек болших и малых, и всех их побито Дауров, которые на съезд и которые на приступе и на съемном бою, болших и малых шестьсот шестдесят один человек, а наших казаков убили они Дауры четырех человек, да наших же казаков переранили они Дауры тут у городка сорок пять человек; и те все от тех ран казаки оздоровели; и тот город, государским счастьем, взят с скотом и с ясырем, и числом ясырю взято бабья поголовно старых и молодых и девок двести сорок три человека, да мелкого ясырю робенков сто осмнадцать человек». (Отписка Якутскому воеводе Димитрию Францбекову служиваго человека Ерофея Хабарова.) После проведения расследования его разбойничьих методов Хабаров больше в походы не ходил, а позже российский дипломат заявил китайцам, что Хабаров действовал самовольно. (Прим. пер.)
[Закрыть].
Но теперь местные народы обратились к номинальному сюзерену – Китаю. Хабарова отозвали на разбирательство в Москву, а его потенциальный преемник с двумя сотнями людей с лишним был разбит китайскими пушками на нижнем Амуре[30]30
Автор подразумевает казака Онуфрия Степанова, которого назначили заместителем Хабарова, и речное сражение на Корче́евской луке между судами-дощаниками казаков (11 судов, 6 пушек, около 360 человек) и цинской флотилией (около 50 судов, полсотни пушек, около 1400 человек). Спастись удалось только одному дощанику; 270 казаков, включая Степанова, погибли. (Прим. пер.)
[Закрыть]. В течение тридцати лет после этого две великие империи вели теневую войну, проявляя невежественную дипломатию; тем временем в бассейн Амура хлынул не контролируемый государством поток казаков, крестьян и преступников. Только после 1680 года, когда власть маньчжуров в Китае окрепла, они стали уничтожать русские крепости, и после гибели восьмисот с лишним казаков в их последнем амурском оплоте[31]31
Вторая осада крепости Албазин в 1686–1687. Цинские войска так и не сумели ее взять, потеряв в штурмах 2500 человек, однако в гарнизоне осталось всего примерно полтораста человек из 826. По Нерчинскому договору русские обязались снести крепость. Сейчас на этом месте село Албазино. (Прим. пер.)
[Закрыть] Москва и Пекин приступили к мирным переговорам.
К тому времени Нерчинск стал воротами России к Амуру, хотя представлял собой всего лишь огороженную крепость с несколькими административными и торговыми постройками. Потом деревянное поселение было уничтожено разливом, и его отстроили заново на более высоком месте; однако именно прибрежные луга стали местом заключения первого договора между Китаем и европейской державой. Две империи[32]32
На тот момент Россия не была империей, а именовалась Русским царством. (Прим. пер.)
[Закрыть] – русская выскочка и древняя китайская – были крайне чужды друг другу. Петр Великий, которому едва исполнилось семнадцать, был озабочен внутренними неурядицами, но оскудевшая казна мечтала о торговле с Китаем[33]33
На самом деле правительницей страны была Софья (как регент), но как раз в те дни Петр активно старался перехватить власть и вскоре этого добился. (Прим. пер.)
[Закрыть]. Китайский император Канси, самый могущественный и утонченный представитель своей династии, заботился о том, чтобы защитить границы от вторжений жестоких северян и помешать России вступить в союз с новой воинственной монгольской державой, поджимающей с запада.
Делегации соглашались встретиться с соблюдением скрупулезного равенства, однако у двух китайских послов (близких родственников императора), прибывших из Пекина, имелось 1500 солдат; к Нерчинску по реке подошла флотилия джонок и барж, несущих пушки. Против такого эскорта численностью в 10 тысяч человек русские могли собрать едва две тысячи. Однако всё подавляли вопросы процедуры и этикета. Заметив, что русские носят меха и золотую парчу, китайцы сняли украшенные одеяния и отправились на встречу в темных одеждах под огромными шелковыми зонтами. У каждого посольства было поровну – по 260 – охранников, которые встречались через равные промежутки времени и церемониально обыскивали друг друга, ища спрятанное оружие. Русский посол[34]34
Федор Алексеевич Головин. (Прим. пер.)
[Закрыть] ехал за медленной процессией флейтистов и трубачей. Посланники дружно спешились и одновременно вошли в два шатра, поставленные впритык друг к другу, чтобы ничья гордость не пострадала от того, что приходится входить первым. Послы сели и поприветствовали друг друга. У русских места заняли всего три высокопоставленных лица, китайцы во время первой встречи поставили напротив больше сотни мандаринов. Стороны не понимали друг друга, поскольку не владели соответствующими языками. Поэтому переговоры велись на латыни – два иезуита, приближенные к китайскому двору, и один эрудированный поляк для русских[35]35
Соответственно, француз Жан-Франсуа Жербийон, португалец Томас Перейра, православный поляк Андрей Белобоцкий. В качестве второго языка общения использовался монгольский, хотя тот же Жербийон утверждал, что монгольские переводчики с обеих сторон говорят на примитивном языке, не годном для дипломатических выражений. (Прим. пер.)
[Закрыть].
Обе стороны начали с непомерных требований. Русские предложили сделать границей Амур – в силу того, что они уже частично захватили эту территорию и приняли местные племена под руку царя. Китайцы заявили о своем протекторате до озера Байкал и реки Лены, присвоив половину Сибири. Они также ссылались на подчиненность местных жителей, хотя обе стороны не заботились о территориальных правах таких народов. В течение десяти дней отцы-иезуиты – португалец Перейра и француз Жербийон – курсировали между мрачными лагерями с новыми формулировками и компромиссами. Милость императора выделяла их среди подозрительных мандаринов. Канси ценил Жербийона как ученого, а Перейра вызывал уважение музыкальными способностями: иногда можно было видеть, как император и иезуит сидят рядом и играют на клавесине.
В конце концов русские обеспечили договором торговлю, нужную для их обедневшей казны, а цинская империя добилась более серьезных уступок. Граница была установлена по вершинам Станового хребта[36]36
На самом деле географических знаний сторонам не хватало, и в тексте были указаны неопределенные «Каменные горы»: «Река, имянем Горбица, которая впадает, идучи вниз, в реку Шилку, с левые стороны, близ реки Черной, рубеж между обоими государствы постановить. Такожде от вершины тоя реки Каменными горами, которые начинаются от той вершины реки и по самым тех гор вершинам, даже до моря протягненными, обоих государств державу тако разделить, яко всем рекам малым или великим, которые с полудневные стороны с их гор впадают в реку Амур, быти под владением Хинского государства». (Прим. пер.)
[Закрыть], то есть владычество китайцев распространялось севернее Амура, охватывая все притоки от Аргуни до Тихого океана[37]37
Современная историография считает Нерчинский договор достаточно равноправным, хотя в разное время обе стороны считали его и выгодным, и невыгодным для себя. Китайцы получили обратно захваченные русскими территории, но нужно учесть неравенство сил. За спиной цинской делегации стояла большая армия, которую можно было собрать в приемлемые сроки, в то время как Головин работал в куда более сложных условиях: на всех территориях Русского царства восточнее Байкала с трудом набралось бы несколько тысяч солдат. (Прим. пер.)
[Закрыть].
Договор был составлен на латинском, русском и маньчжурском языках[38]38
Поскольку Китаем правила маньчжурская династия, не стоит удивляться отсутствию китайского языка. (Прим. пер.)
[Закрыть]. Обе стороны, похоже, остались довольны. Спустя век с лишним русские стали беспокоиться по поводу договора, обвиняя иезуитов в вероломстве и двусмысленностях латыни и географии. Однако на тот момент, если использовать слова китайского посольства, «мы дали общую клятву жить в мире и согласии».
Ни одного памятника этому договору в Нерчинске нет; в запустевшем городе улицы разматываются какими-то неисчерпаемыми расстояниями, а здания, к которым они ведут, уменьшаются в размере, когда я к ним приближаюсь. Естественно, это иллюзия, и где-то недалеко от центра я испытываю странный шок: передо мной белизной сияет идеальный фасад – с дверями и сводчатыми окнами, увенчанный декоративными зубцами.
Я прохожу вдоль его стен в дикий садик. На клумбах одновременно цветут георгины, петунии и львиный зев, и воздух наполнен их смешанным ароматом. Из кустарника поднимаются мастерские и конюшни – зубчатые блоки расколотой штукатурки и голого кирпича. Их крыши провалились, а полы совершенно сгнили. Возможно, я вхожу в барбакан какого-то рухнувшего замка[39]39
Барбака́н – внешнее сооружение замка или крепостной стены. (Прим. пер.)
[Закрыть]. Недавно один оборотистый журналист наткнулся здесь на огромную расколошмаченную оранжерею и аккуратные грядки клещевины. Теперь этот дворец стал музеем; я плачу какую-то мелочь за вход и оказываюсь в одиночестве.
Огромное зеркало в музыкальном зале с обеих сторон обрамляют портреты, с которых смотрят два хмурых лица. Братья Бутины были предпринимателями, которые разбогатели, работая на сибирского торговца чаем по фамилии Кандинский – двоюродного деда будущего художника. Вскоре они стали масштабно заниматься золотом, железом, солью и винокурением. Их пароходы плавали по Амуру. В 1860-х годах они преобразовали Нерчинск, построив в городе библиотеку, телеграфную станцию, аптеки, типографии и бесплатную музыкальную школу.
Я с изумлением смотрю на портреты. Свой дворец они построили в конце 1870-х[40]40
На самом деле дворец начали строить еще в 1864 году. (Прим. пер.)
[Закрыть], когда уже половина района была обеспечена начальными школами, а через год-два их бизнес начал разваливаться. Сами они были не очень образованы, но парадные помещения чаруют музыкой и книгами. Над окнами музыкального зала – панно с изображениями нотных станов, лир и труб, перевитых именами Моцарта, Баха, Россини, Глинки… В галерее, где позолоченные купидоны играют на арфах и цимбалах, некогда звучал оркестрион с 60 трубами[41]41
Оркестрион – разновидность органа. (Прим. пер.)
[Закрыть]. В библиотеке – монографии и энциклопедии в заплесневелых переплетах на пяти языках.
Возможно, смотрящие вдаль люди на портретах встревожены только в воображении посетителей музея. У старшего брата Николая расширяющаяся седоватая борода и волнистые брови над страдальческими глазами. Он был астматиком и не мог жить в собственном дворце, а предпочитал проветриваемый павильон рядом. Энергией и мозгом фирмы стал его младший брат Михаил. В витринах лежат его почетные дипломы, на соседнем столе – деловое письмо, написанное его беглым почерком, рядом – гусиное перо.
Большая семья Бутиных предстает на фотографиях такой же сумрачной и с виду респектабельной, как любой викторианский клан. Меланхолик Николай выглядит более изнуренным, а первая жена Михаила Софья, в память о которой он построил женскую школу, неузнаваемо выглядывает из-под прелестной шляпки.
Сам Михаил – более тощий и более походивший на азиата, нежели показывает портрет – писал книги, пропагандирующие торговлю с Китаем и Соединенными Штатами, куда он ездил в поисках идей, сетуя на отсталость России. Он предвидел строительство континентальной железной дороги за двадцать лет до начала строительства Транссибирской магистрали. Однако предприятия Бутиных оказались в руках кредиторов и были распроданы. Измученный тревогой Николай умер в 1892 году, а Михаил передал свой особняк городу и скончался далеко отсюда, в Иркутске[42]42
Автор ошибается. Хотя последние годы Бутин провел в основном в Иркутске, перед смертью в 1907 году он вернулся в Нерчинск. (Прим. пер.)
[Закрыть].
Должно быть, такие звучные залы уникальны для Сибири. Подобно острову среди шахт и пустынных холмов, они вызывали трепет современников, пока большевистская революция не выпотрошила их. На стенах над инкрустированными полами некогда сияли гобелены, шелковые занавеси и картины старых фламандских мастеров; в теплице, наполненной орхидеями и лимонными деревьями, стояла кремовая и золотая мебель, обитая атласом или задрапированная восточными коврами.
Однако главным чудом остается музыкальный зал, пустое пространство которого удваивается четырьмя громадными зеркалами. В порыве гордыни Бутины купили их на Парижской выставке 1878 года – чудовищные трюмо[43]43
Трюмо (фр. trumeau – простенок) – изначально высокое зеркало, которое крепилось в простенке. (Прим. пер.)
[Закрыть] почти восьмиметровой высоты – и переправили через полмира в устье Амура, где специально построенная баржа провезла их три тысячи километров до Нерчинска. Самое большое из них – крупнейшее зеркало мира того времени – обращено к дверям зала, и каждый входящий выглядит карликом в зеркальной арке, увенчанной отдыхающими херувимами.
Выхожу на яркий свет улицы. Щит на близлежащей ограде изображает знаменитостей, которые за последние двести лет побывали в Нерчинске. Рядом с Чеховым я вижу мрачный профиль и свисающие усы американца Джорджа Кеннана, который путешествовал по Сибири в конце девятнадцатого века и показал царский карательный режим в мрачно-разоблачительном двухтомном труде «Сибирь и система ссылки». Предыдущие его работы убедили российские власти, что Кеннану можно доверять, и он больше года, все сильнее теряя иллюзии, изучал каторжные шахты и тюрьмы Восточной Сибири, больше всего возмущаясь после встреч с узниками совести. После бездарного восстания декабристов против царя Николая в 1825 году и жестоко подавленного польского восстания 1863–1864 годов противников режима сослали в безобидно названный Нерчинский горный округ, дикие территории которого простирались на тысячи квадратных километров к юго-востоку. В 1885 году Кеннана отталкивало не столько опасное состояние шахт, сколько антисанитария в тюрьмах, где заключенные месяцами бездельничали под присмотром безразличных и коррумпированных служащих.
В Нерчинск он приехал совсем измотанным, оказался в самой отвратительной гостинице в своей жизни и с горьким юмором описал шныряние крыс и тараканов, зеленоватую раковину для умывания, одновременно служившую туалетом, а также отсутствие кровати и зеркала, чтобы получить «меланхолическое удовлетворение от созерцания своего обмороженного лица». Именно Кеннан оставил наиболее полное описание дворца Бутиных, тогда еще нетронутого, и приветствовал Михаила Бутина как «наполовину американца по идеям и симпатиям».
Вернувшись домой, Кеннан многие годы читал лекции, которые посетило больше миллиона американцев; иногда он поднимался на сцену в одежде заключенного с надетыми кандалами. Полвека спустя его внучатый племянник Джордж Фрост Кеннан стал влиятельным дипломатом, историком и специалистом по СССР – противостоя империи, трудовые лагеря которой намного превосходили по ужасу те, которые осуждал его родственник.
В деревне Калиново в нескольких километрах южнее Нерчинска стоит одинокая церковь, где, по слухам, захоронен Ерофей Хабаров, жестокий первопроходец Амура. Издалека, задолго до попадания в деревню, я замечаю почерневшие главы, покосившиеся под крестами. Гигантские трещины раскололи фасад церкви сверху донизу. Везде в проломы вливается кустарник. Там, где могли быть могила или памятник, из фундамента высыпаются оштукатуренные кирпичи. Кто-то повесил несколько икон и поставил жестяной стол в качестве алтаря.
– На западе России церкви сохраняют, – с горечью говорит мне одна деревенская женщина, – а нашим позволяют разрушаться. – Она преподает в местной школе и не знает, что рассказывать детям. – Наша церковь за пятьдесят лет превратилась в руины. Был когда-то какой-то памятник, но он исчез. Никто его не помнит.
Другая легенда гласит, что тут под стенами был похоронен брат Хабарова – Никифор. Однако эту Успенскую церковь поставили в 1712 году (едва ли не старейшая каменная церковь в Восточной Сибири), а Хабаровы умерли за десятилетия до того. Самого Ерофея отозвали в Москву для разбирательства его многочисленных преступлений, затем помиловали; дальше он лишь эпизодически упоминается в документах. Место его смерти неизвестно. Советские историки свели его злодеяния к простой сноске и приписали ему присоединение к России всего бассейна Амура, словно Нерчинского договора никогда не существовало.
Копия договора когда-то выставлялась во дворце Бутиных, но я ее не нашел. После вопроса меня отвели по лестнице в кабинет наверху, где смотритель вытащил его из красной папки и крайне осторожно положил мне на колени. Никто не знал возраста документа, а его тройной текст был для меня нечитаемым: латынь иезуитов, маньчжурское письмо (с красивой печатью) и старая русская кириллица, которая своей изысканной и красивой точностью создавала иллюзию, что она долговечнее других.
Глава 4
Шилка
Моя гостиница пуста. Кто-то кормит кур, кто-то убирает коридоры, но я никого из них не вижу. Номер у меня большой, и я собираю одеяла и подушки с других кроватей, чтобы перед сном обложить свои ребра и лодыжку. Ночью от боли ничего не отвлекает. Ты задаешься вопросом, не следует ли вернуться домой, но знаешь, что не вернешься. Если решишь пропустить какое-то запланированное место, то оно немедленно начнет мучить своими перспективами и обещаниями.
К утру я становлюсь несколько смешным. Я сижу, страдающе, на кровати, соображая, как встать. Чтобы нагнуться – завязать шнурок или поднять что-то упавшее, – нужно проявлять досаждающую осмотрительность. Присесть над дырой в уборной – опасный риск. На улице я ловлю себя на том, что иду мелкими немощными шажками, как после инсульта, и с сочувствием вспоминаю стариков моей юности. Теперь я один из них.
Однако остается глупая гордость. Надеюсь, что мою неуверенную походку не примут за пьяную. Я пытаюсь удлинить шаг. Может быть, меня сочтут жертвой несчастного случая на производстве: возможно, даже примут за ветерана – Героя Социалистического Труда (хотя в Нерчинске заводов не осталось). Когда я иду, болящие ребра отвлекают от пульсирующей лодыжки – словно я могу выдерживать только одну боль за раз. Где-то примерно через час, если окружающая обстановка достаточно отвлекает, боль растворяется в теле, пока о ней почти не забываешь.
Поэтому я снова, полный предвкушений, поворачиваю на восток и преодолеваю почти сто километров до Сретенска – за рулем машины угрюмый студент, подрабатывающий извозом и желающий жить в Лондоне. Местность вокруг меняется. Призрачные линии холмов по обеим сторонам дороги начинают уплотняться и сходиться. Деревни становятся меньше и беднее. В Сретенске боковой путь железной дороги заканчивается тупиком с застрявшими вагонами на дальнем берегу Шилки. Здесь, где горы начинают поджимать реку на ее пути к Китаю, этот маленькой городок продолжает жить в искривлении времени. Когда-то в Сретенске встречались сухопутный поток товаров с запада и судоходная река, текущая на восток, и более полувека флотилия пароходов была канатом, связывающим Европейскую Россию и побережье Тихого океана. Но в 1916 году Транссиб обошел маленький речной порт, который сразу устарел, и теперь я въезжаю в городок мягкого спокойствия, где дорога с деревянными домами оказывается центральной улицей, лесистые холмы маячат совсем рядом, и ничто не перекрывает прошлое. Дома с резными наличниками и яркими раскрашенными ставнями могут оказаться избушками из русских народных сказок, где живут ведьмы-людоедки или дурачки, а над пустой рекой сохранились красивые здания из оштукатуренного кирпича.
Единственная гостиница здесь спрятана в ветшающем здании с лепниной и облупившейся побелкой, которое стоит у парка, спускающегося к причалу. Каменная лестница внутри ведет мимо голландской печи в помещение из отполированного временем дерева. В 1904 году здесь располагался Русско-Китайский банк, но теперь массивные железные двери открываются в душную бильярдную. Единственный человек здесь – девушка-администратор с грустными глазами, уткнувшаяся в мобильный телефон. Я иду по темному коридору под позолоченными светильниками и маленькими канделябрами, украшающими его подобно макияжу. Старинные напольные часы отбивают время наугад, а заводной граммофон крутит на 78 оборотах в минуту песню Марии Лукич «Не улетай».
Возможно, интимная камерность городка, спрятанного в холмах и укутанного рекой, распространяет мягкую эйфорию. Безотлагательность моего путешествия затихает, и я погружаюсь в благотворную праздность. Даже памятники города кажутся тающими в далеком прошлом. Выкрашенный серебрянкой Ленин машет рукой из заросшего парка, а единственный видимый корабль – списанное сторожевое судно, установленное в качестве памятника. Но я слышал, что дважды в неделю из города Шилка сюда приходит небольшое пассажирское судно, которое идет дальше по течению к отдаленным поселениям, и я смотрю на реку, уходящую на восток к Китаю, извиваясь между заросшими лесом холмами.
Три дня я нянчусь с этой идеей, нервно прогуливаясь вдоль Шилки по ухабистой дороге, пока великая река блестит рядом. На огородах трудятся старики, через дорогу бесконтрольно бродит скот. Река стала чуть шире, чем неделю назад – наверное, метров триста пятьдесят, но здесь она течет по-иному: ее сковывают холмы, а поверхность искажена частыми водоворотами, словно у ртути. И она сохраняет одиночество. Никто не рыбачит, никто не плывет. Тишина такая, что слышно, как разговаривают люди на противоположном берегу.
Однако более полувека назад здешняя набережная, сжавшаяся сейчас до нависающей над водой платформы, была нервным центром неопрятного транзитного городка. На немногочисленных сохранившихся снимках мигранты из России и Украины стоят на причале с оборванными детьми и упакованными вещами в ожидании парохода, который, возможно, повезет их к новым надеждам. Они выглядят трогательно незащищенными. Женщины в ситцевых юбках и мужчины в овчинах, уже измученные работой, отправляются на отведенные им участки земли – к лотерее наводнений и маньчжурских бандитов. Такие семьи присоединялись к казакам и гарнизонам на Амуре в качестве земледельцев и торговцев. Многие были старообрядцами – сектантами, не принявшими реформы в православии, и их бережливость и трудолюбие создали в итоге скромный достаток этого региона, пока их не поглотили крестьяне, хлынувшие по Транссибирской магистрали, и напасти Гражданской войны.
Этих людей перевозили железные колесные пароходы, построенные на верфях Глазго и Бельгии. Двухпалубные конструкции с тонкими трубами и неуклюжими колесами обычно принадлежали иностранцам – британцам, американцам, немцам, японцам. Невеликая осадка – метр с небольшим – позволяла плавать в условиях перемещающихся песчаных отмелей, являющихся проклятием Амура. Днем и ночью матрос на носу прощупывал дно трехметровым шестом и выкрикивал предупреждения рулевому. Когда суда двигались в темноте, их путь освещали маленькие масляные фонари – красные с китайской стороны, белые с русской, а запасы масла пополняли одинокие фонарщики на лодках-долбленках.
Еще в 1866 году американский журналист Томас Нокс, совершавший кругосветное путешествие, поражался массе людей, устроивших лагерь на борту судна «Корсаков»: толпа бывших крепостных и казаков, лошади которых всю ночь топали над его кишащей блохами каютой. Миссионер Фрэнсис Кларк, путешествовавший в 1900 году с женой и маленьким сыном, писал, что даже на «Бароне Корфе», в салоне которого имелось «хорошее немецкое фортепиано», пассажиры в нижнем классе просто лежали на железном полу вместе с голыми детьми. В каютах было грязно. Британский журналист Джон Фостер Фрейзер однажды проснулся от того, что тараканы падали на него с потолка и ползали вокруг.
Питание повсюду считалось отвратительным, и утонченные западные пассажиры отбрасывали приличные манеры. Во время ланча за столом, накрытым рваной клеенкой, где подали непонятное мясо и картофель с маслом, Фрейзер сидел с торговцем мехами, непрерывно курившей женой военнослужащего и «татарским» полковником с черными бакенбардами. Когда их вилки и ложки погрузились в общую кастрюлю, разразилась настоящая оргия жевания, слюноотделения, хватания и обсасывания пальцев, завершившаяся десятиминутным яростным ковырянием в зубах. И это был элитный стол. Один француз в приступе ярости выбросил в окно судна свою капусту вместе с тарелкой.
По реке двигался и другой транспорт. Целые семьи переселенцев плыли вниз на плотах, набитых повозками, лошадьми, скотом и собаками, иногда направляясь даже в Хабаровск – за две тысячи километров. Туда же направлялись стометровые плоты из бревен. Мешанина местных лодок – долбленок и импровизированных гребных суденышек. Баржи для каторжников, влекомые пароходами, пассажиры которых братались с заключенными, когда все садились на мель.
В 1861 году анархист Михаил Бакунин совершил побег из сибирской ссылки; в Сретенске он сел на пароход и двинулся на восток – в Америку, а затем и в Европу. В последующие годы посреди брожения революционных интриг и подстрекательской риторики этот противоречивый человек стал соперником Маркса в Первом Интернационале. Он представлял себе независимую Сибирь, обращенную к Тихому океану и Америке, и Амур должен был стать ее сердцем. Почти сорок лет спустя в Сретенск приехал измотанный двухмесячным путешествием из Москвы Антон Чехов: он направлялся на остров Сахалин в Охотском море. Его пароход целую неделю трясся вниз по реке, качало так сильно, что он едва мог писать. На борту были школьники и группа заключенных, которых высадили у золотых рудников Кары, некогда так огорчивших Джорджа Кеннана. В уборной парохода обреталась ручная лисица.
Несентиментальный Чехов признавал, что «в Амур влюблен». Его письма к семье и друзьям полнятся дикой природой, множеством уток, поганок, цапель и «всяких носатых каналий». Противоположные берега России и Китая были одинаково прекрасными и дикими. «В голове у меня все перепуталось… – писал он. – Проплыл я по Амуру больше тысячи верст и видел миллионы пейзажей». Перед отъездом из Москвы писателю диагностировали туберкулез, но здесь он по-настоящему ощущал, что не боится смерти. «А какой либерализм! Ах, какой либерализм!» Его поражала откровенность жителей. На таком расстоянии от Европейской России они открыто выражали свои мнения. Арестовывать их было некому, и ссылать дальше некуда – они уже и так в Сибири. По их словам, Россия забыла про Амур. Девушки курили сигареты, старухи дымили трубками. Здесь ели мясо на Страстной неделе. Сбежавших каторжников никто не выдавал.
Я сижу на пустынной сретенской набережной, ожидая свое судно, и вглядываюсь в пустынные воды выше по реке. На дальнем берегу отблескивает корпус какого-то заброшенного колхозного здания, рядом на берегу, где кончается железная дорога – вагоны. Вниз по реке, куда я надеюсь попасть, холмы смыкаются угасающей оградой. Однако я с тревогой размышляю, не помешают ли мне сесть на судно, которое двигается в сторону запретной китайской границы.
К пристани с сумками и связанными узлами спускаются шесть или семь женщин и какая-то молчаливая пара. Зданий, которые некогда окружали набережную, уже нет, и длинный причал из гниющих досок с толпами терпеливых крестьян остались всего лишь фотографическим напоминанием. Сам Сретенск – уже не тот портовый городишко, что вызывал отвращение у путешественников, утопавших по голень в коровьем навозе. Я жду со старушками уже два часа, потом три. Наконец появляется какой-то бесцеремонный служащий, который крепит к ближайшему столбу объявление. Судна не будет еще четыре дня. Старушки шепчутся между собой, потом забирают свои узлы и плетутся прочь.
После этого Сретенск начинает надоедать. Общественные здания с лоскутными фасадами и хаотичной лепниной кажутся грубыми и тяжеловесными. Кое-где штукатурка отпала, обнажив деревянные рамы, на которых она держалась. Вечером идти некуда. Днем я бываю в кафе «Надежда», спрятавшемся посреди закрытых офисов, где улыбающиеся женщины подают черный хлеб и пельмени. Единственные клиенты – два шофера грузовика. На следующий день какой-то пьяный валится со ступенек почты и истекает кровью рядом со мной. Когда я помогаю ему подняться, он кажется легким и почти призрачным. Никто не обращает внимания. Представляю, что я подхватываю какую-нибудь коварную болезнь в городском воздухе. Кроме меня, в гостинице живут только брат и сестра – наполовину казаки, наполовину китайцы, – которые ищут могилу своей бабушки, которую расстреляли во время революции, как и многих казаков. Они нашли свой старый дом, но сейчас в нем живут другие; когда мужчина сообщает об этом, в его голосе проскальзывает недовольство. Нынешний владелец пригласил их войти и предложил чай. Затем на него нахлынули детские воспоминания. Он радостно смеется. Сестра плакала.
Когда разразилась Первая мировая война, казармы в Сретенске стали лагерем для военнопленных. Здесь были интернированы солдаты из Германии, Австро-Венгрии и Турции – целых 11 тысяч человек. Освободили их через три года после окончания войны. К тому времени их количество сократили тиф и своенравная артиллерия японских войск, сражавшихся с большевиками. В долине рядом с лагерем они оставили памятник своим товарищам, умершим вдали от родины, с надписью на венгерском языке. Я пытаюсь отыскать его, но не могу найти никаких следов. В поисках хоть каких-то документов захожу в маленький поблекший Сретенский музей. У входа в нише, выкрашенной в красный цвет, стоит бюст Сталина.
Понапрасну осматриваю привычные чучела животных и награды Второй мировой войны, которую русские называют Великой Отечественной войной, а потом нахожу одну из сотрудниц, которые за гроши работают в таких малопосещаемых музеях. Да, был такой памятник, говорит она. Показывает даже его фотографию: окрашенная в белый цвет пирамида, окруженная цепями. Но добавляет, что памятник разрушили три года назад, и непонятно почему.
Мне следовало знать: что-то должно произойти. Я слишком долго нахожусь здесь и слишком сильно привлекаю внимание в месте, где не бывает иностранцев. Такой стук в дверь – это не робкое постукивание уборщицы; колотят безапелляционно. Когда я открываю дверь, передо мной трое полицейских.
– Пройдемте с нами.
Сначала я думаю, что это обычная проверка, однако мельком вижу встревоженное лицо администраторши, когда меня уводят. Отделение полиции в полукилометре, но меня сажают в патрульную машину. Двое в форме, третий (мне кажется, самый важный) – в штатском. Отделение полиции стоит над рекой и огорожено колючей проволокой; кажется, что это единственное работающее учреждение в Сретенске.
Затем мои сопровождающие исчезают, и я оказываюсь в пустоватой комнате; между мною и двумя офицерами голый стол. Один – с холодным взглядом, старший. Он стоит метрах в трех от меня, усиливая отчуждение. Другая – молодая женщина с суровым лицом, которая постоянно проверяет свой компьютер. В качестве переводчика вызвали местную учительницу, и она, нервничая, сидит рядом со мной. С замиранием сердца осознаю, что это не какая-то обычная беседа. Взгляду негде остановиться, кроме кучи картотечных шкафов и фотографии президента Путина над ними.
– Кого вы знаете в нашем городе?
Это старший. Его глаза замерли на мне.
– Никого.
– Тогда зачем вы здесь? Что делаете?
– Пишу книгу о реке Амур.
– Амур не здесь. Он восточнее. Это Шилка в Забайкальском крае.
– Шилка – это приток Амура.
Переводчица спотыкается. Ее английский хуже моего русского, однако я получаю время подумать. Она выглядит удрученной, но, похоже, втайне мне сочувствует.
– Вы тут уже пять дней, – говорит он.
– Жду судно. Оно не пришло. – Внезапно я жалею о сказанном. Он же наверняка заявит, что мне туда нельзя.
Но он спрашивает:
– Где вы были в Сретенске?
Я мог бы ответить, что в Сретенске некуда пойти. Но я слышу, как рассказываю о набережной и сообщении по реке в девятнадцатом веке; заметив, что ему становится скучно, я с энтузиазмом говорю о былом значении Сретенска в качестве связующего звена между Европой и тихоокеанским побережьем России.
Вскоре он смотрит на меня с открытой враждебностью:
– Где вы все это узнали? Почему вы знаете больше, чем мы? – В его словах никакой иронии.
– Вы можете прочитать это в учебниках истории, – говорю я. – В Англии, в Государственной библиотеке в Москве [как я предполагаю]. Где угодно.
Он делает паузу, берет свой мобильный телефон и откладывает его в сторону. Что-то его озадачивает: загадочный старик, который, возможно, только притворяется, что хромает и плохо говорит по-русски, но который не имеет снаряжения для шпионажа – ни скрытой камеры, ни микрофона для дистанционного подслушивания (они наверняка уже обыскали мою комнату) – и путешествует, как цыган.
Женщина поворачивается от невидимого для меня экрана своего компьютера и замечает:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































