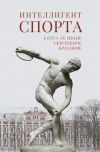Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Алексей Вдовин
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Москва
«Тонкий человек» в «Тарантасе»: незаконченный роман Н. А. Некрасова и повесть В. А. Соллогуба3535
Статья подготовлена в результате проведения исследования (проект «Русская повесть» №16—05—0013) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2016 г. и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.
[Закрыть]
Исследователи неоконченного «романа» Н. А. Некрасова «Тонкий человек, его приключения и наблюдения» (1853—55) давно констатировали, что его сюжет (путешествие двух друзей в глубь России) явно восходит к «Мертвыми душами» Н. В. Гоголя (1842) и «Тарантасу» В. А. Соллогуба (1845). В то же время сходство с повестью Соллогуба было охарактеризовано как «внешнее сюжетное совпадение» [Некрасов: 7, 610; см. также: Карамыслова 1980: 51]. Задача предлагаемой заметки – опровергнуть это мнение и показать, что жанровая модель и некоторые сюжетные мотивировки «Тонкого человека» напрямую восходят к «Тарантасу» – важнейшей повести первой половины 1840-х годов, задавшей определенную традицию не только обсуждения вариантов развития России (западнического и славянофильского), но и изображения контактов образованного сословия с крестьянами.
Вначале напомним сюжет «Тонкого человека». Разочарованный в петербургской жизни молодой человек Грачов (именно он именуется «тонким») решает ехать в свою деревню во Владимирской губернии и отправляется туда вместе с приятелем Тростниковым (alter ego Некрасова, не равное ему), по дороге сталкиваясь с самыми разными крестьянскими типами и обычаями простонародной жизни и занося впечатления от них в дорожный дневник. «Роман» обрывается на очередной записи из дневника Грачова, пародирующей рассказ И. С. Тургенева «Свидание». Как установили комментаторы, два путешественника – Грачов и Тростников – представляют два типа личности и мышления людей из кружка «Современника» конца 1840-х годов, от которого Некрасов дистанцируется [Чуковский 1928; Карамыслова 1979: 59—62; Шпилевая 2006: 210—212]. В первых главах «Тонкого человека» ярко проявляется дистанцированность повествователя от Грачова и совпадение авторской точки зрения с позицией Тростникова, играющего роль судьи и критикующего своего приятеля за всевозможные «тонкости». Однако к середине «романа» в некоторых монологах Тростникова обнаруживается, что его взгляд на специфику крестьянского характера описывается как чересчур восторженный и открыто проблематизируется повествователем.
Сравнение сюжета и жанровой модели «Тонкого человека» с «Мертвыми душами» и «Тарантасом» однозначно говорит в пользу большего сходства именно с повестью Соллогуба. Поскольку Некрасов написал на нее развернутую рецензию в 1845 г. и заимствовал из ее 9 главы сюжет баллады «Огородник» [Вацуро 1980], нет никаких сомнений, что ее общую коллизию и даже мелкие детали он помнил хорошо даже в начале 1850-х годов (а в библиотеке поэта имелось иллюстрированное издание «Тарантаса» 1845 г. [Библиотека Некрасова: 414]).
Во-первых, автор «Тонкого человека» воспроизводит модель путешествия из столицы в глубинку двух героев, наделенных полярными взглядами и сталкивающихся с разными сословиями российского общества. Если у Соллогуба Иван Васильевич и Василий Иванович следуют из Москвы в Мордасы Казанской губернии, то у Некрасова герои едут Из Петербурга во владимирское имение Грачова. На пути спорящие герои обеих книг не только встречаются с купцами, крестьянами и дворовыми (у Соллогуба, надо сказать, «сословный репертуар» богаче, у Некрасова преобладают купцы и крестьяне), но и рефлектируют над природой этих социальных групп, над их местом в русской истории и современности. При этом Некрасов отказывается от историософской проблематики «Тарантаса» (мы также должны учитывать, что имеем дело с незаконченным текстом), сюжетом которого движет не столько конфликт характеров, сколько «столкновение идеологических систем» [Немзер 1982: 4], и сужает весьма широкий и всем памятный круг проблем повести Соллогуба до одного главного вопроса – вопроса о русском мужике, сформулированного устами Ивана Васильевича (с вариациями в разных главах):
«Где же искать Россию? Может быть, в простом народе, в простом вседневном быту русской жизни? Но вот я еду четвертый день, и слушаю и прислушиваюсь, и гляжу и вглядываюсь, и хоть что хочешь делай, ничего отметить и записать не могу» [Соллогуб 1983: 271].
«Кто знает: быть может, в простой избе таится зародыш будущего нашего величия, потому что еще в одной избе, и то где-нибудь в захолустье, хранится наша первоначальная, нетронутая народность» [Там же: 283].
«В самом деле, – думал он, – мы суетимся и хлопочем о России, а именно того-то мы и не знаем: что такое русский человек, настоящий русский человек, без примеси иноплеменного влияния? Какою живет он духовной жизнью? Чего ждет он? Чего желает? К чему стремится?» [Там же: 336].
Можно утверждать, что в «Тонком человеке» Некрасов подхватывает заданные героем Соллогуба вопросы и пытается дать на них ответ в цепочке микросюжетов, главными персонажами которых выступают крестьяне. Грачов с Тростниковым встречают на своем пути хозяина постоялого двора, который сбывает невежественным крестьянам сахар, упавший в синюю краску (ч. 1, гл. 4); знакомятся с мудрым крестьянином-управляющим Потаниным (гл. 5); сталкиваются в разливе с обезображенными болезнями крестьянами и шарлатаном-юродивым (гл. 6); обсуждают «поэтическое чувство в народе» (гл. 5) и «патриархальность» и патернализм простого люда (гл. 7); наконец, наблюдают негативные типы русских мужиков – подлого дворового Флегонта и пьяницу Григория (ч. 2., гл. 2). Идеологические споры между Грачовым и Тростниковым идут, по сути, вокруг злободневной проблемы патриархальности русского крестьянства и его возможности меняться под действием новых, западных веяний. Этой проблематике, обогащенной, правда, полемикой 1846—48 гг. между Кавелиным и Самариным, Некрасов также был обязан «Тарантасу».
Прием контрастного изображения положительных и отрицательных черт крестьян разрушает какую бы то ни было целостную концепцию народного характера, свойственную либо западникам, либо славянофилам. Традиционная интерпретация роли крестьянства в романе, согласной которой Некрасов изображает идеальные и цельные характеры крестьян (Потанин и безымянный ямщик), противопоставляя их пустым петербургских либералам («тонкий человек» Грачов и Тростников), не выдерживает критики, что подтверждается анализом текста. Вместо этого сохранившиеся главы романа предлагают более сложную картину. Некрасов представляет русского мужика как несомненно патриархального, зависимого от общинного мира, как покорного и бессознательного (ямщик, переправивший барыню через разлив), пусть и с исключениями в виде мудреца Потанина; как упрямого и гордого (мужик – «русский Леандр» в 6 главе 1 ч.), как глупого и заносчивого (Флегонт). При этом повествование предлагает читателю несколько взаимоисключающих точек зрения на крестьян (купцов и Тростникова, например), что символизирует отказ Некрасова от зонтичной, покрывающей все авторской позиции и от лиризма, характерного для прозы о простонародье 1847—1853 гг., в первую очередь Тургенева и Григоровича.
Наследует Некрасов и рефлексивность, подчеркнутую металитературность письма Соллогуба3636
В рецензии 1845 года Некрасов особо отметил эту черту: «Это не роман, не повесть, даже не путевые впечатления, но тут есть всего понемножку – и романа, и повести, и путевых впечатлений, и даже того, что называется журнальной статьей» [Некрасов: 111: 199].
[Закрыть]. Жанровый подзаголовок «Тарантаса» «путевые впечатления», обыгранный в повести бессилием Ивана Васильевича хоть что-нибудь занести в свою бесценную тетрадь путевых наблюдений, которая в финале погружается в грязевую пучину, превращается у Некрасова в формулировку «приключения и наблюдения». Грачов ведет дневник поездки, частью которого является и драматическая сцена «За стеной», и вставная «Повесть о Суркове», и заметки героя о деревенских обычаях [Некрасов: 8, 396]. В отличие от Ивана Васильевича, который ищет древностей, достойных занесения в скрижали его дневника, но не находит их, герой Некрасова заносит в свой «журнал» тот мужицкий и дорожный быт, который в системе ценностей Ивана Васильевича обладает лишь мусорным статусом. Если Иван Васильевич – вояжер-романтик 1830-х годов, то Грачов – скорее, путешественник-этнограф конца 1840-х – нач. 1850-х годов, когда под эгидой Русского географического общества и других институций началось широкомасштабное собирание этнографического материала. В этом смысле примечательно, что оба текста в начальных главах обыгрывают модные жанры: у Соллогуба герои обсуждают европейское поветрие писать травелоги (гл. 3), а повествователь Некрасова высмеивает моду на «записки, признания, воспоминания, автобиографии» [Некрасов: 8, 296].
Второй важный конструктивный прием, заимствованный Некрасовым у Соллогуба, – это дистанцирование повествователя от героев и ироничная авторская позиции, за что «Тарантас» ругали многие критики и что, в итоге, и позволило ему пережить свое время3737
В рецензии на «Тарантас» Ю. Ф. Самарин рассуждал о таком типе нравоописательного повествования, сюжет которого построен на идее путешествия по стране. Когда автор выводит двух героев, исповедующих полярные точки зрения, авторская задумка должна заключаться в синтетической метапозиции по отношению к спорящим, что и ожидается от автора. Однако Самарин не находит у Соллогуба таковой: он уклоняется, списывая все на иронический утопический сон в финале [Самарин 2013: 64]. В опубликованной лишь в 2005 году статье В. Э. Вацуро о беллетристике Соллогуба (1977 год) предложена иная трактовка авторской позиции в «Тарантасе». По мнению исследователя, взгляды Соллогуба и до этой книги, и после были достаточно консервативны и предполагали своеобразный компромисс, синтез западничества и славянофильства, который и отразился в финальной главе «Сон». Белинский переинтерпретировал книгу, дифференцируя ироничный взгляд повествователя и воззрения Ивана Васильевича [Вацуро 2005: 266—270]. Некрасов в рецензии остался недоволен финалом книги [Некрасов: 111, 204].
[Закрыть] [см. Немзер 1982: 4; Немзер 2013: 415]. Исследователям «Тонкого человека» понадобилось несколько десятилетий, чтобы доказать различие в позициях повествователя и Тростникова [Карамыслова 1979: 59], однако если бы они держали в уме генетическую связь романа с «Тарантасом», заметить это не составило бы труда. Следует оговорить, что Некрасов создает больше сложностей для идентификации позиции повествователя, поскольку, в отличие от Соллогуба, изображает представителей не двух оппозиционных идеологических лагерей (западники vs. славянофилы), а участников одного кружка, в котором, очевидно, есть трения и расхождения.
Помимо жанровой модели и сюжетного каркаса, Некрасов позаимствовал у Соллогуба несколько более частных эпизодов и мотивов, которые еще подтверждают литературную преемственность. Так, например, комическая мизансцена, когда Василий Иванович погружается в крепкий сон под воздействием историософских монологов своего антипода, возникает и во второй главе романа Некрасова с подзаголовком «…в которой тонкий человек спит, а друг его говорит» [Некрасов: 8, 298].
Затем в «Тонком человеке» появляется несколько мотивов, которые, скорее всего, восходят напрямую к «Тарантасу» и связаны с крестьянами. В начале 4 главы «Станция» герои Соллогуба наблюдают толпу вышедших на улицу крестьян, которые демонстрируют свои раны и язвы, чтобы вымолить милостыню. Эта жанровая сценка не получает фабульного развития и остается лишь физиологическим очерком. Некрасов же подхватывает тему уродства и нищеты, превращая ее в значимый эпизод: прибывая в затопленную деревню, Грачов и Тростников наблюдают некое подобие кунсткамеры уродцев:

Физиологизм описаний и гиперболизация уродства получают у Некрасова двойное толкование. Сначала повествователь объясняет этот феномен через социальные практики (отсутствие адекватной системы воспитания, халатность и безалаберность крестьян), а затем сюжетно разворачивает тему уродства и юродства в следующий эпизод, в котором юродивый специально пророчил путешественникам худой конец и потопление, чтобы они дали ему милостыню3838
В дополнение к указанной и кажущейся бесспорной параллели следует отметить и другую, менее вероятную. Некрасов мог прочесть статью священника Н. Лебедева «Быт крестьян Тверской губернии тверского уезда» из первого выпуска «Этнографического сборника» (1853, имелся в библиотеке Некрасова), в которой описывался аномально высокий уровень больных крестьян в деревне Лукино. В ней было всего 90 душ, а «увечных много с незапамятных времен»: «Ныне в ней: трое совершенно слепых, трое хромых, двое кривых, одна совершенно глухонемая, один страдает падучею болезнью и малодушием, один грыжею и один каменною болезнию. Нет в моем приходе беднее этой деревни; чаще всех она подвергается пожарам» (Этнографический сборник. СПб., 1853. Вып. 1. С. 175).
[Закрыть] [Некрасов: 8, 358].
Второй пример работы Некрасова с соллогубовскими мотивами, обнаруживается в сцене «За стеной», когда герои подслушивают разговор двух купцов о том, как они сбывают с рук пропитанный синей краской сахар, обманывая недалеких крестьян и выдавая синец за первосортный сахар. Эта коллизия могла быть подсказана Некрасову сходным разговором купцов в 14 главе «Тарантаса», когда торговцы весьма загадочно, полунамеками3939
Темный язык купцов получил авторское разъяснение в специальной «Главе из „Тарантаса“, исправленной купцом», опубликованной в сборнике Соллогуба 1846 г. «Вчера и сегодня» (см: [Немзер 1982: 51]).
[Закрыть], обсуждают транспортировку муки по сильно обмелевшей Волге. Они терпят убытки от того, что даже недогруженные баржи садятся на мель. Чтобы компенсировать убытки один купец смешивает плохую муку с хорошей и таким образом сбывает ее с рук. Возможно, связь мучной и водной тем отразилась в «Тонком человеке» и в финальном эпизоде с затонувшей на мели баржой с мешками муки и крупы, которые купцы распродают ныряльщикам.
Наконец, еще одна менее очевидная параллель – рассуждения Ивана Васильевича о мирской сходке как об остатке древнего вечевого устройства (гл. 13) и диалог Грачова, Тростникова и Потанина об абсолютной власти общины и мира, власть которых сильнее руки помещика [Некрасов: 8, 338].
Таким образом, жанровая модель, дистанцирующая манера повествования и некоторые «крестьянские» мотивы в «Тонком человеке» восходят в первую очередь к «Тарантасу» Соллогуба. Связь некрасовского романа с тургеневскими «Записками охотника», которые пародируются в нем (в последней главе «Повесть о Суркове» спародировано «Свидание» [Мостовская 1988]), также ощутима, но носит локальный характер, не выходящий за пределы частных фабульных эпизодов.
На первый взгляд, в этом проявляется отмеченная еще Г. А. Гуковским тенденция Некрасова эксплуатировать уже устоявшиеся и даже устаревшие сюжетные модели (Жиль Блаза, романтической прозы 1830-х годов) и наполнять их злободневным и актуальным содержанием [Гуковский 1931]. Однако на периферии основной и, как правило, старомодной сюжетной модели у Некрасова всегда «мерцают» и более современные сюжетные образцы. В прозе конца 1840-х – нач. 1850-х годов, например, такую функцию выполняют отсылки к романам Эжена Сю или Поль де Кока (см. комментарии к «Мертвому озеру» [Некрасов 102, 266, 278]). «Тонкий человек», в сущности, устроен так же: Некрасов кладет в основу сюжета удачную жанровую и повествовательную модель Соллогуба (уже содержащую диалог с «Мертвыми душами»), но при этом, не намекая на «Тарантас», уснащает текст отсылками и к полемикам конца 1840-х годов о родовом быте и патриархальности русской общины, и к громким европейским бестселлерам – роману Сю «Вечный жид» (1845), с сюжетом которого у романа нет ничего общего (хотя повествователь то и дело сравнивает героев с персонажами Сю – старым солдатом Дагобером и индейцем Джальмой).
Есть основания полагать, что помимо романа Сю в памяти Некрасова могли отложиться и крестьянские романы Жорж Санд 1840-х годов, переводимые в «Отечественных записках»4040
Об интересе Некрасова к Санд см. [Мостовская 1998].
[Закрыть]. Например, сюжетная ситуация «герои, застигнутые разливом реки», могла быть подсказана Некрасову эпизодом из романа Санд «Грех господина Антуана» (1845, рус. пер. 1846), в начале которого из-за ливня и паводка на реке Гаржилесе главный герой Эмиль Кардоннэ, подъезжая к своему городку вместе с крестьянином Сильвеном, накрыт паводковой водой и спасается от нее на ветвях высоких деревьев (ср. гл. V «Паводок»).
Поскольку роман Некрасова так и не был закончен и мы не знаем финала сюжета о путешествии Грачова и Тростникова, трудно рассуждать о прагматике отсылок к повести Соллогуба в целом. Можно предполагать, впрочем, что «вышивание» собственного сюжета по канве «Тарантаса» могло стать одной из причин, побудивших Некрасова бросить роман в 1855 году. К прозе он более не возвращался.
ЛИТЕРАТУРА
Библиотека Некрасова: Ашукин Н. Библиотека Некрасова // Литературное наследство. Т. 53/54. М., 1949. С. 359—432.
Вацуро 1980: Вацуро В. Э. Один из источников «Огородника» // Некрасовский сборник. Вып. VII. Л., 1980.
Вацуро 2005: Вацуро В. Э. Беллетристика Владимира Соллогуба [1977] // В. Э. Вацуро: материалы к биографии / Сост. Т. М. Селезнева, В. М. Маркович. М., 2005. С. 251—270.
Гуковский 1931: Гуковский Г. А. Неизданные повести Некрасова в истории русской прозы 40-х годов // Жизнь и похождения Тихона Тростникова. Новонайденная рукопись Некрасова. М.; Л., 1931.
Зимина 1939: Зимина А. Некрасов-беллетрист // Творчество Некрасова. Сб. статей под ред. А. М. Еголина. М. (=Труды Моск. ин-та истории, философии и лит., т. 3).М., 1939.
Карамыслова 1979: Карамыслова О. Образ автора-повествователя в романе Некрасова «Тонкий человек» // Некрасов и его время. Вып. 4. Калининград, 1979.
Карамыслова 1980: Карамыслова О. О жанре романа Некрасова «Тонкий человек» // Некрасов и его время. Вып. 5. Калининград, 1980.
Мостовская 1988: Мостовская Н. Н. Пародия в прозе Некрасова (сатирическое мастерство; полемика) // Некрасовский сборник. Л., 1988. Вып. IX. С. 54—68.
Мостовская 1998: Мостовская Н. Н. Некрасов и Жорж Санд // Некрасовский сборник. XI – XII. СПб., 1998. С. 105—113.
Некрасов: Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем в 15 томах. Л.-СПб., 1980—2000.
Немзер 1982: В. А. Соллогуб и его главная книга // Соллогуб В. А. Тарантас М: Книга, 1982.
Немзер 2013: Немзер А. С. Быть так! Спасибо и за то: О прозе и жизни графа Владимира Соллогуба // Немзер А. С. При свете Жуковского: Очерки истории русской литературы. М., 2013. С. 397—425.
Самарин 2013: Самарин Ю. Ф. Собр. соч. в 5 т. СПб., 2013. Т. 1.
Соллогуб 1983: Соллогуб В. А. Избранная проза. М., 1983.
Чуковский 1928: Некрасов Н. Тонкий человек и другие неизданные произведения. Собрал и пояснил Корней Чуковский. М., 1928.
Шпилевая 2006: Шпилевая Г. Динамика прозы Н. А. Некрасова. Воронеж, 2006.
Михаил Велижев
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Москва
Чаадаев и Чацкий: безумие и комедийная интрига в «Горе от ума»4141
Статья написана в рамках индивидуального исследовательского проекта НИУ ВШЭ 2016/2017 гг. №16—01—0060 «Язык и контекст в русской историософской прозе XIX века: „Философические письма“ Петра Чаадаева».
[Закрыть]
Объявление Чаадаева сумасшедшим в 1836 г. после публикации первого «Философического письма» сразу же вызвало множество откликов (см.: [Велижев 2009: 18—21]). Многие свидетели произошедшего поспешили радостно согласиться с таким приговором, другие, наоборот, лично засвидетельствовали Чаадаеву свое сочувствие. Синхронная реакция современников на появление чаадаевской статьи в журнале «Телескоп» представляет определенный интерес и позволяет сделать ряд выводов о том, на каком историческом фоне воспринималось «безумие» Чаадаева. При просмотре отзывов о чаадаевском деле бросается в глаза одна деталь: в источниках отсутствуют «литературные» аллюзии, позволявшие определенным образом истолковать конфликт. В частности, пренебрежение литературными моделями поведения кажется по меньшей мере странным в свете того обстоятельства, что Чаадаев мог служить одним из прототипов «мнимого безумца» Александра Чацкого. Так, единственное известное нам упоминание комедии Грибоедова в связи с судьбой Чаадаева содержится в позднем стихотворении Ф. Н. Глинки «Петр Яковлевич Чеадаев (человек памятный Москве)» [Глинка 1985: 271].
Вплоть до настоящего времени «помешательство» Чацкого, как правило, интерпретировалось критиками и исследователями в двух перспективах – литературной и политической. Еще М. А. Дмитриев в одной из первых рецензий на «Горе от ума» уподобил комедию философскому роману К. М. Виланда «История абдеритов»4242
«Впрочем, идея сей комедии не новая; она взята из Абдеритов» [Дмитриев 1825: 112]. Подробнее о полемике в литературной критике, развернувшейся вокруг уподобления «Горе от ума» произведениям Виланда см.: [Данилевский 1970: 358—359]. Данилевский замечает: «Вопрос о том, связана ли в действительности комедия Грибоедова с романом Виланда, не кажется сейчас существенным» [Данилевский 1970: 359]. Исследователь осторожно отводит идею буквального заимствования сюжетных элементов, полагая, что, скорее, следует говорить о «сходных обстоятельствах, в которые оба автора с одинаковой целью (критика общества) помещают своих героев» [Данилевский 1970: 359].
[Закрыть]. Действительно, объявление Демокрита умалишенным его невежественными согражданами-абдеритами типологически напоминает коллизию «Горе от ума». Однако в этом случае фокус интерпретации эпизода с мнимым безумием Чацкого значительно смещается: в комедийный сюжет входит проблематика сатирического и философского романа и нагружает противостояние между «москвичами» и Чацким дополнительными смыслами, окончательно превращая его в конфликт философско-мировоззренческий.
Вторая перспектива вводит в комедию отчетливо политические коннотации – так, Чацкий становится своего рода провозвестником общественного раскола, а его поведение – значимым симптомом будущего выступления декабристов. При этом московское общество отождествляется с крепостнической Россией в целом, а монологи главного героя получают злободневное политическое истолкование. Наиболее яркое воплощение эта позиция нашла в труде М. В. Нечкиной «Грибоедов и декабристы». Нечкина отвергла возможность чисто литературной природы мнимого безумия Чацкого (в частности, заимствования из Виланда), равно как и гипотезу о новаторстве Грибоедова при разработке сюжета. Исследователь уверенно предположила, что на деле речь шла о прямой отсылке Грибоедова к случаям из истории александровской эпохи – эпизодам из биографии В. К. Кюхельбекера, Ф. Н. Глинки и, наконец, самого Грибоедова, самостоятельность и оппозиционность позиции которых воспринимались обществом и властями как проявление безумия [Нечкина 1977: 407—413]4343
С. А. Фомичев, в свою очередь, связывает название комедии с интерпретацией «ума» и «сумасшествия» в сочинениях К.-А. Гельвеция [Фомичев 1983: 22—25].
[Закрыть]. Сюда же семантически примыкает и «клевета» против Чацкого, подсвеченная параллелью с «Севильским цирюльником» Бомарше и подробно интерпретированная в классической работе Ю. Н. Тынянова [Тынянов 1946: 168—171].
Точка зрения о том, что прототипом Чацкого или Чадского был Чаадаев, базируется, строго говоря, на двух аргументах: созвучии фамилий и ироническом отзыве еще не читавшего комедии Пушкина в письме Вяземскому от 1—8 декабря 1823 г.: «Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чедаева; в теперешних обстоятельствах это чрезвычайно благородно с его стороны» [Пушкин 1937: 81]4444
Обзор мнений о письме Пушкина см.: [Городецкий 1970]; [Берелевич 1975], см. также: [Quénet 1931: 209—210]. При этом Н. К. Пиксанов отвергал версию о прототипической связи между Чацким и Чаадаевым: «Никто никогда не указывал на подлинный, живой прототип Чацкого (ссылка на Чаадаева неприемлема)» [Пиксанов 1971: 295].
[Закрыть]. Пушкин напоминал Вяземскому об обстоятельствах отставки Чаадаева, ушедшего со службы вследствие неосторожных высказываний в письме к тетке А. М. Щербатовой в марте 1821 г. и затем, в июле 1823 г., отправившегося за границу (см.: [Осповат 2010]). Несомненно, эту гипотезу ретроспективно укрепляло чаадаевское дело 1836 г. Грибоедов своеобразным образом «провидел» судьбу Чаадаева – в этом сходились и Тынянов, и Нечкина. Так, Тынянов писал: «Странный и вряд ли случайно перекликающийся с „Горем от ума“ эпизод произошел только в 1836 г.: после напечатания Чаадаевым „Философического письма“ он был объявлен сумасшедшим… Дело Чаадаева носило характер политический» [Тынянов 1946: 171]4545
См. также: [Назиров 1980: 95] («художественное предвидение Грибоедова сбылось»); [Билинкис 1989: 225—226].
[Закрыть]. Разумеется, речь шла не только о таинственном совпадении судеб, но и об осязаемой тенденции политической жизни в России первой четверти XIX века, где лучшие мыслители рано или поздно объявлялись умалишенными.
Мы не беремся радикально оспаривать гипотезу о политической подоплеке сюжета с безумием Чацкого: в конце концов, знакомство Грибоедова с подлинными случаями политических дел, увенчанных вердиктом «помешан в уме», кажется более чем возможным. Однако одно обстоятельство все-таки ослабляет гипотезу о явной параллели между Чацким и Чаадаевым: как мы уже отметили, в 1836 г. ни одному человеку – ни защитникам, ни оппонентам Чаадаева – не пришло в голову сравнить решение, вынесенное монархом автору первого «Философического письма», с клеветой на Чацкого4646
Между тем, сопоставления Чаадаева и Грибоедова, каждого из которых считали безумцами, в источниках встречаются, см., например: [Ольга N. 1887: 698—699].
[Закрыть]: при том, что большинству современников комедия «Горе от ума», шедшая на сцене, частично опубликованная и разошедшаяся во множестве рукописных копий (см.: [Пиксанов 1969]), была прекрасно известна. К тому же проблематика оригинальной русской комедии были актуализирована весной 1836 г. в связи с постановками гоголевского «Ревизора». «Первые разговоры о трагической сути „Горе от ума“ начались лишь во второй половине XIX столетия» [Зорин 1977: 73]4747
Р. Г. Назимов справедливо отмечал, что «Горе от ума» «стоит особняком» в ряду литературных текстов, посвященных теме «высокого безумия» и «непризнанного гения», таких как «Умирающий Тасс» Батюшкова, «Безумная» Козлова, «Блаженство безумия» Н. Полевого и др. [Назиров 1980: 94].
[Закрыть]: этот тезис заставляет предположить, что в эпоху Грибоедова и Чаадаева читатели могли усматривать в мнимом безумии Чацкого иной, не политический смысл.
Если Тынянов предлагал видеть «комичность» как «средство трагичного», а «комедию» считать в данном случае «видом трагедии», то наша гипотеза состоит в обратном: «комичность» следует рассматривать и как «средство комичного», т.е. необходимо поместить «Горе от ума» и эпизод с безумием Чацкого в контекст комедийных сюжетов XVIII – первой четверти XIX в., прежде всего, во французской оригинальной и русской переводной комедии. Как показывает в своей работе А. Л. Зорин, Грибоедов «зеркально переворачивает привычную комедийную ситуацию», обманывая тем самым читательское и зрительское ожидание [Зорин 1977: 78]. Необходимо определить, в чем состояла та «шутка», которую сыграла с Чацким София («А, Чацкий! любите вы всех в шуты рядить, угодно ль на себе примерить?» [Грибоедов 1969: 83]), попытаться ответить на вопрос о том, почему мнимое сумасшествие Чацкого могло казаться современникам Грибоедова не столько трагическим, сколько смешным?
Прежде всего, следует разделить два значения слов «безумный» и «безумие»: а) общеупотребительный в начале XIX в. смысл – «безумец» это тот, кто ведет себя неадекватно (с общепринятой точки зрения) конкретной политической, социальной или эмоциональной ситуации, как, например, Альцест в «Мизантропе» Мольера и герои ранних комедий самого Грибоедова4848
Схожий образ безумия см., например, в переведенной И. П. Елагиным трагедии В. Браве «Безбожный» (1771). В «Безбожном» один из героев говорит: «а тебя я приобщаю только к тем, которые безумно желают признавать одни горделивые правила естественной веры» [Браве 1771: 41].
[Закрыть]; и б) конкретный, почти медицинский диагноз, предусматривавший определенный ряд мер – «желтый дом» из реплики Загорецкого4949
«Его в безумные упрятал дядя-плут; / Схватили, в желтый дом, и на цепь посадили» [Грибоедов 1969: 85].
[Закрыть] и радикальное снижение социального статуса безумца, речи которого отныне воспринимались как бессмысленные, чье поведение порождало чувство опасности и оправдывало почти любое дискриминирующее действие в его адрес. Несомненно, София в своей беседе с Г.Н. переводит «безумие» Чацкого из первого смыслового регистра во второй. Отсюда и специфика комедийных сюжетов, на фоне которых разворачивается выдуманное помешательство Чацкого: комедии и водевили о подлинных и мнимых безумцах и сумасшедших домах были чрезвычайно распространены в то время – прежде всего, во французской традиции. В российских театрах пьесы схожей тематики ставились опять же преимущественно французскими труппами, число русскоязычных комедий на этот сюжет было невелико. К ним относится в том числе и ряд оригинальных пьес и переводов А. А. Шаховского, оставшихся неопубликованными и, к сожалению, нам в данный момент недоступных.
Прежде всего следует оговорить, что сравнение «Горе от ума» с «Мизантропом» Мольера5050
Подобное сравнение опять же см. в процитированной выше статье М. А. Дмитриева 1825 г.: «Это Мольеров Мизантроп в мелочах и в каррикатуре!» (слова относятся к Чацкому: [Дмитриев 1825: 113]).
[Закрыть], несомненно, подчеркивало комичность фигуры Чацкого, поскольку связывало его с героем, нарушающим из-за любви к истине законы светского общежития и попадающим из-за безграничной честности в нелепые положения. Схожая социо-культурная ситуация обыгрывалась в ранней повести Ш. А. Г. Пиго Лебрена «Опасность от излишней мудрости», вышедшей по-русски в 1789 г. Сочинение Пиго Лебрена могло привлечь Грибоедова еще и потому, что его автор был плодовитым драматургом, чьи пьесы в обилии ставились на русской сцене, а ряд его комедий – например, «Французский Мемнон или чрезмерное пристрастие к мудрости» («Le Mémnon français, ou la Manie de la sagesse», 1816) – прямо трактовали вопрос о противостоянии общества и отдельного человека, увлеченного особой, внеположной обществу системой ценностей.
В «Опасности от излишней мудрости» Пиго Лебрен описывал прекрасного и богатого юношу Эдмона, увлеченного философией и мудростью. Буквальное следование требованиям философского разума приводит Эдмона к тому, что он оставляет свет. Будучи честолюбивым, он отказывается от успеха в свете и от службы – думая, «что домогаться того, значит унижать себя. Его друзья имели доверенность, но должно было помогать их доступам; надобно было просить покровителей, употреблять хитрости, купить право, чтоб оказать услугу отечеству, чтоб наконец получать цену заслуг чрез скрытные приемы, которая нередко иногда отнимается у человека, почтения достойного, для того, чтобы отдать оную по своенравию. Эдмонд почитал за стыд унижать пред равными себе. Тщетно ему представляемо было, что разумной человек должен соображаться с обыкновением и оборотами настоящего века» [Пиго Лебрен 1789: 8—9].
Затем Эдмон решает жениться, и его выбор останавливается на Александрине. Однако при Александрине в качестве любовника живет «один из приказных Судей, человек веселой; жеманной, хотя сам собою и нескладной». Он «имел щастие понравиться» Александрине «с помощию нескольких мадригалов», «сей приказной крючок несколько времени доставлял забавы старой тетке, дабы подойти поближе к племяннице» [Пиго Лебрен 1789: 17]. «Это дело было всегда скрытно», и здесь Пиго Лебрен приводит важную для нас характеристику приказных – «приказной должен быть молчалив и умен» [Пиго Лебрен 1789: 18]. В итоге, Эдмон застает Александрину вместе с приказным, но вместо того, чтобы прийти в ярость, отступается от супруги, полагая, что ревность неразумна. Пиго Лебрен проводил своего героя через серию злоключений, порожденных его философией, после чего Эдмон умирает в бедности и забвении от того, что упорно исповедовал ложную систему ценностей.
В «Опасности от излишней мудрости» Пиго Лебрен нарисовал определенную социальную ситуацию – не-дворянина, который благодаря молчанию и ловкому обращению оказывается умным и более успешным, чем его соперник-дворянин, следующий жесткой морали. Напомним также, что ум в предшествующей «Горе от ума» комедийной традиции ассоциировался именно с умеренностью в поведении, в том числе и в речевом. В «Горе от ума», в целом, повторяется близкая коллизия – молчаливый секретарь долгое время торжествует, а герой-резонер, помещенный в комичную ситуацию, оказывается осмеян – с одним важным добавлением, что, отличная по амплуа от Репетилова, фигура Чацкого несравненно более противоречива и сложна, чем его французские прототипы.
Кроме того, истории о помешательстве во французской и русской традициях связан с любовной комедийной интригой. Именно в этом контексте он поначалу выступает и в «Горе от ума». София «назначает» Чацкого умалишенным за его любовные признания и ревнивые речи против Молчалина: «Вот нехотя с ума свела», «Ах, этот человек всегда Причиной мне ужасного расстройства! Унизить рад, кольнуть; завистлив, горд и зол!.. Он не в своем уме» [Грибоедов 1969: 82]. Еще более рельефно ревность Чацкого проступает в ранней редакции этой реплики Софии: «Грозит и тешится, и рад бы что есть силы Молчалина при всех унизить, как он зол!.. Он не в своем уме» [Грибоедов 1969: 204]. Здесь «злой ум» Чацкого отсылает нас сразу к двум текстам: с одной стороны, к комедии Ж.-Б.-Л. Грессе «Злой» и ее герою ироничному «умнику» Клеону, а также к русским инвариантам этой комедии, а с другой, к теме злости из-за ревности, а затем и безумия. Напомним, что Селимена в «Мизантропе» Мольера, еще одном важном источнике «Горе от ума», называет Альцеста безумцем именно из-за ревности: «Allez, vous êtes fou dans vos transports jaloux» [Molière 1815: 205] («Вы с вашей ревностью сошли с ума, ей-ей», пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник).
В европейской театральной традиции XVIII – начала XIX в. безумие обладало, как представляется, двумя устойчивыми коннотативными значениями – связывалось с ревностью и постоянным фрондерством. Кроме бесчисленных сравнений ревнивцев с безумцами в комедиях и операх, необходимо выделить тексты, в которых прямо изображались сидящие в желтом доме умалишенные, – например, известную оперу А. Сальери «Училище ревнивых», либретто которой в 1786 г. было переведено на русский язык [Училище ревнивых 1786]. В 1810-е гг. она ставилась в Москве вместе с балетной партией, которую танцевали «ревнивые безумцы». По сюжету оперы, охваченные ревностью две супружеские пары совершают прогулку по дому умалишенных, где их отводят в отделение ревнивцев – в итоге, героев становится трудно отличить от жителей сумасшедшего дома. Фрондерство же зачастую фигурировало как характеристика персонажа «Безумие» (La folie) во французских комедиях второй половины XVIII в., в частности нескольких пьесах с идентичным названием – «L’amour et la folie», в которых Безумие затевало переворот в мире олимпийских богов. В комедии 1754 г. Амур вступал в союз с Безумием, что приводило к радикальному пересмотру пантеона античных богов [L’amour et la folie 1755]. Наоборот, в комической опере «L’amour et la folie» Дефонтена-Лавалле 1781 г. Безумие захватывало власть над молодыми людьми – к негодованию Амура [Desfontaines-Lavallée 1782]: в соответствии с описанной выше схемой – именно безумие трактуется в этих пьесах как оборотная сторона любви, ее прямой соперник.