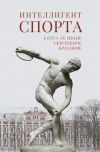Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Замечательное шестидесятилетие
Ко дню рождения Андрея Немзера. Том 1
Редактор Анна Новикова
Редактор Аракся Манучарова
Иллюстратор Мария Крашенинникова
© Мария Крашенинникова, иллюстрации, 2017
ISBN 978-5-4483-9493-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие
Научная и писательская (если понимать писательство в широком, современном смысле слова) деятельность А. С. Немзера давно уже заслуживает не только обширного биографического очерка, но и полноценной монографии. Но это задача для будущего. Мы же в кратком предисловии к двухтомнику статей и материалов, подготовленных коллегами ученого и литератора к его славному 60-летию, попытаемся дать самую общую, самую краткую формулу его успешно продолжающегося пути в науке и литературе. Отчасти задачу облегчает то, что второй том настоящего издания завершает сравнительно полная библиография его работ разных направлений и жанров.
Итак, в чем сущность немзеровского метода?
Задолго до первых заметных публикаций, фактически – начиная с нашумевшей защиты дипломной работы (МГУ им. М. В. Ломоносова) А. С. Немзер заявил о себе как об ученом особого типа, для которого фундаментальная проработка любого сюжета, хладнокровное академическое изучение вопроса – неотделимы от эмоциональной вовлеченности в предмет исследования. Подчеркнем: мы говорим не о субъективности, тем более не о предустановленности конечных выводов, а именно об эмоциональной окраске, о личном присутствии автора в тексте, об остром, стремительном стиле, едва заметной (а иногда и выпирающей) иронии. Даже в кандидатской диссертации о литературной позиции В. А. Соллогуба 1830—1840 гг. (1983), несмотря на специфичность жанра, проглядывает авторское, личное начало; тем более в сопроводительной статье к изданию соллогубовского «Тарантаса» (М.: Книга, 1982). Затем появилась первая книга юбиляра «Сии волшебные виденья…»: Время и баллады В. А. Жуковского», пронизанная вдохновенной интонацией11
Она была издана в составе коллективного сборника небольших, но фундированных монографий молодых ученых, товарищей по поколению (А. Л. Зорин, А. С. Немзер, Н. Н. Зубков «Свой подвиг свершив…». М.: Книга, 1987).
[Закрыть]. Любой ее читатель понимал: наконец подхвачена традиция, восходящая к Ю. Н. Тынянову, Б. М. Эйхенбауму, лучшим работам Г. А. Гуковского, штудиям Ю. М. Лотмана. Традиция, которая не признает привычного противопоставления «научного» – «просветительскому», «академического» – «личностному». Конечно, истинный ученый не имеет права подминать литературный материал под собственную исследовательскую установку, но волен в проявлении научной страсти, в воздействии на адресата стилем, ритмом, интенсивностью и густотой письма.
Когда же через два года после книги о балладах Жуковского была издана монографическая статья «Парадоксы чувствительности: Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» (1989), написанная в соавторстве с А. С. Зориным, особое место А. С. Немзера в литературоведении и просветительстве было закреплено раз и навсегда.
При этом многим ярким людям немзеровского поколения (по сути – большинству) не нашлось прибежища в позднесоветском академическом раскладе. «А вы с ребенком здесь не стояли», как было сказано Андреем Вознесенским, чью поэзию Андрей Семенович в глубокой юности ценил. Действовал принцип – микроскопом забиваем гвозди; ни в один научный институт, ни на одну университетскую кафедру представителей новой научной генерации тогда не брали. И Немзер, во многом вынужденно, в 1980-е стал заниматься тем, что тогда называлось «критика критики», то есть рецензированием и обзорами литературно-критических и литературоведческих книг в журнале «Литературное обозрение».
Это был способ суррогатного существования в составе профессии; анализ анализа – тоже анализ; подробный разбор монографии – sui generis компактное исследование. Попутно и почти что неохотно он начал рецензировать и прозу, и поэзию: работая в редакции литературного журнала, невозможно не зайти на соседнюю территорию. Но какими бы блестящими, резкими, яркими ни были его статьи о современной словесности (к примеру, звонкий, как пощечина, отзыв о прозе Анатолия Кима), какой бы личной интонацией ни были пронизаны рецензии на штудии коллег-литературоведов, Немзер вплоть до 1991 года отказывался переходить на новую профессиональную платформу. То есть заниматься критикой как таковой, системно и последовательно. Даже те междуотдельские проекты, которые он инициировал в «Литературном обозрении» (подобно циклу статей о поэтике ключевых произведений А. И. Солженицына, только что прорвавших цензурный барьер), были научно-просветительскими. А не литературно-критическими.
И тут – не знаем, как юбиляру, а отечественной литературе троекратно повезло. Во-первых, исчезла советская власть, что само по себе хорошо. Во-вторых, на короткое время соединились два потока, сиюминутная проза/поэзия и массовые публикации литературного наследия; современный литературный процесс приобрел историко-литературные черты, а стихи и романы 1920—1970-х стали частью сегодняшней литературы. А в-третьих, А. С. Немзер перебазировался на газетную площадку и занялся текущей словесностью. Системно, последовательно, изо дня в день.
У этого решения были и политические, и экономические, и инфраструктурные причины. Нам важны не предпосылки, а результат: в 1991 году начался насыщенный период в истории отечественной критики, получивший название «газетного». На целое десятилетие (и даже больше) именно ежедневные газеты стали центром притяжения литературно-критической мысли; в них публиковались сложные, ассоциативные, научно фундированные, без скидок на массового читателя, объемные статьи, обзоры и рецензии. А. С. Немзер, пойдя работать сначала в отдел культуры «Незвисимой газеты» (1991—1993), а затем перебравшись вместе с коллегами в газету «Сегодня» (1994—1996)22
Впоследствии этот опыт был продолжен в газетах «Время МН», «Время новостей».
[Закрыть], сразу и заслуженно стал лидером «газетной критики».
Не пропуская ни одной сколь-нибудь заметной публикации, особенно прозаической, откликаясь на каждый выпуск толстого литературного журнала, восхищенно поддерживая (или возмущенно отвергая) дебютантов, с напряженным интересом наблюдая за старшей генерацией писателей, Немзер взаимодействовал с современным литературным процессом так, как создатель академической истории литературы взаимодействует с классическим периодом. А именно – прочерчивая линии литературных разломов, определяя роль писателя в процессе, отсекая тупиковые ветви, фиксируя несбывшиеся надежды и оправдавшиеся ожидания. Просто он делал это вживую, вчерне, не дожидаясь завершения эпохи. Иногда ошибаясь в прогнозах, но не упуская из виду эту самую историко-литературную перспективу.
Некоторые оппоненты А. С. Немзера думали, что он ранжирует писателей по собственному произволу, что он ощущает себя демиургом-конструктором, который вершит литературные судьбы по своему вдохновению и произволу. А он не конструировал литературную реальность, но лишь просвечивал сиюминутные процессы рентгеновскими излучениями «большого времени» культуры, четко различая исторический каркас «литературного сегодня». Он не «выдвигал» Т. Кибирова, А. Слаповского, А. Дмитриева, раннего П. Алешковского, А. Хургина, М. Вишневецкую, С. Солоуха – автора «Шизгары» или новоначального М. Шишкина (времен романа «Взятие Измаила») на определенные им же, Немзером, позиции, не назначал на готовые роли; он только замерял потенциал, обдумывал, имеет ли тот или иной писатель шанс на прописку в непрекращающейся истории русской словесности. Точно также, он не «уничижал» модных В. Пелевина или В. Сорокина за то, что они «не соответствуют» его концепту, но с точки зрения условной вечности отказывал им в праве первородства. То есть и на поприще газетной критики он оставался именно литературоведом. При всей своей повышенной эмоциональности, готовности и желании влиять на происходящие процессы.
Что, собственно, и доказала книга «Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е» (М.: НЛО, 1998). Это штрих-пунктирная, прихотливая, личностно окрашенная – история дымящейся литературы. Дымящейся так, как дымится вулкан, только что извергнувший лаву и набирающий силы для новых выплесков. История, сложившаяся, как мозаика, как пазлы. История, написанная вопреки ворчанию читателей или же, наоборот, вопреки их иллюзиям. Сейчас, когда мы перечитываем эту книгу, а также продолжившее ее «Замечательное десятилетие русской литературы» (М.: Захаров, 2003) и ежегодные «Дневники читателя» (М: Время, 2004 – 2008), то с изумлением отмечаем простроенность всех смысловых, концептуальных линий, словно автор писал это не день в день, не год в год, а спустя долгое время после завершения процесса.
Но даже в то «славное двадцатилетие», когда Немзер самоотверженно работал в рамках «газетной критики» (со всеми сделанными выше оговорками) он не прекращал собственно историко-литературной работы. Писал о Пушкине и А. К. Толстом, комментировал «Красное Колесо» Солженицына. Готовил послесловия в томам солженицынского полного собрания сочинений, собирал их в отдельный сборник. Многие из этих штудий собраны в огромный, как научное «избранное», том «При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы» (М.: Время, 2013). Но, может статься, любимой исследовательской темой стала для него в эти годы поэзия Д. С. Самойлова. Во многом благодаря немзеровской самоотверженной работе мы имеем полномасштабный самойловский том «Библиотеки Поэта», у нас есть откомментированный и текстологически проработанный сборник поэм Самойлова, несколько значимых монографических статей о поэте, которые, смеем надеяться, когда-нибудь перерастут в отдельную книгу.
Есть что-то символическое и закономерное в том, что именно фигура Самойлова стала на каком-то этапе центром притяжения научных и литературных интересов Немзера. Наследник русской классической традиции, человек и литератор, теснейшим образом связанный с XX веком, сумевший соединить несоединимое, принадлежность к «большому времени» литературы и полную включенность в живой литературный процесс, – Самойлов как никто другой рифмуется с научной и писательской установкой юбиляра. Позволяет работать без скидок на время и место, даёт простор историко-литературным обобщениям, не накладывая вето на любые современные аллюзии, замыкает пушкинские штудии на разборы кибировских текстов, а солженицынский взгляд на историю рифмует с пастернаковским лиризмом.
Здесь нельзя не сказать и об еще одной плодотворной сфере приложения талантов А. С. Немзера. С 1991 по 2002 он преподавал русскую литературу в ГИТИСе (переименованном в те же годы в Российскую Академию театрального искусства), а с 2002 – профессор Высшей школы экономики. Сперва преподавал журналистам, а с 2012 – филологам. Каждый его курс точно всегда точно продуман и систематически выстроен, соотнесен с другими. К университетским занятиям от общения со студентами до составления программ А. С. Немзер относится с предельной ответственностью и свойственной его характеру горячностью и страстностью. Лекции для него это не только реализация стремления поделиться своими без преувеличения энциклопедическими знаниями, не только естественное желание научить, объяснить, показать, но осознаваемая и переживаемая необходимость не позволить прерваться традиции передачи знаний, смыслов, связей, иерархий авторов и текстов, без которых невозможно себе представить будущее русской литературы и науки.
Слова любимого поэта, Д. С. Самойлова, в полной мере приложимы и к его исследователю; самойловский жизнестроительный сюжет на глубинном уровне совпадает с немзеровским методом: «Жизнь моя не лежит/ В такой хронологии строгой./ Свои пути избирая,/ Я избегал боковых./ А шел прямой дорогой./ Своей простой дорогой».
А. Н. Архангельский, К. М. Поливанов
Алина Бодрова
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Москва
Пушкинские сюжеты о Фаусте: еще раз к вопросу об источниках
Сюжет о Фаусте в разных своих версиях неоднократно привлекал внимание Пушкина и, по-видимому, довольно настойчиво занимал его, начиная по крайней мере с середины 1820-х гг. Не считая упоминаний о самом знаменитом – гетевском – «Фаусте» в заметках и письмах (см.: [Пушкин 1937—1959: XVII, 162]), в числе пушкинских творческих обращений к названному сюжету следует назвать прежде всего «Сцену из Фауста», при первой публикации в «Московском вестнике» 1828 г. озаглавленную «Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем»; « <Сцены из рыцарских времен>», в плане которых, относящемся к 1834—1835 гг., значилось появление Фауста на хвосте дьявола; неосуществленный план « <Папессы Иоанны>», которая, согласно помете Пушкина на полях рукописи, «слишком будет напоминать Фауста» [Пушкин 1999: VII, 251]; и, наконец, « <Наброски к замыслу о Фаусте>» (см. [Пушкин 1937—1959: II:1, 380—382]) – серию поэтических отрывков, относящихся ко времени михайловской ссылки и до сих пор не получивших общепринятой интерпретации.
Как видно из этого краткого перечня, единственное законченное произведение на фаустовский сюжет – это «Сцена из Фауста»; во всех остальных случаях мы имеем дело с планами, черновиками и набросками разной степени оформленности, что существенно затрудняет как интерпретацию этих замыслов Пушкина, так и выявление круга источников, на которые он мог ориентироваться. Не случайно проблема генезиса как «Сцены из Фауста», так и « <Набросков к замыслу о Фаусте>» не раз становилась предметом острых дискуссий. Их содержание можно свести к двум принципиальным вопросам: 1) какие европейские обработки сюжета о Фаусте были известны или могли быть известны Пушкину в 1820-е гг.? и 2) читал ли Пушкин «Фауста» Гете, и если да, то когда, в каком объеме, на каком языке и по какому изданию?
При некоторой, на первый взгляд, парадоксальности последнего вопроса, ответ на него не так очевиден. Хотя Пушкин едва ли настолько владел немецким языком, чтобы читать Гете в подлиннике33
См. [Жирмунский 1981: 106]; тем не менее высказывались малоосновательные предположения, что Пушкин мог познакомиться с немецким оригиналом при помощи кого-либо из своих одесских знакомых (например, С. Е. Раича или В. И. Туманского [Keil 1987: 58]) или позже, в Михайловском, при участии дочерей П. А. Осиповой [Благой 1974: 109; ср. Потапова 1996: 51—52].
[Закрыть], он, несомненно, был знаком не только с сюжетом Первой части «Фауста», но и с ее текстом, о чем говорят реминисценции из «Пролога на театре»44
Еще в 1820 г. в качестве одного из эпиграфов к «Кавказскому пленнику» Пушкин собирался взять знаменитую строку из финального монолога поэта («Gieb meine Jugend mir zurück»), вероятно, ориентируясь на какой-то источник-посредник. Та же строка предполагалась в качестве эпиграфа к «Тавриде» (1822; ПД 832. Л. 12; см. [Пушкин 1937—1959: II:2, 256]) – незавершенному замыслу, по-видимому связанному с работой над будущей поэмой «Бахчисарайский фонтан» (см. [Пушкин 1999: II:2, 496 (примеч. Е. О. Ларионовой)]).
[Закрыть] в «Разговоре книгопродавца с поэтом»55
О реминисценциях из «Фауста» в «Разговоре книгопродавца с поэтом» см. [Потапова 1996].
[Закрыть] и сходное композиционное решение при публикации последнего – в предварение Первой главы «Евгения Онегина». По мнению А. Л. Бема, в «Сцене из Фауста» обнаруживаются прямые переклички со сценой «Лес и пещера» (см. [Бем 2001: 180—192; Пушкин 1999: VII, 733—734 (примеч. М. Н. Виролайнен)]. Отмечались также мотивные соответствия между отдельными строками посвящения к «Фаусту» и эпиграфом к «Бахчисарайскому фонтану» (см. [Рак 2004: 299]), а также финальными строками Восьмой главы романа в стихах [Зубков 1981: 111—112]. Однако почти во всех случаях вполне основательно указывались авторитетные источники-посредники, знакомство Пушкина с которыми – в отличие от трагедии Гете – сомнению не подлежит: это и посвящение к «Двенадцати спящим девам» В. А. Жуковского (см. [Проскурин, Охотин 2007: 308; Пушкин 1999: II:2, 827 (примеч. Е. О. Ларионовой, А. И. Роговой, С. Б. Федотовой)]), представляющее собой перевод посвящения к «Фаусту», и книга Ж. де Сталь «О Германии», одна из глав которой специально посвящена трагедии Гете и содержит как довольно подробный пересказ содержания, так и тонкий анализ характеров персонажей и основных мотивов «Фауста». По авторитетному мнению В. М. Жирмунского, в целом принятому и в новейшем комментарии к «Сцене из Фауста», Пушкин в большей степени ориентировался на интерпретацию мадам де Сталь, чем на текст трагедии Гете (см.: [Жирмунский 1981: 105—106, 111; Пушкин 1999: VII, 734—736 (примеч. М. Н. Виролайнен)], ср. [Данилевский 2004: 100]).
Еще более существенные сомнения относительно сюжетной связи с гетевским Фаустом вызывали так называемые « <Наброски к замыслу о Фаусте>» – группа черновых стихотворных текстов, объединенных общим сюжетом о посещении Фаустом ада. Это условное редакторское заглавие было предложено Т. Г. Цявловской в Большом академическом издании [Пушкин 1937: II:1, 380—382] для трех блоков черновых набросков, находящихся, соответственно, в тетради ПД 835 (Л. 54 об.—55: «Что козырь? – Черви. – Мне ходить…», «Кто там? – Здорово, господа!..», «Так вот детей земных изгнанье?..», «Сегодня бал у Сатаны…»), на отдельном листе ПД 76 («Вот Коцит, вот Ахерон…», «– Кто идет? – Солдат…», «– Что горит во мгле?..») и в тетради ПД 829 (Л. 77: «Скажи, какие заклинанья…»). Основанием для их объединения в единый цикл стала более или менее явная связь всех набросков с фаустовской темой: в первых двух группах текстов вполне уверенно читается имя Фауста («Вот докто <р> Ф <ауст>, наш приятель…», «Докт <ор> Фау <ст>, ну смелее!»), в основе сюжета третьего – диалог с нечистой силой, напоминающий разговор Фауста с Мефистофелем в трагедии Гете (и в пушкинской «Сцене из Фауста»), а также в других обработках сюжета о Фаусте (см. ниже). Хотя решение Т. Г. Цявловской не стало общепринятым и несколько раз оспаривалось (главным образом в том, что касается правомерности включения в состав « <Набросков…>» отрывка «Скажи, какие заклинанья…»)66
Так, Д. Д. Благой считал, что набросок «Скажи, какие заклинанья…» стоит особняком от «основной группы» и не должен объединяться с другими набросками (см. [Пушкин 1969: III, 527], а также [Благой 1972: 297—299]). Ту же точку зрения высказывал затем и С. А. Фомичев [Фомичев 1983: 60; Фомичев 1993: 100], полагая, что отрывок «Скажи, какие заклинанья…», в котором нет никаких прямых отзвуков посещения Фаустом ада, «должен быть выделен и помещен среди произведений начала 1820-х годов». Отметим также, что именно такое решение – печатать в составе единой группы тексты ПД 835 и ПД 76 и отдельно от них «Скажи какие заклинанья…» – было последовательно принято в предшествовавших Большому академическому авторитетных изданиях 1930-х гг.
[Закрыть], сюжетно-тематическая и хронологическая близость набросков (прежде всего двух групп отрывков – в тетради ПД 835 и на листе ПД 7677
Наброски в ПД 835 предположительно датируются – по положению в тетради – январем – февралем 1825 г.: на Л. 52 – дата «1 генв <аря> 1825>», на Л. 57 – черновой автограф стихотворения «Сказали раз царю, что наконец…», вероятнее всего написанного около 25 января 1825 г., на Л. 58 об.—59 – заметка о стихотворении «Демон», по-видимому явившаяся откликом на трактовку этого стихотворения в «Сыне отечества» (1825. Ч. 99. №3; выход в свет 1 февраля; о ней см. ниже), с которым Пушкин мог познакомиться не ранее первой половины февраля (см. [Фомичев 1983: 61, 33]).
[Закрыть]), на которую указал в свое время еще П. О. Морозов [Пушкин 1900—1929: IV, 276—280 (2 паг.)], сомнению не подлежит, как и связь их с образом Фауста. В то же время вопрос об источниках « <Набросков…>» до сих пор представляет не вполне разрешенную проблему.
Предположение о том, что в этом замысле Пушкина отразилось знакомство с гетевским «Фаустом», было впервые высказано Анненковым применительно к наброску «Скажи, какие заклинанья…», который был им назван «попыткой» «перевода из «Фауста»». Хотя опубликовавший это наблюдение Анненкова П. А. Ефремов усомнился в справедливости такой интерпретации («не признать ли это скорее не переводом, а наброском для «Сцены из Фауста»» [Пушкин 1903—1905: VIII, 136]), П. О. Морозов в академическом издании без колебаний связал с сюжетом трагедии Гете не только этот отрывок, но все наброски «адской поэмы» [Пушкин 1900—1929: IV, 279—280 (2 паг.)]. Утверждение Морозова, в свою очередь, было в целом поддержано в работах А. Г. Горнфельда [Путеводитель 1931: 96] и Г. С. Глебова [Глебов 1933: 45—46], однако не было принято наиболее авторитетными советскими компаративистами – В. М. Жирмунским и затем М. П. Алексеевым.
Возражая против версии о «Фаусте» Гете как основном источнике пушкинских набросков, В. М. Жирмунский подчеркивал, что сюжет «Фауст в аду» «не является темой, близкой к замыслу Гете»: «Если праздник в аду мог бы иметь точки соприкосновения с Вальпургиевой ночью, то обозрение адских мук скорее напоминает Дантов „Ад“. Во всяком случае, тревоживший воображение Пушкина образ доктора Фауста связан лишь именем и общей сюжетной ситуацией с Фаустом Гете» [Жирмунский 1981: 110]. Еще более решительным оппонентом «гетевского происхождения» замысла был М. П. Алексеев, пытавшийся отрицать связь набросков не только с трагедией Гете, но и с образом Фауста вообще88
Более, того, по мнению Алексеева, даже прочтение имени Фауст во фрагментах «– Кто там? – Здорово господа» и «Вот Коцит, вот Ахерон…» сомнительно [Алексеев 1979a: 98; Алексеев 1979b: 29;], однако, как указал В. Д. Рак, «в обоих набросках начертание слова похоже на бесспорные написания имени Фауст» в других автографах» Пушкина [Рак (в печати)].
[Закрыть]: «в „сюжетной ситуации“ у Пушкина и у Гете я не усматриваю никакого сходства, как, впрочем, и в самых образах двух центральных действующих лиц у обоих поэтов» [Алексеев 1979b: 34]. Эти содержательные аргументы, отводившие связь « <Набросков к замыслу о Фаусте>» с трагедией Гете, кроме того, встраивались в общую концепцию Жирмунского (по-видимому, принятую и Алексеевым), согласно которой знакомство Пушкина с произведениями Гете было поверхностным, случайным и «необязательно из первых рук» [Жирмунский 1981: 109], а влияние немецкого поэта – всегда опосредованным.
Хотя далеко не все исследователи (прежде всего Д. Д. Благой) разделяли скептицизм Жирмунского относительно знакомства Пушкина с трагедией Гете в переводах и даже в подлиннике [Благой 1974: 108—110], тем не менее неоднократно предпринимались поиски других – сюжетно более близких – источников для обсуждаемых набросков. В этом качестве внимание комментаторов неоднократно привлекала Народная книга о Фаусте, изданная во Франкфурте в 1587 г. И. Шписом и затем переводившаяся на многие европейские языки99
Научный перевод издания Шписа на русский язык см. [Легенда о Фаусте 1978].
[Закрыть], в которой действительно наличествует сюжет «Фауст в аду» – см. главу 24 «Как доктор Фауст совершил путешествие в ад» [Легенда о Фаусте 1978: 81—84].
На основании якобы схожего написания имени Мефистофель у Пушкина («Мефистофиль») и в книге Шписа (Mephostophiles) Благой даже пытался доказать, что Пушкин мог обращаться непосредственно к немецкому тексту Народной книги [Благой 1974: 111—112], но это малоправдоподобная гипотеза была убедительно оспорена Алексеевым [Алексеев 1979a: 106—107]. В свою очередь, Алексеев, напомнив о давнем наблюдении Ю. Г. Оксмана [Пушкин 1935: 699], отметил, что Пушкин, очевидно, был знаком с кратким французским пересказом Народной книги о Фаусте, который был напечатан в 8-м томе «Всемирной библиотеки романов» [Bibliothèque Universelle 1776: 69—83], сохранившемся в библиотеке Пушкина ([Библиотека Пушкина 1910: 166, №641], соответствующие страницы разрезаны). Однако, по мнению Алексеева [Алексеев 1979a: 105—106], краткая версия книги о Фаусте из «Библиотеки романов» едва ли могла послужить Пушкину источником сюжета для набросков замысла о Фаусте, так как эпизод посещения ада был изложен в этом французском пересказе слишком сжато и общо, и «извлечь из него что-либо или вдохновиться им для пересоздания или полного переосмысления было довольно затруднительно». Ср.:
«Le Docteur fut curieux de savoir comme étoit fait l’enfer. Ses Diables l’y conduisirent. Il vit (mais pour cette fois en passant) ce lieu terrible, & ce ne fut pas sans chagrin qu’il réfléchit qu’un jour il entreroit dans ce séjour pour n’en jamais sortir. Pour le consoler un peu, le Diable le fit voyager en l’air jusqu’au milieu des planètes et des étoiles».
[Bibliothèque Universelle 1776: 73]
Перевод М. П. Алексеева: «Доктору хотелось узнать, как устроен ад. Его бесы сопроводили его туда. Он увидел (но в тот раз мимоходом) это ужасное место и не без горести задумался о том, что однажды он вступит в это жилище, чтобы никогда уже его не покинуть. Чтобы немного утешить его, дьявол отправил его в путешествие по воздушному пространству между планетами и звездами».
[Алексеев 1979a: 105]
Алексеев считал также маловероятным знакомство Пушкина с полным текстом или отрывками французского перевода Народной книги о Фаусте («Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Fauste, grand magicien, avec son testament et sa vie épouvantable»), выпущенного в 1598 г. В.-П. Кайе (Pierre Victor Palma Cayet, 1525—1610) и затем неоднократно переиздававшегося (см. об этом [Легенда о Фаусте 1978: 301]), а потому вовсе предлагал исключить французские переводы и переделки Народной книги о Фаусте из числа возможных источников пушкинских набросков [Алексеев 1979a: 105—106].
В контексте полемики о генезисе этого пушкинского замысла тем более существенным оказывается до сих пор не до конца оцененный предшествующими комментаторами, но вполне доступный Пушкину в 1825 г. франкоязычный источник, который, с одной стороны, дает полный текст трагедии Гете, а с другой – содержит тот самый фрагмент Народной книги о Фаусте, где рассказывается о посещении героем преисподней, – речь идет о французском переводе «Фауста», сделанном А. Стапфером (Albert Stapfer, 1802—1892) и вышедшем в 1823 г. в составе комментированного издания драматических сочинений Гете [Goethe Œuvres 1821—1825: IV, 1—231].
Французским переводам «Фауста» вообще не повезло в русской пушкиниане – Жирмунский, доверившись первому изданию авторитетного справочника Ф. Бальденсперже ([Baldensperger 1904], ср. [Baldensperger 1920: 127]), считал, что перевод Стапфера появился только в 1825 г., и исключал релевантность этого источника для фаустовских замыслов Пушкина [Жирмунский 1981: 106, 499]. Благой [Благой 1974: 106], хотя и указал на ошибку Жирмунского, подчеркнув, что Пушкин еще в Одессе мог познакомиться как с переводом Стапфера, одобренным самим Гете, так и с появившимся в том же 1823 г. переводом Л. де Сент-Олера [Goethe. Faust 1823], по-видимому, не счел их значимыми источниками и, судя по цитатам, пользовался только переводом Сент-Олера – менее точным и неполным, который никаких близких перекличек с пушкинскими текстами не обнаруживает. Наконец, новейшие комментаторы «Сцены из Фауста» и «Разговора книгопродавца с поэтом», указавшие на вероятное знакомство Пушкина с обоими переводами «Фауста» (см. [Пушкин 1999: VII, 733 (примеч. М. Н. Виролайнен); Потапова 1996: 51]), не выходили за пределы точечных параллелей между соответствующими текстами Пушкина и фрагментами трагедии Гете, и не обращались ни к сопроводительным текстам, ни к развернутому предисловию Стапфера ко всему изданию, помещенному в 1-м томе.
Между тем перевод Стапфера, вышедший в начале января 1823 г. [Bibliographie de la France. 1823. №2. 11 janvier. P. 17. №110]1010
Как неоднократно отмечалось, с этим переводом Пушкин мог познакомиться еще в Одессе: следы «одесского» чтения Гете можно видеть в словах из известного пушкинского «письма об афеизме» – от апреля – первой половины мая 1824 г.: «Читая Шекспира и Библию, святый дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира» (Пушкин 1937—1959: XIII, 92). Французский перевод Стапфера имелся, например, в библиотеке Дмитриевых (НБ МГУ, Дмитр. 5220—5223) и А. П. Ермолова (НБ МГУ, XVII. 311), что свидетельствует об интересе русских читателей к этому изданию.
[Закрыть], был заметным литературным событием1111
См., например, отклик о нем в «Revue encyclopédique» (1823. Т. XVII. Février. P. 384—385).
[Закрыть]. Предприняв довольно смелый для молодого переводчика эксперимент, Стапфер попытался передать полифоническую и полиметрическую структуру трагедии Гете. В «Предисловии переводчика» он подчеркивал, что в «Фаусте» выделяются две группы сцен: собственно драматические и лирические – те, в которых звучат «песни, романсы, пение небесных и адских духов, хоры колдунов и ведьм, магические заклинания»1212
Ср.: «…la partie lyrique, qui occupe dans Faust une place assez large. On y trouve çà et là des chansons, des romances, des chants d’Esprits célestes et d’Esprit infernaux, des choeurs de sorciers et de sorcières, des formules magiques» [Goethe Œuvres 1821—1825: III, III].
[Закрыть]. В соответствии с этим Стапфер избрал разные подходы к переводу: драматические сцены он передал прозой, лирические – стихами, пытаясь воспроизвести характерные для этих сцен ритмическую аранжировку и метрическое разнообразие. Помимо этого, Стапфер снабдил свой перевод предуведомительными пояснениями [Goethe Œuvres 1821—1825: IV, I—VI], а также поместил в приложении к нему фрагменты из Народной книги о Фаусте в переводе Кайе [Ibid.: 233—263].
В числе этих фрагментов находится и полный текст главы Народной книги, где в рассказывается о путешествии Фауста в ад («Comment le Docteur Fauste fut en enfer [Как доктор Фауст побывал в аду]»), совершаемом, правда, не наяву, а во сне, но описанном в красочных подробностях:
«Le Docteur Fauste s’ennuioit si fort, qu’il songeoit et revoit toujours de l’enfer. Il demanda à son valet Méphostophilès, qu’il fit ensorte qu’il peût enquérir son maître Lucifer et Bélial, et aller à eux; mais ils lui envoierent un Diable qui avoit nom Belzebub, commandant sous le ciel, qui vint et demanda à Fauste ce qu’il desiroit? Il répond que c’étoit s’il y auroit quelque Esprit qui le peût mener en enfer et ramener aussi, tellement qu’il peût voir la qualité de l’enfer, son fondement, sa propriété et substance, et s’en retirer ainsi. Oui, dit Belzebub, je te meneray environ la minuit, et t’y emporteray. <…> Maintenant écoutez comment le Diable l’aveugla, et lui fit le tour du singe; c’est qu’il ne pensoit en rien autre chose, sinon qu’il étoit en enfer.
Il l’emporta en un air où le Docteur Fauste s’endormit: tout ainsi que quand quelqu’un se met en l’eau chaude, ou dedans un bain. Puis après, il vint sur une haute montagne, au-dessus d’une grande isle: de-là les foudres, les poix et lances de feu éclatoient avec un si grand bruit et tintamarre que le Docteur Fauste s’éveilla. <…>
<…> En la suprémité de l’enfer il y avoit un brouillard si épais et ténébreux, qu’il ne voyoit rien du tout, et au-dessus il se forma une grosse nuée, sur quoi montoient deux gros dragons, et menoient un chariot avec eux, où le vieux Magot mit le Docteur Fauste <…>
Et comme il fut venu jusqu’au fondement, il vit dans le feu plusieurs bourgeois, quelques empereurs, rois, princes, seigneurs, et des gens d’armes tous enharnachez à milliers. <…> Le Docteur Fauste entra dans le feu, en voulut retirer une ame damnée; et comme il pensoit la tenir par la main, elle s’évanouit de lui tout à coup en arrière: mais il ne pouvoit alors demeurer là long-temps, à cause de la chaleur: et comme il regardoit çà et là, voici que vint le dragon, ou bien Belzebub, avec sa selle dessus, et l’assit dessus, et le passa ainsi en haut; car Fauste ne pouvoit là plus endurer, à cause des tonnerres, des tempêtes, des brouillards, du soulfre, de la fumée, du feu, froidure et chaleur mêlées ensemble; de plus, à cause qu’il étoit las d’endurer les effrois, les clameurs, les lamentations des malheureux, les hurlemens des Esprits, les travaux et les peines, et autres choses. <…> En cette façon vint Fauste derechef en sa maison, après qu’il se fût ainsi endormi sur sa selle, l’Esprit le rejetta tout endormi sur son lit. Et après que le jour fut venu, et que le Docteur Fauste fut réveillé, il ne se trouva point autrement que s’il se fût trouvé aussi longtemps en une prison ténébreuse; car il n’avoit point vue autre chose, sinon comme des monceaux de feu, et ce que le feu avoit baillé de soi. Le Docteur Fauste, ainsi couché sur son lit, pensoit après l’enfer. <…> Cette histoire et cet acte, touchant ce qu’il avoit veü, et comment il avoit été transporté en enfer, et comment le Diable l’avoit aveuglé, le Docteur Fauste lui-même l’a ainsi écrit, et a été ainsi trouvé après sa mort en une tablette de la propre écriture de sa main, et ainsi couché en un livre fermé qui fut trouvé après sa mort».
[Goethe Œuvres 1821—1825: IV, 247—251]
Перевод: «Доктору Фаусту так все наскучило, что он стал непрерывно думать о том, чтобы увидеть преисподнюю. Он попросил своего слугу Мефостофилеса, чтобы тот осведомился о том, может ли Фауст увидеть его хозяина Люцифера и Велиала и отправиться к ним; но они выслали к нему беса по имени Вельзевул, властвующего поднебесной, который явился и спросил у Фауста, чего он желает. Тот отвечал, что желал бы, чтобы один из духов ввел его в преисподнюю и вывел обратно, чтобы он смог увидеть свойства, основания, владения, особенности и сущность преисподней и вернуться оттуда. Хорошо, – отвечал Вельзевул, – я тебя поведу около полуночи и доставлю туда. <…> Теперь послушайте, как Дьявол ослепил и одурачил его так, что он и не мыслил иначе, как если бы он побывал в аду.
Он поднял его на воздух, и там Доктор Фауст уснул, как засыпает человек, погруженный в теплую воду или ванну. Затем он поднялся на высокую гору, возвышавшуюся над большим островом: молнии, потоки смолы и огня производили такой шум и грохот, что Доктор Фауст проснулся.
<…> На дне преисподней стоял такой густой и плотный туман, что ничего не было видно, и вдруг над ним возникло большое облако, на которое поднялись два огромных дракона, запряженные в колесницу, в которую старая обезьяна усадила Доктора Фауста. <…>
<…> Когда же он попал на самое дно, увидел он в огне множество горожан, несколько императоров, королей, князей, вельмож, а также тысячи вооруженных воинов. <…> Доктор Фауст ступил в огонь и хотел вытащить душу одного из грешников; но когда ему показалось, что он уже держит ее за руку, она вдруг исчезла; однако из-за жара он не мог здесь оставаться дольше, и когда он осмотрелся по сторонам, глядь – идет к нему дракон, или Вельзевул, с креслом на спине, он усадил его и вынес обратно наверх; ибо Фауст не мог дольше там оставаться из-за громов, бурь, туманов, серы, дыма, пламени, холода и зноя <…> ему невыносимы были ужас, муки, стенания несчастных, завывания духов, труды, наказания и прочее. <…> Таким образом доктор Фауст вернулся к себе домой, и, как заснул в кресле [на спине Вельзевула], так спящим дух и сбросил его на постель. Когда же настал день и доктор Фауст проснулся, он почувствовал себя не иначе, как если бы он некоторое время просидел в мрачной темнице; ибо не видел он ничего, кроме потоков пламени и того, что вышло из пламени. Так, лежа на постели, раздумывал доктор Фауст о преисподней. <…> Эта история и рассказ о том, что он видел и как побывал в преисподней, и как дьявол его ослепил, так и были записаны самим доктором Фаустом и найдены после его смерти на записной табличке собственноручно заполненной и вложенной в книгу».