Текст книги "Про Веничку (сборник)"
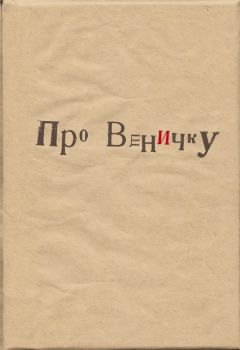
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Лев Кобяков
Сметчик “Моспроект-2”

Познакомились мы с Веней летом 1955 года, в университетском общежитии, а может, под Можайском, куда нас отправили после вступительных экзаменов.
Мы там меняли грунт в совхозе: старый снимали, а новый смешивали с навозом и клали вместо старого. Очень увлекательная была деятельность для будущих студентов филологического факультета. Правда, были в ней и положительные моменты: мы там все перезнакомились, и это способствовало чувству единения.
Веня тогда был типичным провинциальным мальчиком, золотым медалистом с голубенькими глазками, тихим, застенчивым, добрым, милым и очень наивным. Помню, он показал мне роскошную логарифмическую линейку, которую привез с собой в Москву. Я спросил: “Зачем?” Он ответил: “Ну, как же, мы же будем в университете учиться”. Почему-то он считал, что раз в университете, то обязательно у нас будет математика. Я, конечно, очень по этому поводу веселился. Потом он, разумеется, изменился, усвоив правила разгульной студенческой жизни, научился и вино пить.
После первого курса я университет бросил и уехал на стройки Сибири, и наше общение с Веней, естественно, прервалось. Вновь встретились мы через несколько лет, когда я возвратился в Москву, году в 1962, через Володю Муравьева. Я уже был женат тогда.
Году в 63-ем уговорили мы Веню опять поступать на филфак МГУ, и я пошел сопровождать его на вступительные экзамены. Про письменный экзамен ничего не помню, а вот на устный я довел его до двери в аудиторию. По дороге мы купили две бутылки вермута, и я остался ждать Веню в коридоре. Жду полчаса, час, второй пошел. Я сначала стоял, потом присел на подоконник – дело было еще в старом здании университета, на Моховой, – недоумеваю. Я же знал, что для Вени этот экзамен легче легкого. Заглядываю в аудиторию и вижу: на полпути к дверям стоят экзаменаторы, поддерживая Веню под локотки, и почтительно дослушивают его лекцию о малых русских поэтах 19 века. Ну, а потом мы пошли пить наш вермут. Экзамены Веня тогда сдал, но учиться не стал, разумеется.
У него была феноменальная память на тексты, как и у Володи Муравьева. Они устраивали состязания между собой, кто больше прочитает стихов, – это могло длиться часами. Но помнил Веня не только тесты: в отличие от обычных людей, он помнил подробности любого, наугад названного дня из прошлого. Его можно было спросить: Веня, а что было такого-то числа, такого-то года? И он отвечал, с кем именно он провел этот день, какая стояла погода, что он пил, что читал, какую музыку слушал, о чем и с кем говорил. Мы пытались его проверять, и всегда оказывалось, что он не сочиняет, а действительно все помнит.
Как-то, когда Веня жил на даче Делоне, я поссорился с женой и поехал его навестить. Приехал в Абрамцево на последней электричке, почти в полночь, а Вени там не оказалось. Что будешь делать! Темень кромешная, холод, возвращаться в Москву не на чем, да и вино не везти ж назад. Пошел я в котельную, там дежурный. Я ему говорю, что, мол, так и так, приехал к другу, а того нет. Сторож просиял: да я его знаю! Сели мы с ним, распили привезенное мной вино. Потом он Вени ради врубил свет по всему поселку, чтобы я добрался до станции.
В те же годы ездили мы с женой на Венин день рождения в Орехово-Зуево, где он снимал комнату. Человек 20 собралось: из Москвы, из Орехова, Юра Киселев, Боря Сорокин, Вадик Тихонов… Споры обо всем на свете – о философии, искусстве, религии.
По-моему, Веня никогда не был религиозен: для него религия была, скорее, важна культурологически, чем в качестве жизненной практики.
Запомнилось, что Веня во всех книжных магазинах спрашивал “Историю русской музыки” и бывал страшно доволен, когда удавалось купить разрозненные тома. Вообще он невероятно много читал.
Веня был добрым и доброжелательным человеком, но, если ему что-то не нравилось, он никогда этого не скрывал и бывал весьма резким, особенно, если что-то его возмущало.
Однажды он принес мне книжечку стихов Заболоцкого и сказал: “Значит так, через неделю мы с тобой встречаемся, и чтобы ты полюбил Заболоцкого”. И я полюбил Заболоцкого по его приказу.
Когда он поселился на Флотской, я несколько лет подписывал его на газету ДОСААФ “Советский Патриот”. Без его ведома. И однажды он мне сказал, что честно прочел один из номеров от слов “Пролетарии всех стран, соединяйтесь…” до тиража. И сказал примерно так: “Замечательная газета. В ней нет ничего. Совершенно никаких сведений”
Веня был человек, начисто лишенный чувства собственности, такой “неполный обыватель”. Даже, когда его издавали уже на Западе, а деньги за эти публикации до него попросту не доходили, потому что какие-то люди их от его имени там жульнически получали, он не сердился, не злобствовал. Хотя, конечно, досадовал. И был Веня скромен. Но знал просто, сколько он стоит, и всегда был равен своему знаменателю. При мне он никогда не ругался матом, поскольку мне, с моим строительным опытом, по этой части ни Веня, ни кто другой не мог оказаться интересен.
Почему-то запомнился стишок из самиздатского тогда Губермана, нравившийся Вене:
Сломал березу иль осину,
Подумай: что оставишь сыну?
Что будет сын тогда ломать?
Остановись, мать-перемать!
Был Веня очень деликатен: мог спорить, иногда жестко, по разным поводам, но никогда инакомыслия собеседника не ставил ему в вину, не рвал из-за этого отношений.
В 1989 году на Флотской Веня отмечал свой день рождения, но не 24 октября, а 28-го и подарил мне тогда экземпляр альманаха “Весть” с публикацией полного текста поэмы “Москва-Петушки”, подписав книгу. Когда в следующем году, но уже в апреле, я приехал к нему в “бухенвальд”, то есть онкоцентр на Каширке, где он лежал на 23-ем этаже, в 4-ой палате, Веня подарил мне первое издание поэмы отдельной книгой, выпущенное А. Лейкиным. Подписать книгу Веня уже не мог, я сам под его взглядом записал день и число на развороте первых страниц издания.
Вернувшись из Смоленска с обещанными Вене ландышами, в живых его я уже не застал.
Римма Выговская
Машинистка-надомница издательства “Физматгиз”

Мы познакомились в начале 60-ых, через моего мужа Льва Андреевича. Веня был очень красивый и обаятельный до ужаса.
В годы активного нашего общения с Венедиктом мы жили в коммуналке на Варшавском шоссе, в 14-метровой комнате. У нас было двое детей, и поэтому я старалась работать больше дома, брала подработку – печатала на машинке. Веня у нас часто бывал.
Однажды пришел и говорит:
– Знаешь, у меня страшно болит голова.
А у меня самой бывали сильные мигрени, и я предложила сделать то же, что делал мой муж, когда я мучилась головной болью: он наливал горячую воду в тазик и мыл мне ноги. Веня согласился. Я посадила его на стул, принесла горячей воды и вымыла ему ноги.
Не понимаю сейчас, каким образом – тогда ведь не только мобильников, но и обычного телефона у нас не было – мы договаривались о встречах, но мы с Веней очень часто встречались у станции метро “Добрынинская” и ехали к нам. Вот однажды мы так встретились и поехали на Варшавку. По дороге я говорю: Веня, давай зайдем в магазин, надо чего-нибудь купить. Он согласился, мы вошли в магазин, и он купил бутылку водки, потом еще одну, потом еще и еще. Я говорю:
– Дай мне денег, закуску купить.
Он мне отвечает:
– Не дам. Закуска – это забота баб.
– Ну, так дай мне взаймы.
– А взаймы я не даю никогда.
Теперь и не помню, как это все обошлось.
А однажды, встретившись таким же образом, мы ехали опять к нам, и Веня говорит:
– Ты знаешь, Выговская, я вчера зарплату получил. Имею право что-нибудь себе купить. У вас тут есть магазин, где продаются пластинки?
– Есть, только тогда придется проехать мимо дома.
– Так что ж, мы ведь потом вернемся.
Поехали, входим в магазин “Культтовары”. А Веня был в черном пальто, – хорошее пальто, но очень мятое, и рукава были Вене коротковаты (в общем, сейчас бы сказали, что похож был Веня на бомжа, но тогда такого слова не употребляли), – идем в отдел пластинок. За прилавком стоит молодой продавец, ухоженный, завитой, прекрасно одетый, и с таким презрением он на Веню посмотрел. Веня спросил пластинку Малера – и в одну секунду все изменилось: продавец преобразился, позвал Веню за прилавок, они там с полчаса копались, разговаривали. Веня себе что-то выбрал, был очень доволен. Продавец, провожая нас, сказал:
– У меня редко бывают такие покупатели. У Вени было в обычае никогда и ни на какой вид транспорта не брать билетов. Я ему сказала, что привыкла, когда еду с мужчиной, к тому, что он покупает мне билет. А Веня мне:
– Считай, что я не мужчина.
– Возьми мне билет.
– Не буду. Ты поступай, как хочешь, а я билетов не покупаю.
1962 или 1963 год мы встречали вместе: он снимал тогда комнатку в Орехове-Зуеве. Маленький домик, в комнате кровать с ситцевым пологом, из-за которого все время выпрыгивал семилетний хозяйкин сын. Гости разговорчивые, закуски и выпивки полно. Веничка восседает во главе стола и молчит. Все речи обращены к нему, а он в ответ лишь головой кивает, как король. Рядом со мной оказался молодой меломан, который все пытался мне “объяснить” Стравинского, но я ему сказала, что музыку я люблю слушать, а не “объяснения” по ее поводу – он и замолк. Но с Веней потом они очень оживленно и интересно говорили о Стравинском.
Мы с Веней никогда не беседовали о литературе, политике, религии или философии, а только на бытовые темы. У меня уже был годовалый сын, когда сынишка родился и у Вени. Мы, разумеется, отдавали одежку для малыша, и Веня всегда говорил:
– Выговская, это безвозмездно.
У нас был фотоаппарат “Смена”, мы делали им снимки старшего сына Мити. Когда у Вени появился Венедикт-младший, он выменял у нас этот фотоаппарат на какую-то книгу, чтобы фотографировать своего малыша.
Мы с ним часто говорили о детях. Когда Вениной внучке Насте исполнилось 4 года, он с гордостью сообщил мне, что Настя знает все матерные слова. Я заметила, что мои дети матом не ругаются.
– Напрасно. Это ваше большое упущение.
Лев Андреевич однажды сумел раздобыть томик Фета – с книгами тогда плохо было, – к нам пришел Веня. Когда он уехал, я книги не обнаружила. В следующее появление Вени у нас я спросила:
– Это ты Фета увел?
– Конечно. Зачем он тебе? Что ты в поэзии понимаешь?
– Верни.
– У меня его уже нет, кто-то стащил.
С тех пор каждый раз, когда в моем доме появлялся Веня с кем-нибудь из своих приятелей, перед их уходом я их обыскивала, чтобы они не утащили какой-нибудь книги.
Как-то поздней осенью 69-го года к нам приехал Володюшка Муравьев вместе с Веничкой. Оба были очень возбуждены и о чем-то спорили. Оказывается, Веничка принес и дал почитать Володе рукопись своей поэмы “Москва-Петушки”. Прочитав ее, Володя сказал, что не отдаст Веничке рукопись, пока не снимет с нее копии. В то время скопировать что-либо можно было, лишь переписав от руки или напечатав на машинке. Я тогда работала машинисткой в издательстве “Физматгиз”, вот Володя и приехал ко мне с просьбой перепечатать поэму. Причем вредный Венька соглашался оставить рукопись (а это была большая тетрадь, типа конторской, в коричневом переплете) только до утра. Уложив детей (двух и пяти лет) спать, я села за машинку. Гостей выставила вон, чтобы не мешали, а дети привыкли спать под стук моей машинки. Митя, старший, даже иногда просил, если вдруг я не садилась печатать: “Мам, сядь, поработай немного, а то я уснуть не могу”. Вот и в этот раз я села “немного поработать” и печатала всю ночь. Венедикт словно под дверью стоял: явился через полчаса, как я перестала стучать на машинке.
Володя попросил меня сделать 5 экземпляров, я, конечно же, сделала для себя шестой, на папиросной бумаге. Венька потом долго ругал меня за большое количество опечаток. Но ведь я напечатала поэму за 8, причем ночных, часов, после целого дня работы на этой же машинке. А норма тогда у машинисток была 32 страницы в день. Позже Володя сказал мне, что именно мой экземпляр рукописи был отправлен за границу.
Потом Венька стал к нам приходить не один, а с компанией, и я ему как-то сказала, что ему одному мы всегда рады, а 10–12 человек в комнате с часто болеющими малышами как-то некстати. Мы поссорились. Я отказала ему от дома: выставила его среди ночи, и 10 лет мы не виделись. Лев Андреевич продолжал с ним общаться, но на стороне. Когда Веня уже болен был, в Центральном доме архитектора отмечался его день рождения, и Галя прислала нам пригласительные билеты, мы пошли. В фойе я подошла к нему:
– Здравствуй, Веня! Ты меня узнаешь?
Он очень обрадовался:
– И ты пришла?
Мы расцеловались.
Последний, как оказалось, для Вени новый год мы встречали вместе: они с Галей нас позвали в Абрамцево. Мы приехали с моей подругой Леной Лапиной в сопровождении двух собак, ее и нашей. Веня записал в дневнике, что приехал Кобяков с тремя суками. Он ошибся – сук было 4. Прибыли мы часов в десять, 31-го декабря. Там уже была Наташа Шмелькова с какой-то своей то ли подругой, то ли родственницей и Галина мать. Мы стали вместе наряжать елку во дворе, проводить свет, радио. Галя приготовила шампанское и бокалы. Встретили новый год у елки, выпили шампанского, а потом пошли в дом и сели за стол. Веня хотел сказать тост, но Наташа его все перебивала, и он замолчал. Жаль, он ведь так редко брал слово, а тут чувствовалось, что он хотел сказать что-то важное. Потом он и вовсе ушел из-за стола к себе, на второй этаж, и больше не спускался. Было как-то тягостно, и мы уехали с первой электричкой. На старый новый год Галя нас опять пригласила, сказав, что объявляется вторая попытка. Но 13-ое приходилось на какой-то будний день, и мы не поехали.
Вообще перед Галей я чувствую себя виноватой. Она, мне кажется, была единственной женщиной, которая для Вени очень многое сделала: попросту легализовала его. Она его очень любила. Галя была доброй, со странностями, конечно, но в ней не было агрессии, не было злобы. Володе Муравьеву она говорила, что умеет летать. Она очень тосковала после Вениной смерти. Мы к ней дважды приезжали в психиатрическую больницу, на Каширку. Галя сказала, что хочет с нами встретить новый год. Мы пообещали договориться с врачами и забрать ее к себе. Приехали, чтобы поговорить с врачами, а оказалось, что Галю выписали. Мы сдуру обиделись, что она нам ничего не сообщила, и не перезвонили ей. Нашли на кого обижаться – на больного-то человека… Потом узнали о Галиной гибели.
С Веней мы со Львом Андреевичем в последний раз виделись 26-го апреля 1990 года. Мы приехали в онкоцентр, потому что собирались на Смоленщину, где у нас был домик.
Веня уже был очень слаб. Мы привезли ему килограмм клюквы, и я сказала:
– Венька, там, знаешь, какие ландыши!
– Привези мне…
Я привезла. Привезла… и положила их ему в гроб.
Пранас Моркус (Яцкявичюс)
Сценарист, кинодраматург
Комната, лестница. Дом

Когда изредка случается рассказывать о знакомстве с Венедиктом Ерофеевым, становлюсь человеком, который встречался с “Ильичом”.
Видел, конечно, но с расстояния. Тот говорил, но из-за шума не удалось разобрать, о чем именно.
Расстояние действительно было, ничего не скажешь – тысяча километров. Кроме того, совершенно иная – во всех смыслах – часовая полоса. Первые слухи о “Петушках” до меня дошли в 80-ых. Итак, мы близко дружили на заре юности, три десятилетия спустя снова встретились и друг друга не узнали. В веселой сутолоке празднующих день рождения его выделял выжженное горло скрывавший марлевый четырехугольник, яркой белизной неожиданно напоминавший колорату – различительный знак католических и протестантских священников в миру, символ непорочности. Я подошел, назвал себя и тут же пропел про десятилетия. Веня приблизил к губам голосовое устройство, этакий электронный пирожок. “Нет, в промежутке еще была та встреча на лестнице”, – мягко поправил он. Я смутился: какая такая лестница? Все эти годы я припоминал его не иначе, как в комнате общежитий, сначала на Стромынке, потом – в Черемушках, куда салаг первокурсников через месяц перевели, наконец, – в том самом, увековеченном антологией поэтов, ремстройтресте, и всегда это была та самая комната: четыре железные кровати вдоль стен с наивными цветочками на обоях, больничные тумбочки при каждой из них, стол посередине под свисшей с потолка лампочкой; да еще обязательная для тех лет радиоточка; словом, явленный прообраз юношеской бездомности и транзитности, нечто вроде отсека в плацкартном вагоне. Ерофеева это устраивало. Его заставали, сидящим или полулежащим на кровати, всегда читающим либо записывающим в небольшие блокноты, никогда – за едой или чаем при инвентарном алюминиевом чайнике. Не припомню его в застольях. Новый, 1957-ой, год встречали на Стромынке, но за пару минут до курантов Спасской башни Ерофеев встал и заявил, что лучше зайдет в уборную. Взял бутылочку и ушел.
Он не учился, в общепринятом смысле, конечно. Те курс—полтора, которые ему отводились при каждой попытке получить высшее образование, были ему в самый раз, а с механической необратимостью повторявшиеся безжалостные отчисления после первых курсов (“Ты все пела? Это дело. Так пойди же попляши”), наталкивали на догадку: чтобы защитить правоту стрекозы, чтобы на небосводе зажглась звезда Петушки, ему надлежит взойти на иной холм. Да и куда бы заманили эти – второй, третий, четвертый курсы? Если и так – тропой ежика, поспорившего с тигром кто быстрее, – он поспел первым и оказался лучшим. Шутя и дурачась, он оставался мрачноватым и собранным, соотносящим происходящее с неким предначертанием.
Но покуда было черемушкинское общежитие, коридором вдоль разделенные этажи. Восточные окна показывали золотившиеся в московских далях башни и колокольни; с той стороны приезжали трамваи и возле барака при начатой стройке вываливали десант; отдохнув, заворачивали назад – в центр. Тут же располагался продуктовый, а за углом – пункт приема стеклотары с непременной гроздью мужчин и авосек с бутылками.
Ерофееву досталось окно на запад. Там пылали милые сердцу мечтателя закаты и простирались заброшенные колхозные поля, руины ферм и складов, густые заросли на холме. К ним вела романтическая тропинка. По ней, возбуждая всеобщую зависть, водил своих девушек неотразимый Витя Дерягин.
Коридор наш таким образом являл собой грань двух миров.
Пошли зачеты да экзамены, и Венедикт Васильевич поделился со мной секретом, как избегать провалов. Ему это удалось дважды: купил две упаковки сибирских пельменей, съел их сырыми, пронесло, достал медицинскую справку, отлежался, за это время наверстал упущенные знания.
Не помню, как мы спелись. Воспоминания сокурсников в книге “Время, оставшееся с нами” представляет меня эксцентричным и нескованным, следовательно, в собеседники для Ерофеева мог годиться. Я же с самого начала был сражен дедикацией на бунинском сборнике, впервые в СССР выпущенном: “Мне от меня в день моего рождения. Будь здоров, сучка!”. Потом пошли: “Люди лучше сарделек, но хуже сосисок”, “В комнате стояла Матросская тишина” и то, что уже в наши времена всплыло в “Записках психопата” и “Бесполезном ископаемом”. Эти книжечки припомнили, о чем тогда, резвясь, говорилось, но удивили обилием прямых и переваренных цитат из гула шаболовского трамвая. По не застроенным еще пустырям, мимо больницы Кащенко, Донского монастыря, он отвозил студентов к кинотеатру “Авангард”, на Октябрьской площади, до этого бывшего церковью, а потом зодчими и вовсе сметенным с лица земли. В грохочущей, трижды переполненной пассажирами коробке мгновенно вспыхивали споры, по какую сторону Пиренеев больше уважают советского человека; после того как в целях экономии убрали кондукторов и предоставили люду самому брать сдачу с оплаты за проезд, озверение превратило каждую поездку в Армагеддон. Из обрывков новояза, сумеречных бормотаний оболваненных людей да сверкающих обломков высокой поэтической речи шелкопряд Ерофеев начинал свою тончайшую работу.
Те обломки были из только что появившегося Фета, из Мирры Лохвицкой, Игоря Северянина. Потом вдруг, наверное, с подсказки Володи Муравьева (впоследствии наставника и главного читателя Ерофеева), возник Хлебников. Запомнились макферсоновские “Песни Оссиана”, из которых Ерофеев, любитель всяческих мистификаций, создал прелестную легенду о потерянной рукописи романа “Шостакович”. Он ничего не терял. Вот, казалось бы, сгинуть всем этим крохотным блокнотикам да листикам, ведь сколько пережито переездов и выселений! Ан нет, все – на месте, и даже – сгинувшая вроде антология и та есть.
Летом 56-ого, когда студенты разъехались, и Черемушки опустели, Ерофеев оставался один на всю комнату. Откуда-то притащил ультрамаринового цвета заводимый вручную проигрыватель. Имелась у него одна-единственная пластинка, и он без конца ее ставил. Это было “Болеро” Равеля, нескончаемое кружение по спирали. Много лет спустя, в 80-ом, в альманахе “Часть речи”, вышедшем в Нью-Йорке, я нашел эссе Петра Вайля и Александра Гениса “Литературные мечтания. Очерк русской прозы с картинками”. В “Петушках” они усмотрели движение по кругу с возвращением на то же место или почти то же.
Вот так отозвалось то летнее “Болеро”.
А лестница, о которой в свое пятидесятилетие мягко напомнил Веничка, между тем, таки была. В начале шестидесятых я учился на сценарных курсах, и раз в неделю нашей группе было положено явиться к руководителю мастерской Леониду Захаровичу Траубергу. Он жил на Пушкинской площади, в огромнейшем сером доме, напротив редакции “Известий”. Стайкой, реже в одиночку мы поднимались к нему на шестой этаж и отчитывались за домашние задания. Если наши литературные находки казались выходящими из ряда вон по нелепости, мастер наклонялся к уху сочинителя и как бы по секрету сообщал: “А у нас на лестнице старик с козой жил”. Это означало, что сцену или диалог придется переработать. Мне этот секрет доставался чаще, чем сокурсникам, и что же оставалось, кроме как нырнуть в огромность непостижимого города? Но сначала надо было спуститься по лестнице. Вне зависимости от времени суток тут царила ночь – окна отсутствовали, стены покрывала зловещая масляная краска цвета танка, а уж невообразимая узость колодца! Чтобы забыть неудачу, минуя этажи косился на двери и гадал: за которыми же притаился распоясавшийся старик? И вот однажды меня окликнули по имени. Я нехотя остановился. На ступеньке сидел Веничка. Молчание длилось секунду или две, потом, объяснив вкратце, что, как и почему, я боком обошел его и продолжил свою дорогу в никуда. Как же иначе? Человеку присуще ошибаться на всех путях.
В те или почти те годы, но в том же самом месте, тенью был остановлен идущий в гости молодой поэт Томас Венцлова. Поэт спросил, с кем имеет честь, тень поинтересовалась, кто он сам, таким вот образом они друг другу представились, и сразу выяснилось, что у обоих в доме общая знакомая – Наталья Леонидовна Трауберг. Случай оба поэта решили отметить. Бродит и еще один сюжет того дома: как в лютые московские морозы старушка-балерина, уговариваемая соседями, сжалилась и приютила юного вагабунда. Утром Ерофеев вежливо поблагодарил и ушел. На том бы и кончилось, но, к несчастью, дом-то был престижнейший, настолько, что у некоторых жильцов могли быть обнаружены – в те-то времена – заморские напитки. И, увы, благодетельница заметила, что бутыль “Белой лошади” пуста; между соседями разразился скандал.
В конце концов – об этом сказано в одном интервью – в некоем ином подъезде, утром, ночными друзьями забытого Веничку подобрала уходившая на работу Галя Носова. Современники время от времени ее поругивали, вряд ли справедливо, жена есть жена, ее полагается оставить, как жену цезаря, вне оценок, а, кроме того, с ее появлением вокруг Ерофеева стал возникать быт: книжный шкаф, полка для пластинок, мягкие поверхности для отдыха, стол для работы – настоящий дом. И в нем, как некогда в черемушинские времена, Ерофеев с книгой в руке возлежал, словно пирующий римлянин на триклиниях. Он всегда умел очертить магический круг приватности – из двух—трех имен на обложках по тумбочке разложенных книжек, из блокнота с авторучкой наискось. И это являлось его уютом, но сейчас – почти благосостояние ему не только шло, но и, внезапно оказалось, всегда было втайне желанно.
Как и, мне показалось, наша с ним встреча. Заговорили, словно из ремстройтрестовского дома я ушел вчера. Я спросил, передал ли Анджей Дравич, что черная тетрадка не пропала. Да. Утром его насмешила венгерская переводчица “Петушков” Эржбет, заливавшаяся румянцем, когда ей объясняли толкование некоторых обсценических мест поэмы. Я похвастался, что нашел листочек с записанным с его слов “Путешествием вокруг Европы на теплоходе “Победа””, северянинским откликом на мировые актуалии. Он не обрадовался: “Стыдно ведь”. Напомнил ему историю с “Сибирскими пельменями”. Благодаря ей удалось стих Огненно Рыжего Завсегдатая отчасти разгадать:
Сегодня я должен О. З. (– обязательно заболеть)
Чтобы завтра до вечера Л. (– лежать)
Мне очень не хочется С. (– спать)
Но больше не хочется Р. (– работать)
“Там все стихи написал ты?” – “Да, все сам”. Он позвал жену: “Мне 42 грамма коньяку!”. Выпил, убедился, что таз для отхаркивания рядом, и задремал.
Мы с Галей перешли на кухню. Рисунок, подаренный мной на пятидесятилетие, уже висел на стене. Хозяйка никак не могла поверить, что он предназначался для другого человека и случайно оказался в поле зрения, когда я в тот вечер, позвонив, узнал от нее, какой у них праздник. Я возразил, что и другое случайно: встреча в Вильнюсе с Анджеем Дравичем, который по дороге в Москву сделал остановку, чтобы заглянуть в самый первый в столице и в Литве частный магазинчик – главную в тот год туристическую достопримечательность города, – первую ласточку капитализма. Анджея я еще повел к только что прославившемуся митингом памятнику Мицкевича. Перешли Вилейку, и в запущенных дворах Заречья в один голос заговорили о Веничке, об особенностях польского перевода “Петушков”. Дравич, смеясь, рассказывал, как долго определял, что, из производимого в Польше, достойно автора книги и выбрал сверхградусную “Пейсахувку”.

Я попросил московский адрес, Анджей достал свою визитку и куриным почерком начертил слово “Флотская”. Все случайности: и то, что у приятеля-художника, выпросив несколько рисунков, я взял в Москву именно этот – с распятиями и стойкой бара, и звонок – аккурат в тот день и час.
С Галей разговаривалось легко. Я был человеком со стороны, не впутанным в паутину обволакивающих этот дом антагонизмов, интересов, страхов и страстей, следовательно, непредвзятым. Ерофеева настигла слава, к нему все стали льнуть, все хотели им владеть, он был недосягаем, и удары доставались ей.
Венедикт Васильевич проснулся, мы вернулись к нему. Галя тут же унесла таз. Хозяин по-прежнему величественно возлежал на триклинии. Мы долго молчали. “Вот и жизнь прошла”, – подумал я. Возможно, – и он.
“Когда ты чувствовал себя счастливым?” – вдруг спросил я. Он не стал прикидывать, сразу заулыбался, словно и сам себя раньше об этом спрашивал, так что ответ был готов:
“Вот сидим мы с приятелем в вагончике для приема стеклотары, в темноте, разговариваем себе, ночь, тишина… Как вдруг – бабах по ставням! Они снаружи обиты жестью, грохот адский, крики. Мы притихли, молчим, слушаем. А оттуда: “Пора открывать, вам говорят! На часы посмотрите! Вешать таких мало!”
Рассказывая, он впрямь на миг стал счастливым. Кого не расшевелит это “вешать мало!”. А еще – радость охватить весь мир: побыть одновременно приемщиком тары и ее сдатчиком, сам многие сотни раз с утренней гроздью пустых бутылок в авоське к заветному окошку, словно пчела к цветку, приникавшим.
В упомянутой книге сокурсников Женя Костюхин написал, что Ерофеева Веничкой окрестил я, в группе его называли иначе. Если честно, не помню. Но раз написано… Действительно, все попадавшиеся под руку имена мы с Леней Михайловым, применяя нехитрую фонетическую матрицу, перелицовывали кто во что горазд. Но это – ласкательное, применимое к ребенку. Он, впрочем, и был самым юным на курсе. А к тому же почти все из нашего круга выросли без отцов, сидевших или погибших в лагерях, ушедших. Рука незримого сеятеля раскидала их по бесчисленным пустырям да проходным дворам огромной страны. Содержательнейшая хроника последних лет Венедикта Ерофеева названа Натальей Шмельковой “Во чреве мачехи”. Тот вагончик – чем он не мачеха с ее чревом? В этой книге – еще одно замечательное свидетельство: зимой девяностого, в самый канун кончины, Венедикт Васильевич, смущаясь, попросил в Архангельском подругу, когда стемнеет, покатать его на санках. Ахматова, говорят, очень любила определять подлинный возраст знакомых мужчин, и редкому начислялось больше четырех лет.
А сколько было тому седому мальчику в заснеженных лесах Подмосковья, устроившемуся на санках в позе эмбриона, притихшему, счастливому, сумерками упрятанному от безжалостного мира?…
В начале мая рокового для всех девяностого снова надо было в Москву, но я попал в город, где Ерофеева уже не было. Запомнилась церковь возле Донского монастыря и престранная толпа внутри. Я понимал, что на Веничкиных похоронах возможны любые лица, кроме вельможных, но тут что-то явно не совмещалось, а прояснилось, когда общая очередь на последний поклон подошла поближе: гробов и усопших было несколько. От неизбежности тереться задом о гроб незнакомого, к тому же ни в чем неповинного человека, я опешил. Лицо Венедикта Васильевича казалось слишком для него мертвым.
Вспомнив, в конце концов, лестницу, на которой я боком обошел друга, забыть ее уже не смог. Вернувшись в Вильнюс, позвонил знакомому ксендзу и заказал на тридцатый день панихиду по Венедикту, благо он и в католичестве почил, и имя как нельзя более латинское. Ксендз тот обслуживал несколько приходов, и тридцатый день пришелся на дальнее предместье, именуемое Безданами (по-литовски это на порядок неблагозвучнее, чем по-русски). Небольшой деревянный костел возвели перед войной на этаком тиняковском пустырчике, в нескольких шагах от железнодорожного полотна. По некоторому стечению обстоятельств именно тут в начале ХХ века молоденький социалист Юзеф Пилсудский произвел дерзейшее ограбление почтового поезда с деньгами на постройку виленского трамвая; трамвая и ныне нет, а кровавый экс записан в историю мирового терроризма. На лужайке, рядом с костелом, служка с очень уж странным лицом поспешно готовил детишек к конфирмации. Всего месяц тому верующим советской властью возвращенная постройка оставалась спортзалом – гимнастические стенки по бокам, гроздья колец свисали с потолка, по углам обитые кожимитом козлы. Алтарик, само собой понятно, был временный. В довершение ко всем обстоятельствам, через некоторое время священнослужитель загремел по судам за долги и хищения, к тому же вскоре всплыли документы, представляющие его осведомителем КГБ, словом, сплетение нитей достигло подлинно ерофеевского вольтажа. За этим всем могла угадываться его улыбка. Я вздохнул: небеса отнеслись к жертве положительно.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































