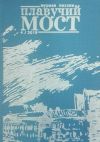Текст книги "Плавучий мост. Журнал поэзии. №3/2018"
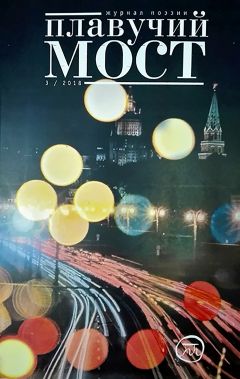
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Дельта
Владимир Тучков
Их было семеро
Родился в 1949 г. В 1972 г. окончил факультет электроники Московского лесотехнического института. Работал программистом и схемотехником. В 1990 году перешел в журналистику. Проза и стихи публиковались в коллективных сборниках, альманахах и периодических изданиях в России, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Израиле, Нидерландах, Словакии, США, Украине, Франции, Швеции как на русском языке, так и в переводах. Автор двух поэтических сборников и двенадцати книг прозы. Член Союза российских писателей и Всемирного ПЕН-клуба.
Их было семеро«Эй-вратарь-готовься-к-бою…»
В 1962 году в Советском Союзе
впервые в истории
показали американский вестерн.
То была «Великолепная семерка»,
у которой был оглушительный успех.
Ну, это как выпить стакан пепси-колы
на опять же первой в истории американской выставке в Москве
1959 года.
Так всегда бывает,
когда с высот кремлевского холма
говорят народу про что-нибудь —
это яд.
Собственно, и про «Семерку» было произнесено нечто подобное.
Устами премьера Хрущева.
«Я смотрел картину „Великолепная семерка“, – сказал Никита
Сергеевич американскому журналисту. – Артисты, занятые в ней,
прекрасно играют. Мы выпустили её на экран и получили за это
много упреков. Кинофильм плохо воздействует на воспитание
молодежи. У вас, американцев, сплошь и рядом на экранах идут
такие кинофильмы, где бьют друг друга в лицо, истязают, убивают
людей, в фильмах много извращенного. У вас это считается
интересным. У нас же проповедование подобных явлений считается
вредным».
В одном тут Хрущев абсолютно прав.
Фильм, действительно, воздействовал на молодежь.
Сильно воздействовал.
Правда, вопреки его прогнозам,
в среде советской молодежи не прибавилось
ни мордобоя,
ни истязаний,
ни убийств,
ни извращений.
Да и воздействие,
мощное воздействие,
было,
строго говоря,
не на молодежь,
а,
как теперь принято выражаться
заимствованным в Америке словом,
на тинейджеров.
А по-нашему – на подростков.
К коим и я в относился в то время.
То есть от одиннадцатилетней мелюзги
до выпускников средней школы.
На нравственную составляющую картины нам было,
разумеется,
глубоко наплевать.
То есть наплевать на мексиканских крестьян,
которых грабят бандиты Калверы.
Мы-то, естественно, прекрасно понимали,
что этих скучных крестьян
пришлось засунуть в фильм
по идеологическим соображениям.
Чтобы показать благородство и справедливость
граждан США, рискующих жизнью,
ради торжества справедливости.
Уже тогда, в подглуповатом возрасте,
мы прекрасно понимали,
что без идеологии в кино никак нельзя.
Запредельное восхищение у нас вызывали
семеро,
великолепно обшитые голливудскими костюмерами,
и снабженные голливудскими бутафорами
самым разнообразным оружием,
изрыгающим яростный свинец.
Крисс в исполнении Юла Бриннера
был, разумеется, главный герой.
Но щенячий восторг вызывал в наших душах
Бритт,
который на железнодорожной станции
продемонстрировал виртуозное владение ножом,
вогнав его с тридцати ярдов
прямо в сердце глупого скандалиста.
На глупого скандалиста нам было,
разумеется,
тоже глубоко наплевать.
И вот эта сцена,
отполированная прожженными голливудскими спецами
до солнечного сияния
и покрытая сверху еще и слоем лака,
породила в среде советских подростков
эпидемию кидания ножей.
Нож стал одним из вторничных половых признаков,
отсутствие которого было постыдно.
До исступления и умопомрачения,
пытаясь при этом еще и передать пластику Бритта,
которого с блеском сыграл Джеймс Коберн,
мы кидали ножи.
В ход шло все,
что имело лезвие, которое могло воткнуться
в дерево,
в доску,
в забор,
в дверь,
в стену сарая.
Всё, разумеется, кроме кухонных ножей,
на которых лежала постыдная печать
вылинявшего быта.
Раскладные охотничьи ножи «Белка»,
у которых пластмассовая накладка на ручку была сделана в виде белки.
Примерно такие же «Пантера» и «Лиса».
Ножи с рожками для извлечения гильз из ствола ружья.
Ножи-бабочки.
И даже выкидные ножи.
Но это была страшная редкость,
поскольку ими владела
отъявленная шпана,
которой до первой отсидки оставалось лет пять или меньше.
Но в основном были ножи попроще —
обычные складные, без изысков,
которые стоили в любом магазине «Культтовары» в пределах рубля.
Вполне понятно,
что ножи, пущенные подростковой рукой,
гораздо реже втыкались в забор или сарай,
чем ударялись плашмя,
что в конце концов выводило их из строя.
И тогда пацаны на уроках труда
зажимали в тиски металлические пластинки
и напильником заостряли их на конце.
И обматывали ручку самоделки проводом, а поверх него изолентой.
И швыряли,
швыряли,
швыряли
до исступленья
в деревья,
в доски,
в заборы,
в двери,
в стены сараев.
Швыряли до умопомраченья.
Именно оно заставило меня и Толика Гершмана
зимой 1963 года
за сараями
при стечении десятка подростков,
чуть менее умопомраченных,
разыграть сцену «на железнодорожной станции».
У Толика был самопал —
прикрученная к деревянной ручке трубка,
в которую засыпается сера от спичек
и закладывается некое подобие пули.
И потом сера поджигается через пропил в трубке.
У меня стальная полоска,
выпиленная на уроке труда.
С тридцати ярдов,
как мы тогда понимали эту единицу длины.
По сигналу.
Я кинул.
Разумеется, шансов у меня не было никаких.
Он выстрелил.
После того, как чиркнул спичкой, на что ушло время.
То есть позже меня.
Шансов у него было побольше.
Но пуля просвистела в отдалении.
А потом вдруг обнаружилось,
что все ножи улетели,
словно перелетные птицы
в ту страну,
где,
как поется в переложенной на русский язык старинной песне,
не дают обратных билетов.
Все заборы, все сараи
с отметинами от втыкавшихся в бесстрастную древесину ножей
давно снесены.
Стив Маккуин, который был Вином, умер в 1980 году от рака.
Юл Бриннер, который был Криссом, умер в 1985 году от рака.
Джеймс Коберн, который был Бриттом, умер в 2002 году от инфаркта.
Брэд Декстер, который был Гарри Лаком, умер в 2002 году от
эмфиземы легких.
Хорст Буххольц, который был Чико, умер в 2003 году
от воспаления легких.
Чарльз Бронсон, который был Бернардо О’Рейли, умер
в 2003 году от воспаления легких.
Роберт Вон, который был Ли, умер в 2016 году от рака.
Толик Гершман, который был, тоже умер. Давно.
Но, в общем, я тут уже ни при чем.
Эй-вратарь-готовься-к-бою —
часовым-ты-поставлен-у-ворот!
Слова этой незатейливой песенки из фильма «Вратарь»,
вышедшего на экраны в 1937 году,
помнят все российские граждане достаточно зрелого возраста.
Главный герой фильма по фамилии Кандидов
совершил небывалое по нынешним временам
вознесение в социальном лифте —
от недотепистого грузчика арбузов
до блистательного футбольного вратаря,
которому доверена честь выступать за сборную страны.
Фильм насыщен социальным оптимизмом тех лет,
который царил в стране победившего социализма.
В стране, где с громадной производительностью
строились заводы и электростанции,
собирались рекордные урожаи,
где летчики покоряли небеса,
полярники обживали Антарктиду,
моряки бороздили бескрайние просторы,
пограничники зорко стояли на посту
плечом к плечу со своими четвероногими друзьями…
Много чего созидательного и рекордного
творилось тогда в Советском Союзе.
И, собственно, фильм «Вратарь» был именно об этом,
а паренек из астраханской провинции,
ловко ловивший арбузы,
был нужен сценаристам в качестве
символического топора,
из которого и сварили всю эту кашу,
добавив в нее любовь,
пару комических персонажей,
доблесть советских инженеров,
патриотизм,
разоблаченное коварство,
честь, достоинство и верность идеалам.
В общем, получилось хорошо и правильно.
И Сталин выпустил «Вратаря» на экраны.
Выпустил,
не разглядев
здоровенный кукиш в кармане сценаристов —
Лазаря Юдина
и Льва Кассиля.
Трудно сказать,
читал ли вождь повесть Вольтера «Кандид, или Оптимизм».
Но консультанты из органов не могли не читать.
Не доложили,
что фамилия вратаря – Кандидов —
абсолютно неуместна.
Даже вредна!
Потому что все переставляет с ног на голову.
Летят в тартарары —
социальный оптимизм,
вера в государство,
в справедливых и мудрых правителей!
В со-ци-а-лизм!
Всё, абсолютно всё это перечеркивала
глумливая ухмылка
вольнодумца Вольтера,
просачивавшаяся на экраны двадцать пятым кадром…
Ну, а сценаристы,
спустя много лет,
почили в бозе
в кругу чад и домочадцев
уже в безветренную брежневскую эпоху.
Умерли спокойно,
вполне безмятежно,
если сравнивать эту процедуру
с традициями тридцать седьмого года.
А Кассиль умер так еще и со Сталинской премией в кармане,
в котором когда-то размещался кукиш.
*********************
Примечание. Лев Абрамович Кассиль скоропостижно скончался от инфаркта 21 июня 1970 года в возрасте 64 лет во время просмотра телевизионной трансляции из Мексики финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Италии.
Вячеслав Иванов
Стихотворения
Иванов Вячеслав Александрович. 36 лет. Смоленск. Автор поэтических сборников «Нас на Земле двое» (2012 г.), «Крылья» (2014 г.) и «Бывает» (2018 г.). Победитель литературной премии «Справедливой России» «В поисках правды и справедливости» в номинации «Молодая поэзия России» (2016 г.), лауреат межвузовского литературного форума «Осиянное слово» им. Н. Гумилева (Москва, 2013 г.), победитель Всероссийского конкурса молодых поэтов имени Б.А. Ахмадулиной (Москва, 2017). Публиковался в литературных периодических изданиях: «Юность» (2012, № 1, 2016, № 3), «Литературная Россия» (2013, № 10), «Российский колокол» (2015, № 1–2), «Роман-Газета» (2017, № 6).
«Автобус. Девочка с айфоном…»«Живу в молчании. А с кем…»
Автобус. Девочка с айфоном.
Бомжи несут сдавать картон.
И от Собора долгим звоном:
Динь-дон, динь-дон, динь-дон, динь-дон…
Старушка с палочкой. Рэнж-Ровер.
Собачка клянчит колбасу.
Всем на Земле раздали роли.
Динь-дон, – не смей ронять слезу.
Сарай. Бараки. Новостройка.
Брусчатка. Пар. Открытый люк.
И переполнена помойка.
Динь-дон, динь-дон, – всё громче звук.
Мороз. Протянутые руки
Цыганских женщин и детей.
Динь-дон, динь-дон, – по всей округе.
Динь-дон, – ронять слезу не смей.
Ступени. Золото. Иконы.
Снимай ушанку – бей поклон.
Прими судьбу свою покорно.
Динь-дон, динь-дон, динь-дон, динь-дон.
«Нежностью первого снега…»
Живу в молчании. А с кем
Поговорить? Все безъязыки.
Не помогает мне в Москве
Ни мой могучий, ни великий.
От тишины с недавних пор
Пишу рифмованные строки
О том, как мой унылый двор
Облюбовали две сороки.
За ними трудно повторить
Произносимые созвучья.
Но с ними можно говорить,
Забыв великий и могучий.
Я из окна кидаю хлеб
Двум черно-белым балаболкам.
Язык их, кажется, нелеп.
Но и в моем не больше толку.
«Когда Серега умер от запоя…»
Нежностью первого снега
Я покорён.
Ни одного человека
Под фонарем.
Только потоки снежинок
В светлом пятне.
Сколько исправить ошибок
Хочется мне.
Если бы ты понимала,
Если… Хотя
Утром какой-нибудь малый,
Здесь проходя,
Грязной кирзою натопчет.
Варвар! Ты знал,
Сколько мне стоила ночи
Той белизна?
«Просить остаться уходящего…»
Когда Серега умер от запоя,
За ним прислали ржавую Газель.
Тем утром на дорогах Уренгоя
Заснеженный свирепствовал апрель.
Машина у подъезда сев на брюхо,
Не в силах скорбный свой продолжить путь,
Беспомощно завыла, как старуха,
Пришедшая соседа помянуть.
И кто-то говорил: «Серега шутит!
С ним вечно приключается курьез!».
И было что-то страшное до жути
В бессмысленном вращении колес.
«Дорога – пыль. Дорога – снег…»
Просить остаться уходящего
Еще зазорнее, чем паперть.
У нас есть только настоящее:
Вот этот стол и эта скатерть,
И занавеска, что качается
От ветерка, и запах лета.
И я сейчас могу отчаяться,
Но завтра станет прошлым это.
Оно поблекнет и осунется,
Как человек с тяжелой ношей.
Вот, ты уже идешь на улицу.
И я уже почти что брошен.
Но с точки зрения грядущего,
В масштабе всей моей планеты
Ничтожно всё. Но ты, идущая
К такси, не ведаешь об этом.
«Так ветрено. Ты пишешь мне: «Привет»…»
Дорога – пыль. Дорога – снег.
Цветы на ней найдешь едва ли.
Я прочь уехал от печали.
В вагоне – пьют. В вагоне – смех.
Постель прописана в билет.
В окне – дома. В окне – посадки.
Во мне – туманные догадки,
Что счастья не было, и нет.
А проводница гасит свет.
Она – здесь власть. Она – здесь сила.
Она вчера меня спросила:
«А ты случайно не поэт?».
Я открестился: «В наш-то век
Какие могут быть поэты?».
Все на Земле уже воспето.
Дорога – пыль. Дорога – снег.
Велосипед
Так ветрено. Ты пишешь мне: «Привет».
Я брат тебе? Ну, что ж, прощай, сестрица.
А полиэтиленовый пакет
Поднялся над домами, словно птица.
Не зная притяжения Земли,
Он видит, как пишу тебе я: «Ира,
Как жаль, что мы с тобою не смогли
Вот так же воспарить над этим миром».
И в этом точно нет ничьей вины.
Да просто под ногами слишком шатко.
Как сверху мы, наверное, смешны
В печально разноцветных зимних шапках.
Ты спросишь: «Ты расстроился?». Ничуть!
Пускай, ты посчитаешь, я с приветом,
Но знаешь, я чего сейчас хочу?
Стать полиэтиленовым пакетом.
«Как живу? Да обычно весьма…»
Мне снился мой велосипед —
Складной видавший виды Аист.
Как будто я на нем катаюсь.
Как будто мне двенадцать лет.
Дороги пыльной полоса
Мне тоже снилась ночью этой.
Как будто день. Как будто лето.
Как будто я открыл глаза.
А на багажнике моем,
Поджав колени, ехал Боря.
Как будто он еще не болен
И покидать способен дом.
Всю ночь мы с ним с горы неслись,
И непрерывно хохотали.
А я крутил, крутил педали,
Опередить пытаясь жизнь.
«Я б рад ответить за базар…»
Как живу? Да обычно весьма,
Как положено жить человеку.
За окошком – скорей бы весна —
Листья медленно падают в реку.
И такая ж осенняя грусть
На картине твоей без названья.
Раньше думал, от горя сопьюсь,
Но недуг победило сознанье.
Пью – не смейся – настои из трав
И хожу до обеда в халате.
А сегодня, тебя разгадав,
В безвозвратное прошлое глядя,
Стер с холста безымянного слой,
А под этой картиной другая.
Там в подснежниках поле весной,
А не птиц улетающих стая.
«Не выбросить печаль из головы…»
Я б рад ответить за базар,
Но ни базара нет, ни рынка.
И ты состарилась, Маринка,
Хоть я об этом не сказал.
В торговом центре суета,
И громыхает эскалатор.
А ты потягиваешь латте,
Который стоит здесь от ста.
Все это мелочи. И я
Свою отсчитываю мелочь.
А ведь когда-то ты умела
Меня отвлечь от бытия.
«Он не то, что одет не по моде…»
Не выбросить печаль из головы,
Когда такая осень на пороге.
Приехали поэты из Москвы.
Читали выразительные строки.
И по обыкновению трезвы
Их мысли были в этом пьяном мире.
Приехали поэты из Москвы.
Мы с ними затусили на квартире.
Мы говорим, мы так снимаем швы
С души, порой, изрезанной до крови.
Приехали поэты из Москвы.
Они сегодня главные герои.
У каждого из них внутри дыра.
Откуда же на все берутся силы?
Я спать иду, а им уже пора
В дальнейший путь по матушке-России.
«Я в бар хожу по четвергам…»
Он не то, что одет не по моде,
Он о ней и не слышал, зато
Леонид регулярно приходит
К нам на каждое наше лито.
Он не пишет стихи или прозу.
Он седой, как декабрьский лес.
Леонид задает нам вопросы,
Провожает домой поэтесс.
Он несет и свое, и чужое,
И, порой, раздражает, да так,
Что однажды Антоненков Жора
Леониду сказал: «Вы – дурак!»
И Марина Сергеева тоже
Леониду возьми да скажи:
«Вы немного на черта похожи!
Не нужны на лито нам бомжи!
Вы ни в рифмах, ни в ритмах не дока!
Не влезайте-ка в наши дела!»
В общем, как-то довольно жестоко
Леонида она прогнала.
Он ни разу с тех пор не являлся.
Да о нем и не вспомнил никто,
А весною нашли водолазы
Леонидово в речке пальто.
Молчалив был Антоненков Жора,
А Марина пустила слезу.
В общем, выдался вечер тяжелым.
Расходились в десятом часу.
И покуда поэты из вида
Во дворах исчезали глухих,
Мне почудилась тень Леонида,
Бормотавшая наши стихи.
«Напиши мне письмецо…»
Я в бар хожу по четвергам
И занимаю столик справа.
Я ненавижу шум и гам,
Когда вокруг меня орава.
Четверг же день, когда толпа
Еще не близится к субботе.
В четверг ведет меня тропа
К неограниченной свободе,
Где начинают свой полет
Стихи к официантке Вере.
И пусть она их не поймет, —
Не перебьет, по крайней мере.
«…А ночами к Ивановым от Иванниковых…»
Напиши мне письмецо,
Дорогой дружище.
Я забыл твое лицо.
Память – пепелище.
Ты живешь теперь в горах
Или все ж у моря?
Иисус или аллах
Утешает в горе?
У тебя жена и дочь,
Иль в остывшем доме
Согревает только ночь
Ледяной ладонью?
А в ответ, как день, бела,
Скрипнув дверью старой,
Вижу, женщина вошла
И тихонько стала
За спиною, у трюмо,
И глядит, босая,
Как пишу себе письмо
И в огонь бросаю.
…А ночами к Ивановым от Иванниковых
К таракану приходила тараканиха.
Пахла медом и корицей, расфуфырена.
То халвы кусок притащит, то зефирины.
Вот сидят, жуют часами втихомолочку.
Что останется – запасливо на полочку.
Предлагал у Ивановых он остаться ей, —
Уходила – провожал до вентиляции.
Долго думал, шевеля усами рыжими,
А потом в кладовке прятался за лыжами
Возле банок с огурцами и капустою,
Всем хитином одиночество предчувствуя.
Евгений Мауль
Стихотворения
Родился в 1973 в Астане (Целинограде), по специальности филолог. Работал в качестве лектора по литературоведению на факультета славистики университета имени Фридриха-Александра в баварском городе Эрлангене. В настоящее время является генеральным директором торговой компании по импорту, экспорту и оптовой торговле спиртных напитков, вин и деликатесов. Занимается разработкой и продвижением водочных брендов. Пишет короткую прозу, лирику, конкретную и визуальную поэзию, концептуальные тексты на русском и немецком языках. Публикации в литературных журналах Германии, Австрии, США, России, Казахстана, Узбекистана: «Umlaut», «Et cetera», «Зарубежные задворки», «Плавучий мост», «Крещатик», «Черновик», «Дальний восток», «День и ночь», «Уральская новь», «Футурум Арт», «Аполлинарий», «Нива», «Простор», «Звезда востока», «Литературный европеец», «Мосты» и др. Лауреат литературной премии города Филлаха (Австрия), визуальный поэтический текст «бобик и колбаска» выставлялся в Музее нонконформистского искусства в Санкт-Петербурге на выставке «poetry art».
Точка невозвратаСтепная мистерия
У самого края
ревущей, клокочущей бездны,
у жерла вулкана
на языке огнедышащей лавы,
у самого ока
взалкавшего жертву тайфуна,
у горизонта событий
всепоглощающей чёрной дыры
распадаясь,
растворяясь,
расщепляясь на атомы,
ускользающим
сознанием я понимаю,
что ты скрижаль,
неподвластная прочтению,
ты мистерия,
недоступная объяснению,
ты моя
точка
невозврата.
Аральские листки
Горит Сары-Арка
огнём диких маков
Над головой сковорода,
раскалённая добела
Степь змеёй заползает
в нос, уши, горло, глаза
дыханием горькой полыни,
жужжанием, пылью
Дрожит окоём
Шевелится марево
Ковыль да полынь,
оводы, саранча
Степь, жара, ветер, маки
Степь, жара, ветер, маки
На твоих губах
цвета спелого граната
Степных кобылиц
капля молока
Снимаю её языком,
пьянея от счастья
Ковыль да полынь,
оводы, саранча
Степь, жара, ветер, маки
Степь, жара, ветер, маки
Среди жухнущей травы
сурок махнул лапкой
На сотни вёрст
На сотни лет
Степь, жара, ветер, маки
Степь, жара, ветер, маки
Плавится солнце
Прочь текут реки
Проносятся мимо
города, лица, годы
А пред мысленным взором
cтепь, жара, ветер, маки
И на языке до сих пор
капля кислого кумыса
Да пьянящий вкус
твоих губ цвета граната
Низверженный Перун
* * *
Вопреки своей воли
от пути отклоняясь —
от пути, нацарапанном
скреблом мироздания
на коже Земли
Амударья тёмные воды,
тёмные мутные воды
несла по сосудам полей:
узким арыкам и грядкам,
к жаждущим влаги корням.
Теряла Амударья воду,
прочь утекая бесследно
в серого грунта слои,
под солнцем палящим
в пар превращаясь.
Поднималась Амударья вверх
по венам хлопчатника,
чтобы утром однажды
всё поле покрылось
мягким, пушистым снежком
* * *
Тем жарким летним утром
палящее южное солнце
не нашло своё отражение
в зеркале Муйнакской бухты.
Дети, взрослые и старики
бежали плача и крича
за ушедшим внезапно
под покровом ночи морем.
До сих пор в дрожащем воздухе
раскалённой пустыни Аралкум
среди жёлто-серых песков,
среди саксаула и полыни,
там где раньше суда
Аральской флотилии
рассекали носами
синие волны
я отчётливо слышу
их отчаянные крики,
я отчётливо слышу
их безысходные стенания
Дубровник
Высоки да сочны на Волхова берегах травы.
Высоки травы да темны дубравы.
Как слеза чисты ледяные ключи,
Да чернее ночи грачи.
А по Волхову-реке плывет не ладья с купцами,
Да не струг плывет с меткими стрельцами.
А плывет по Волхову грозный Перун.
Древяной лижет бок бурун.
Не распустится уже цветок о восьми лепестках,
О восьми лепестках, огненных ростках.
Растоптали капище да хоромы.
Свержен повелитель грома.
Разогнали седовласых волхвов по своим домам,
По своим домам да дремучим лесам.
Не измерить Киев старой мерой!
Новая на Руси вера!
А по Волхову-реке плывет не ладья с купцами,
Да не струг плывет с меткими стрельцами.
А плывет по Волхову грозный Перун.
Древяной лижет бок бурун.
Полсотни кун[1]1
Куна – национальная валюта Хорватии
[Закрыть] на два билета и на «хвала»[2]2
Хвала – «спасибо» на хорватском и сербском языках
[Закрыть]
сединами запорошённого хорвата
мы обменяли и взбежали вверх на стену[3]3
Вход на крепостную стену Дубровника платный
[Закрыть],
ступеней камня как бы невзначай касаясь.
Здесь ветер-озорник, смеясь, являет миру,
легко задрав подол лазоревого платья,
ног стройных наготу твою, сияньем бронзы
гипнотизирующую мужские взгляды.
С Минчеты[4]4
Минчета – башня в крепости Дубровника, один из символов города
[Закрыть], величавой башни, весь Дубровник,
стекающий ручьями яркой киновари
со склона Срджа[5]5
Срдж – гора, у подножия которoй расположен Дубровник
[Закрыть] к синим языкам Ядрана[6]6
Ядран – Адриатическое море
[Закрыть],
лучами позолоченным, вместился в кадр взгляда.
Церковный благовест летит над древним градом:
над княжеским дворцом и над мощёной Плацей[7]7
Плаца – мощёная городская площадь
[Закрыть],
над церковью Святого Влаха и над рынком,
домами горожан, монастырями, портом,
над крепостями, бастионами, стеною,
над ренессансом, поздней готикой, барокко,
над кипарисами и лаврами, над хвоей
душистых пиний, над морскою бирюзою.
И мы с тобой не в состоянии представить,
что в крышах черепичных, на которых
воркуют беззаботно голуби, недавно
зияли дыры от снарядов тех, кто «хвала»
другими буквами выводит на бумаге,
что город был объят огнём и дымом,
что чёрные стволы обугленных деревьев
сады и улицы и берег наполняли[8]8
Во время войны в Югославии в 1990-х годах город неоднократно обстреливался сербами.
[Закрыть].
И я, на памяти фотобумаге снимок —
дворцы и крепости, мощёные проулки
и голубей на красных черепичных крышах,
и зелень буйную, и золото на волнах —
неспешно закрепляя, в воздухе рукою
уверенно вожу, выписывая пальцем,
латиницу с кириллицею воедино
в пространстве связывая, слово «HVаЛА».