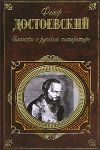Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
От самоубийства спасает его уже не детская вера, а невольное воспоминание о «худенькой девочке Пашеньке», над которой он в детстве, как все, смеялся. Именно к ней, ничем, казалось бы, не примечательной женщине, он отправляется, чтобы исповедаться: «Я блудник, я убийца, я богохульник и обманщик»264264
Там же. С. 41.
[Закрыть]. Неожиданно для него она в ответ говорит о себе: «Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь, и теперь бог наказывает меня, и поделом, и живу так дурно, так дурно…»265265
Там же.
[Закрыть] А когда он спрашивает ее о церковной жизни, она отвечает: «Ах, не говорите. Уж так дурно, так запустила. С детьми говею и бываю в церкви, а то по месяцам не бываю. Детей посылаю»266266
Там же. С. 43.
[Закрыть]. Она признается, что сама ленится ходить в церковь и молится «машинально». Именно в этом месте происходит аксиологический переворот в тексте: Пашенька, видимо, практически избегает аскезы, ее не касается. Она ни в каких целях не использует религию и ничего не ждет от нее. При этом она участвует в посте через внуков. Она сама не причащается, но через детей она тем не менее причастна церковной жизни.
Вся проблематика «литературной» аскезы, таким образом, снова сводится к проблеме (не-)сознательности. Когда в конце Касатский вновь обретет радость, она будет состоять в том, что он не заговорил со встречным французом-путешественником; он ничего ему (и себе) не стал демонстрировать (в данном случае, свою принадлежность к дворянству и образованному слою общества): «И Касатскому особенно радостна была эта встреча, потому что он презрел людское мнение и сделал самое пустое, легкое – взял смиренно двадцать копеек и отдал их товарищу, слепому нищему»267267
Там же. С. 46. Курсив мой. – К. Ц.
[Закрыть]. Однако это, как можно возразить, еще вполне сознательный поступок268268
См.: «Is this self-consciousness really so different from what is described earlier in the story? / Kasatskij’s apprehension and practice of true virtue at the end of ‘Father Sergius’ are not made completely plausible» (Ziolkowski M. Hagiographical Motives in Tolstoy’s Father Sergius. Р. 78).
[Закрыть]. К тому же «презрение» так или иначе по-прежнему обладает им. Но «самое пустое, легкое», я думаю, следует принять всерьез. Касатскому удается редуцировать, а может быть и отодвинуть свое воображение. И вместо слов появляется простой жест, который не рассчитывает и не может рассчитывать на признание и вознаграждение; товарищ-нищий ведь – слепой.
Эпилог. Пост как «междулюдская» вещь, или Аскеза как событие
Роман Платонова «Чевенгур» (1928), казалось бы, принципиально несопоставим с текстами XIX века. Все же он представляет собой как бы крайний этап в наших заметках о литературных взглядах на аскезу. Разумеется, в этом романе уже нет героя-дворянина, место которого в обществе определялось бы с помощью аскетической модели. Аскеза появляется у Платонова как метафорический комплекс, который надындивидуально описывает революционное общество. Неконтролируемость этой аскезы становится общим принципом отношений между людьми. Старый, буржуазный порядок, согласно пониманию Чепурного и его товарищей, заслонял социальные отношения «междоусобной сует<ой>»269269
Платонов А. П. Чевенгур. Путешествие с открытым сердцем // Платонов А. П. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М.: Время, 2009. С. 244.
[Закрыть], то есть конкуренцией, жадностью, похотью. Революция, соответственно, должна освободить людей от этой суеты и занять освобождающееся место между людьми. Рассказчик формулирует эту задачу так: «Надо отступиться одному от другого, чтобы заполнить это междоусобное место, освещенное солнцем, вещью дружбы»270270
Там же.
[Закрыть]. Между людьми останется только свет солнца, а само солнце в романе Платонова называется «пустым»271271
Там же. С. 278.
[Закрыть]. Междулюдская пустота – «вещь дружбы» – должна стать местом милленаристически воображаемой революции, которая отменит «смертную необходимость есть»272272
Там же. С. 244. См. об этом: «…в Чевенгуре пустота души заполняется чувством братства, товарищества, обретением близкого человека. С остановкой героев как бы приостанавливается поступление впечатлений от увиденного мира. Пищей становится коммунизм, а источником питания души – присутствие товарища, забота о друге…» (Рудаковская Э. «Сытость души…» Тема пищи в романе А. Платонова «Чевенгур» // Структура текста и семантика языковых единиц: Сб. научных трудов. Калининград: Изд-во Калининградского гос. ун-та, 2001. С. 54–55).
[Закрыть].
Чевенгурский пост не является техникой осмыслять и тем самым частично преодолевать необходимость приема пищи. Пост здесь задуман вместо еды. Соответственно, аскеза не является ритуальным обращением с невыразимым, но сама занимает место невыразимого: парузии ревлюции. Концепцию солнца как нового «пролетария», который будет выращивать еду «помимо труда», можно рассматривать как мечту о райском изобилии: «…природа отказалась угнетать человека трудом и сама дарит неимущему едоку все питательное и необходимое»273273
Платонов А. П. Чевенгур. С. 276.
[Закрыть]. Но возможно ли такое питание «едока», при котором тот оставался бы «неимущим»? Логика открытия/откровения пустого «места» между людьми, как мне представляется, указывает на более радикальную роль солнца: оно заменяет пищу, гарантируя только одно – пустоту, без которой освобождение от старых общественных отношений оставалось бы немыслимым.
Лексема «пост»/«постно» появляется в романе Платонова неоднократно, точнее пять раз. В этих употреблениях можно наблюдать некоторую градацию. Первый вариант – это пост как институт и знак слабости старого мира. В контексте подготовки истребления буржуазии большевики обсуждают «срок» своего проекта: «Чепурный понюхал табак и поинтересовался одним, почему Прокофий назначил второе пришествие на четверг, а не на сегодня – в понедельник. / – В среду пост – они <имущие> тише приготовятся! – объяснил Прокофий»274274
Там же. С. 227. Курсив мой. – К. Ц.
[Закрыть]. В другом месте, когда Чепурный дает умирающему ребенку постное масло, роль поста менее однозначна; отсылки к буржуазности нет: «– Больше не мучайте его, – сказала мать Чепурному, когда тот влил в покорные уста ребенка четыре капли постного масла. – Пусть он отдохнет, я не хочу, чтоб его трогали, он говорил мне, что уморился»275275
Там же. С. 305. Курсив мой. – К. Ц.
[Закрыть]. Вероятно, что Чепурный таким образом присваивает пост для революции, «перекодирует», то есть непосредственно секуляризирует его, причащая-намазывая умирающего ребенка маслом. Наконец в третьем варианте пост обобщается, становится общим событием самого Чевенгура. В мимоходном замечании об одном встречном человеке рассказчик отмечает: «…не появись он <встречный> сейчас, Чепурный бы заплакал от горя в пустом и постном Чевенгуре»276276
Платонов А. П. Чевенгур. С. 245. Курсив мой. – К. Ц.
[Закрыть]. В этой характеристике революционного города можно, опять же, видеть конвенциональную метафору голода. Но «накануне коммунизма» и в каламбурном сочетании с лейтмотивной пустотой «постная» метафорика не может быть только фразеологической. Она является примером того процесса, который я описывал выше: аскеза через секуляризацию расширяет сферу своего функционирования и деформируется. Деформацией, безусловно, сопровождается любая художественная фигурация аскезы. Однако в романе Платонова происходит радикализация. Пост становится «вещью», которую все между собой делят и которая по определению никому не принадлежит. Чевенгурский пост является той негативной силой, которая производит между людьми новую «привязанность»277277
Там же. С. 278.
[Закрыть]. Направленность аскезы и аскета к небу, вектор ввысь полностью отменены. Небо над Чевенгуром отражает, наоборот, бедность земли: «…город расположен в ровной скудной степи, небо над Чевенгуром тоже похоже на степь – и нигде не заметно красивых природных сил, отвлекающих людей от коммунизма и от уединенного интереса друг к другу»278278
Там же.
[Закрыть]. Есть даже такой случай, в первое утро коммунизма, когда свет солнца выступает не как питатель, а как жадно питающийся (в свою очередь как «едок»): «Свет утра расцветал в пространстве и разъедал вянущие ветхие тучи»279279
Там же. С. 255.
[Закрыть]. Или: «…он <Чепурный> видел, как свет солнца разъедал туманную мглу над землей, как осветился голый курган…»280280
Там же. С. 277.
[Закрыть]
Возможно, на идейном горизонте романа Платонова где-то еще мелькают постники-пустынники. Но если их делом было подвижничество (духовная борьба) среди пустыни, то делом чевенгурцев является пост как пожирающая пустота. Знают ли они вообще, что постятся и что революция, собственно, состоит из их поста? Новый пролетариат, несомненно, ничего не подозревает. Большевики же, конечно, программно начали строить этот пост через уничтожение буржуазии, организовав ей «второе пришествие». Но пост чевенгурских большевиков стал реальностью уже тогда, когда они только начинают его провозглашать. Когда Чепурный еще отмечает: «В нас же есть сознание правильного отношения к солнцу, а для труда у нас нужды нет»281281
Там же. С. 295.
[Закрыть], – пост, одновременно объединяющий людей и разделяющий их, давно вышел за пределы их революционного сознания.
***
В текстах Гоголя, Чернышевского и Толстого аскеза становится дискурсивной и художественной возможностью. Взятие индивидуального контроля над говением и разговением сопровождается здесь глубоким кризисом героя, доводя его до сумасшествия и до грани самоубийства или, как в случае Чернышевского, до растворения героя как персонажа (Рахметов оказывается «орудием» в руках рассказчика). Произведения Гоголя и Толстого создают парадоксальную, полностью никогда не реализируемую ценность безотчетности аскезы. Чернышевский показывает, наоборот, полную экономизацию упражнений Рахметова в смешном, почти фантастическом, а может быть, и карнавальном свете. Его ригорист является риторической «фигурой» (выражение рассказчика), которая ex negativo гарантирует индентификацию читателей с другими персонажами романа: новыми, но все же средними людьми. Предельное расширение поста как своего рода пространства борьбы мы видели в «Чевенгуре» Платонова. Большевики стратегически пользуются постным днем, чтобы на следующий день тем эффективнее истребить буржуазию (по-старому соблюдающую пост). С другой стороны, платоновский рассказчик, воспроизводя мысль одного из персонажей, объявляет «постной» новую пустоту Чевенгура. С постом или в пост коллективно играют революционеры. В этом смысле пост в их руках – весьма «отчетный» и даже в высшей степени расчетливый. Но в отличие от целесообразной игры с «орудием» Рахметовым и его гротескной диетой у Чернышевского пост у Платонова ничем и никем не контролируется. Он то, что остается от милленаристического плана. Аскеза превращается из традиционного ритуала-упражнения в кошмарное событие.
«ЖЕРТВА – САПОГИ ВСМЯТКУ»: ЭТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА В РОМАНЕ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
Анатолий Корчинский
Давно замечено, что в разные культурные эпохи нравственные процессы могут описываться на языке экономики. Это касается, например, процедур символического обмена сакральными предметами в древних культурах, циркуляции даров, феномена жертвоприношения, исследовавшихся социологами и антропологами М. Моссом, К. Леви-Строссом, М. Годелье и др. В работах по истории культуры не раз говорилось о взаимосвязи между христианскими категориями «греха», «искупления», «аскезы» и отношениями «долга» (задолженности), «дебита» и «кредита» в экономике, своеобразной «арифметике спасения» (Ж. Шиффоло)282282
См.: Chiffolau J. La comptabilité de l’au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Age (vers 1320 – vers 1480). Rome: École Française de Rome, 1980; Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии / Пер. с франц. М. Ю. Некрасова СПб.: Евразия‚ 2014.
[Закрыть].
Особые отношения между внутренними этическими установками и экономическими интеракциями устанавливаются в Новое время. Некоторые исследователи описывают их с точки зрения генезиса. Как известно, М. Вебер постулировал происхождение принципов капиталистического хозяйствования из религиозно-этической программы протестантизма. К. Поланьи, напротив, указывал на процесс проникновения механизмов рыночной экономики в неэкономические отношения людей, включая те, которые регулируются общественной моралью283283
Поланьи К. Великая трансформация: Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002. С. 127–146.
[Закрыть]. Другой подход к этой проблеме состоит в том, что между экономикой и этикой обнаруживается не просто взаимосвязь (будь то структурная гомология или отношения каузации), но и своего рода тождество. Одним из наиболее ярких примеров такого отождествления можно, по-видимому, считать фрагмент В. Беньямина «Капитализм как религия»284284
Беньямин В. Капитализм как религия / Пер. А. Пензина // Беньямин В. Учение о подобии. М.: РГГУ, 2012. С. 100–104.
[Закрыть]. Заимствуя сам тезис из книги Э. Блоха «Томас Мюнцер, теолог революции» (1921)285285
Пензин А. Примечания // Беньямин В. Капитализм как религия. С. 104.
[Закрыть], Беньямин радикализует его: в его версии капитализм как система социальных ценностей и отношений представляет собой не следствие той или иной культурной формации (например, протестантизма, как у Вебера) и не аналог религии (как у Блоха), а собственно современный религиозный культ, более близкий язычеству, нежели христианству, и определяющий этический горизонт современного человечества.
В более современных исследованиях взаимосвязь между порядком нравственности и порядком экономики выглядит, возможно, менее красноречиво и ультимативно, но более детально и исторически конкретно. Например, К. Лаваль возводит корни современной этики – этики личного интереса (или выгоды), успеха, инициативы, индивидуальной автономии и свободы – не к Реформации, как Вебер, а к позднему Средневековью, когда в рамках католического морального богословия оказалось возможным, с одной стороны, дать религиозное оправдание предпринимательству, а с другой стороны, выстроить персональные нравственные отношения с Богом по модели экономического обмена286286
Лаваль К. Человек экономический: Эссе о происхождении неолиберализма. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 35–47.
[Закрыть]. В связи с этим можно вспомнить исследования, посвященные риторике греха как «финансовой задолженности» в византийской и древнерусской православной традиции287287
Маслов Б. От долгов христианства к гражданскому долгу (Очерк истории концептуальной метафоры) // Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени / Сост. В. М. Живов. М.: Языки славянской культуры, 2009.
[Закрыть].
Однако если применительно к домодерным этапам культурной истории речь по преимуществу может идти лишь об отдельных экономических метафорах, используемых для концептуализации тех или иных моральных процедур, которые касаются некоторых социальных групп (торговцев, ростовщиков), то модерн порождает категориальный язык более общего порядка. По правилам этого языка понятия интереса, выгоды или пользы с одинаковой легкостью применяются как в сфере материального обмена и финансовых операций, так и для описания мотивов человеческого поведения вообще.
Абстрактное понятие интереса, «интереса вообще», довольно скоро начинает обозначать всякую личную цель человека, его самоутверждение, поиск успеха и славы, и происходит это наряду с какой-то общей метафоризацией человеческого поведения: всякая личная выгода, улучшение жизни или какое-либо повышение статуса сравниваются с коммерческой выгодой, к ним подходят с теми же инструментами анализа и расчетом вероятных рисков288288
Лаваль К. Человек экономический. С. 49.
[Закрыть].
Й. Фогль прослеживает становление homo oeconomicus в европейской мысли и литературе начиная с конца XVII века, когда человеческие отношения и внутренние процессы (эмоции, страсти) систематически переводятся на экономический язык, что, в частности, проявляется в становлении «нарративной экономики и экономического нарратива»289289
Vogl J. Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen. München: Sequenzia Verlag, 2002. S. 185.
[Закрыть].
Согласно этой логике, экономическая метафора из тропа превращается в когнитивную модель, регулятивный принцип, в значительной мере определяющий координаты морального универсума модерного человека. В середине – второй половине XIX века эта модель разрабатывается и в России, вступающей в пространство социальных и экономических отношений нового типа. Причем этическая экономика нередко не только реализуется как концептуальная рамка для тех или иных интеллектуальных построений, но и используется в качестве продуктивной нарративной матрицы в русском романе, где схемы, заимствованные из европейской мысли, существенно модифицируются или подвергаются деконструкции.
Одной из фигур, последовательно выстраивавших экономическую парадигму в этике, был Н. Г. Чернышевский. «Он расширил область применения утилитаристских принципов (предназначенных Бентамом и Миллем главным образом для общественной морали и государственного законодательства), перенеся их в область частной жизни»290290
Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 94.
[Закрыть]. В частности, в его романе «Что делать?» в новом экономическом ключе переосмысляются важнейшие этические категории, в том числе христианские принципы жертвенности и аскетизма291291
См. наиболее значительные на эту тему работы Д. Уффельманна, специально посвященные анализу сложного отношения Чернышевского к христианской аскезе и понятию жертвы: Uffelmann D. Černysevskijs Opfer-Hysterie. Symptomatologische Lektüre des sozialistischen Traditionsbruchs im Thesenroman «Čto delat’» (1863) // Poetica. 2003. № 35 (3/4). S. 355–388; Idem. Rachmetov, oder Černyševskijs Opfer-Hysterie // Uffelmann D. Der erniedrigte Christus. Methaphern und Metonymien in der russischen Kultur und Literatur. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2010. S. 595–652.
[Закрыть], на чем мне далее и хотелось бы остановиться.
Как идейно, так и событийно сюжет романа представляет собой последовательную проекцию экономической логики на человеческие отношения. Как известно, в выдвигаемой Чернышевским теории «разумного эгоизма» все нравственные мотивы человека объясняются исходя из принципа пользы. Люди новой культурной формации поступают исходя из собственных интересов, частью которых является материальная выгода, моральный комфорт и свобода других – тех, кого они любят и уважают. Поэтому, по Чернышевскому, Дмитрий Сергеевич Лопухов, вызволяя Веру Павловну Розальскую из семейного плена, не совершает никакого подвига или самопожертвования. Александр Дмитриевич Кирсанов, вступая в брак с той же Верой Павловной, не чувствует вины перед своим другом, поскольку предметом их совместной заботы является счастье любимой женщины.
Суть личных и социальных отношений между людьми сводится к честному, взаимовыгодному эквивалентному обмену. Наиболее полно и сложно эта модель представлена в основной сюжетной линии романа – любовном треугольнике между Верой Павловной, Лопуховым и Кирсановым. В кризисный момент, когда Вера Павловна начинает понимать, что полюбила Кирсанова, Лопухов, осознавший это чуть раньше ее, ищет решение сложившейся проблемы и в качестве одного из вариантов предлагает съехаться с кем‐то из друзей, разделяющих их «экономические принципы».
– Верочка, – начал он через неделю: – мы с тобою живем, исполняя старое поверье, что сапожник всегда без сапог, платье на портном сидит дурно. Мы учим других жить по нашим экономическим принципам, а сами не думаем устроить по ним свою жизнь. Ведь одно большое хозяйство выгоднее нескольких мелких? Я желал бы применить это правило к нашему хозяйству. Если бы мы стали жить с кем-нибудь, мы и те, кто стал бы с нами жить, стали бы сберегать почти половину своих расходов… Надобно только сходиться с такими людьми, с которыми можно ужиться. Как ты думаешь об этом?
Вера Павловна уж давно смотрела на мужа теми же самыми глазами, подозрительными, разгорающимися от гнева, какими смотрел на него Кирсанов в день теоретического разговора. Когда он кончил, ее лицо пылало.
– Я прошу тебя прекратить этот разговор. Он неуместен.
– Почему же, Верочка? Я говорю только о денежных выгодах. Люди небогатые, как мы с тобою, не могут пренебрегать ими. Моя работа тяжела, часть ее отвратительна для меня.
– Со мною нельзя так говорить, – Вера Павловна встала, – я не позволю говорить с собою темными словами. Осмелься сказать, что ты хотел сказать!292292
Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. М.: Наука, 1975. С. 194–195.
[Закрыть]
Вера Павловна без тени сомнения воспринимает это предложение как намек на возможность тройственного брака с Кирсановым и отвергает его. Но здесь нам важен не психологический подтекст сцены, по-тургеневски ювелирно выписанный Чернышевским со всеми необходимыми отсылками к подсознанию, а то, что лопуховская идея коммунального быта не просто метафорически подразумевает ménage a trois, а предполагает прямое отождествление совместного ведения хозяйства и трехсторонней любви.
Чернышевский, таким образом, не только переносит утилитаристские принципы Бентама и Милля из области общественной морали в сферу частной жизни, но и рассматривает этическую и материальную экономику как две взаимосвязанные области применения более общего принципа пользы.
Обратим внимание на то, какую роль в этой программе морального утилитаризма занимают негативные факторы экономического обмена. Оппонируя Тургеневу с его акцентом на нигилизме нового человека, Чернышевский стремится представить новое поколение как носителей позитивного начала. Поэтому все обменные отношения, которые подразумевает новая этическая экономика, преподносятся исключительно с положительной стороны. Однако экономический обмен, из которого исходят и который стремятся облагородить герои романа, неизбежно предполагает потери и убытки. Как же осмысляются в романе негативные факторы экономики нравов?
Любовь Веры Павловны к Кирсанову возникает не как позитивное «влечение» (частотное слово у Чернышевского), а как нехватка. Первый, более поверхностный, негативный момент состоит в том, что она не чувствует в себе любви к Лопухову и это приводит к чувству вины. В третьем сне Вера Павловна читает свой несуществующий дневник, из которого становится ясно, что она не любит мужа. Дневник, представляющий собой не что иное, как вербализацию бессознательного Веры Павловны, заканчивается на частице «не». Она читает: «Люблю ли я его такой любовью, которая нужна мне?293293
Чернышевский никогда не забывает о принципе пользы и личного интереса!
[Закрыть] Прежде я не знала этой потребности тихого нежного чувства – нет, мое чувство к нему не…»294294
Чернышевский Н. Г. Что делать? С. 176.
[Закрыть] Эта мысль вызывает у героини приступ агрессии, в ответ на который таинственная гостья с лицом и голосом певицы Бозио четко формулирует: «Да, ты не любишь его; эти слова написаны твоею рукою»295295
Там же. С. 176.
[Закрыть].
Второй, более глубокий, негативный фактор связан с самими условиями возникновения такого сновидения. Неудовольствие Веры Павловны объясняется недостатком внимания со стороны Кирсанова, который не успел достать билеты на постановку «Травиаты» с участием Бозио. Появление Бозио во сне отчасти символически компенсирует эту нехватку, но именно она указывает героине на неприятную правду.
Далее Лопухов проницательно истолковывает этот сон как чувство нехватки, возникшее у Веры Павловны после того, как Кирсанов перестал бывать у них в гостях. Примечательно, что он описывает процесс возникновения любви как механическое чередование появления и исчезновения объекта:
Скоро у Лопухова явилось предположение: причина ее мыслей должна заключаться в том обстоятельстве, из которого произошел ее сон. В поводе к сну должна находиться какая-нибудь связь с его содержанием. Она говорит, что скучала оттого, что не поехала в оперу. Лопухов стал пересматривать свой и ее образ жизни, и постепенно все для него прояснялось. Большую часть времени, остававшегося у нее свободным, она проводила так же, как он, в одиночестве. Потом началась перемена: она была постоянно развлечена. Теперь опять возобновляется прежнее. Этого возобновления она уже не может принять равнодушно: оно не по ее натуре, оно было бы не по натуре и огромному большинству людей. Особенно загадочного тут нет ничего. От этого было уже очень недалеко до предположения, что разгадка всего – ее сближение с Кирсановым, и потом удаление Кирсанова. Отчего ж Кирсанов удалился? Причина выставлялась сама собою: недостаток времени, множество занятий296296
Там же. С. 182. Курсив мой. – А. К.
[Закрыть].
Желание конституируется через нехватку (причем «недостаток» времени приписывается также и Кирсанову), а механическая динамика наличия и отсутствия напоминает фрейдовскую игру fort/da, определяющую формирование у субъекта представления об объекте желания. И хотя Лопухов не видит в исследуемом процессе «ничего загадочного», мы можем задним числом заметить, что Чернышевский здесь касается не только этической, но и либидинальной экономики, открытой Фрейдом спустя четыре десятилетия.
Негативность как фактор этой экономики заметна и в других эпизодах сюжета о любовном треугольнике. Полюбив Веру Павловну, недавно ставшую женой Лопухова, Кирсанов впадает в уныние, отдаляется от друзей, что порождает конфликт и едва не приводит к разрыву отношений. Лопухов рассматривает любовь Веры Павловны к Кирсанову как «потерю» для себя: «Потеря тяжелая, но что ж делать?»297297
Чернышевский Н. Г. Что делать? С. 181.
[Закрыть] Впоследствии он, как известно, инсценирует самоубийство, чтобы, устранившись, не мешать новому союзу Веры Павловны и Кирсанова. Однако именно это первоначально приводит к усилению моральных мучений героев, которые делают вывод о том, что их «счастье погибло». И лишь впоследствии разъяснения Рахметова и его намеки на то, что на самом деле Лопухов жив, восстанавливают баланс любовных отношений.
Здесь, однако же, интересно не то, что разумное и гармоничное разрешение любовной драмы сопряжено с чувством нехватки и сопровождается потерями. Важно то, что Чернышевский все негативные факторы стремится представить как ошибочные или кажущиеся явления, сопутствующие реальным позитивным переменам. Цитируя Т. Таннера, И. Паперно замечает: «То, что предстает перед читателем как супружеская измена, „наличие негативности внутри общественной структуры“298298
Tanner T. Adultery in the Novel: Contract and Transgression. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1979. P. 13.
[Закрыть], для Чернышевского было фундаментом эмоциональной гармонии и социального равновесия»299299
Паперно И. Семиотика поведения. С. 133–134.
[Закрыть]. Заметим: негативность не является «фундаментом эмоциональной гармонии и социального равновесия», а представляется таковой читателю.
И действительно, Вера Павловна даже во сне рационально понимает, что на самом деле она вовсе не изменила Лопухову, а просто по неопытности приняла уважение к нему за настоящую любовь и никогда его не любила в эротическом смысле. А значит, чувство к Кирсанову не отрицает прежнего чувства к Лопухову и моральной дилеммы в действительности не существует. Негативность является, если так можно выразиться, логической иллюзией, она не относится к сущностным характеристикам вещей и событий.
Как объясняет Рахметов, «потеря» Лопухова – результат его ошибки, заблуждения относительно чувств Верочки. Эта ложная негативность снимается с помощью другой – фальшивого самоубийства. Оно не только еще раз освобождает Веру Павловну, но и открывает новые возможности для самого Лопухова – вплоть до обретения новой личности и новой любви. Более того, по его возвращении под видом обрусевшего канадца Чарльза Бьюмонта фиктивная гибель Лопухова не только разоблачается в глазах читателя, но и приравнивается к воскресению из мертвых – причем именно к воскресению Христа, к Благой Вести. Вера Павловна, узнав Лопухова, произносит: «Ныне Пасха, Саша; говори же Катеньке: воистину воскресе»300300
Чернышевский Н. Г. Что делать? С. 332.
[Закрыть]. Хотя воскресенье в данном случае, конечно, тоже является ложным, хотя бы потому, что не было никакой смерти.
Таким образом, все утраты и дефициты у Чернышевского не просто компенсируются (что естественно для любого эквивалентного обмена), но рассматриваются как нереальные, несуществующие. Писатель систематически устраняет и изгоняет негативность из отношений, построенных на новой этической экономике.
На мой взгляд, это прекрасно соответствует тому базовому конструктивному принципу романа, который подметила Паперно. Она пишет, что роман построен на постоянном взаимном превращении противоположностей. Плохой писатель оказывается лучше хороших. Слабость женщин как «слабого пола» дезавуируется как предрассудок, и женщина (в том числе читательница романа) оказывается сильнее и умнее мужчины (в том числе «проницательного читателя»). Этому переворачиванию подвергаются отношения полов, блондинок и брюнеток, белой и черной рас, темпераментов – бесчувственности и страстности и т. д. Исследовательница пишет:
Сон, Америка и полусвет изображены как пространства, где могут совершаться свободные трансмутации социального положения, национальности, социальной роли, внешности и манер. К этому списку следует добавить еще одну ситуацию – революцию, среду, в которой всякая оппозиция социального и эмоционального порядка снимается. Например, революционер Рахметов, который (как уточняет Чернышевский) является потомком одной из самых старинных европейских семей, живет как простолюдин и никогда не позволяет себе никаких роскошеств, не доступных массам.
Особая способность превращать те или иные черты в их противоположность – это одна из самых важных черт новых людей. Например, то, что другому могло бы показаться жертвой или лишением (вроде отказа от жены и передачи ее другому), для нового человека – удовольствие. То, что все считают альтруизмом, в романе рассматривается как удовлетворение своих личных интересов, тогда как эгоизм оказывается формой альтруизма301301
Паперно И. Семиотика поведения. С. 155.
[Закрыть].
Паперно считает мир Чернышевского «миром гегелевских противоречий»302302
Там же. С. 148.
[Закрыть]. Кое-что, однако, отличает эти «трансмутации» от гегелевской диалектики. Бросается в глаза, что «диалектике» «Что делать?» свойственна неустранимая бинарность. Речь идет вовсе не о динамике изменений по трехтактному принципу «тезис – антитезис – синтез». Разночинец кажется менее образованным, чем дворянин, но оказывается более образованным; женщина кажется слабее мужчины, но оказывается сильнее его. Если здесь есть диалектика, то это диалектика без отрицания. Оно отсутствует как необходимая фаза в процессе развития или в экономическом обмене. Скажем, стандартная рыночная логика подразумевает рискованное вложение имущества или средств с перспективой их приумножения, то есть структурно подразумевает негацию того, что есть, хотя бы в виде риска все потерять. В мире «Что делать?» потеря всегда чудесным и непосредственным образом оборачивается приобретением, минуя промежуточный этап преобразования.
Более того, как в случае с воскресением Лопухова, мы видим, что там, где предполагалась нехватка, «вдруг» обнаруживается избыток: герой не просто не умер, но еще и воскрес, подобно Спасителю. Любое негативное действие или состояние получает риторическую сверхкомпенсацию, как на то указывает Д. Уффельманн303303
Uffelmann D. Černysevskijs Opfer-Hysterie. S. 360.
[Закрыть].
На своеобразие культурной рецепции буржуазных социальных сценариев в русском романе второй половины XIX века обратил внимание Ф. Моретти. Он пишет, что характерное для русского романа переворачивание оппозиций, «кидание из крайности в крайность» препятствуют возникновению буржуазного романа западного типа с его стабильностью и надежностью вещей304304
Моретти Ф. Буржуа: между историей и литературой. М.: Изд-во Ин‐та Гайдара, 2014. С. 91, 225–231.
[Закрыть]. Согласно Моретти, который отсылает здесь к известной идее Лотмана и Успенского, это обусловлено бинарностью русской культуры, в отличие от западной тернарности, вернее – отсутствием в ней «нейтральной», «серой» зоны преобразований, а изначально – отсутствием в православии Чистилища305305
Там же. С. 230.
[Закрыть]. И действительно, можно вспомнить Ж. Ле Гоффа, который именно с возникновением идеи Чистилища в католичестве связывал ментальную трансформацию, в дальнейшем сделавшую возможной экономическую ментальность капиталистического типа306306
Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги. С. 71 и сл.
[Закрыть].
Я оставлю в стороне столь общие рассуждения о фатальной неспособности русской культуры к принятию модерных механизмов рынка, а со своей стороны отмечу лишь один момент. Моретти, помимо прочего, говорит об искаженной логике Базарова, считающего, что «в теперешнее время полезнее всего отрицание»307307
Тургенев И. С. Отцы и дети. СПб.: Наука, 2008. С. 49.
[Закрыть]. Исследователя удивляет парадоксальное уравнивание противоположностей – пользы и отрицания, невозможное в этосе буржуа308308
Моретти Ф. Буржуа: между историей и литературой. С. 228.
[Закрыть]. На мой взгляд, речь здесь должна идти, конечно, не о «цивилизационных особенностях» России, где западные идеи доводятся до своих крайних проявлений, как считает Моретти. Скорее здесь мы видим типичный эпизод полемики начала 1860‐х годов. В данном случае Чернышевский просто отвечает Тургеневу, поставившему в своем романе парадоксальный вопрос об опасностях новизны: может ли созидание начинаться с разрушения? Версия Чернышевского состоит в том, что новые люди с их принципом пользы на самом деле не отрицатели и не разрушители, а созидатели. Нехватка и отрицание в их этической системе – это лишь иллюзия, как третий – дурной – сон Веры Павловны.
В рамках утилитарной логики романа трактуются не только вопросы любви, порядочности и этического поведения в частной сфере, но и другие нравственные категории, например категории долга и жертвы, столь значимые для 1860–1870‐х годов. В принципе, этика Чернышевского не знает ни долга, ни жертвы, потому что это, с его точки зрения, категории сугубо негативные. Новые люди свободны от всех долгов, материальных и моральных. Для них в равной мере неактуальны как христианский религиозный долг перед Богом, так и дворянский долг гражданина. Долг обычного человека новой эпохи – блюсти собственный интерес. И, реализуя этот принцип до конца, он не станет мешать другому человеку преследовать свою выгоду. Более того, ради торжества полезности он может помочь другому в достижении его целей. И здесь мы уже наблюдаем переход от личной пользы к пользе общей – общественному благу. Человек не принуждается, а естественным образом стремится к нему, как к своей собственной пользе. Лопухов и Кирсанов, помогая другим, в конечном счете помогают самим себе: один «выводит из подвала» Веру Павловну, будущую жену Кирсанова, другой спасает от гибели Катю Полозову, будущую жену Лопухова-Бьюмонта.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!