Текст книги "Казанский альманах 2016. Алмаз"
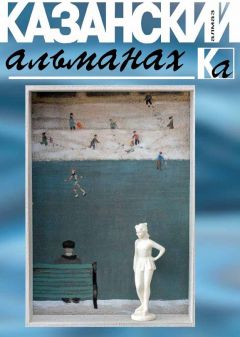
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Андрей Казанский
Живая вода Гаяза Исхаки
Рецензия на книгу прозы Гаяза Исхаки в переводе с татарского на русский язык Азалии Килеевой-Бадюгиной
Автор десятков романов, повестей, пьес, историко-политических сочинений, Гаяз Исхаки (1878–1954) во всём своём величии предстал лишь на исходе XX века. Все годы совдепии его творчество было под жесточайшим запретом, да и сам он, во плоти и крови, был отлучён от родины – жил в эмиграции, куда попал после череды царских тюрем, ссылок и большевицкого произвола. А ведь в начале прошлого века книги Гаяза Исхаки выходили огромными тиражами, и равнодушных к ним не было. В татарском обществе, в прессе шли ожесточённые споры по поводу идеологических посылов писателя. Были его почитатели, последователи, но были и противники.
Прогрессивные деятели татарской культуры, в том числе Габдулла Тукай, называли Гаяза Исхаки личностью, который даёт уроки татарскому народу. Для видного политического деятеля Юсуфа Акчуры он был «пламенным борцом за нацию». Гаяза Исхаки высоко ценил Максим Горький, называя его в своих письмах «дорогим собратом». При его поддержке была переведена на русский язык и опубликована пьеса «Брачный договор» (1914), готовилась к изданию драма «Жизнь с тремя жёнами». Тем не менее было немало противников творческой и общественно-политической деятельности «пламенного борца». Консервативное движение кадемистов, ратовавших за патриархальные устои жизни, всяческие противники открытости татарского общества, современной просвещённости, светскости обвиняли Исхаки в приверженности к русской культуре во вред национальному самосознанию.
Те и другие, противоречивые в своей сути взгляды сохранились практически до наших дней, когда, казалось бы, уже нет сомнений в его выдающихся творениях, как в литературе, так и в жизни.
В чём же тут дело?
Жизненность и развитие татарского народа Гаяз Исхаки видел в тесном взаимодействии с русской культурой в самом широком смысле слова. Он призывал татар освободиться от замкнутости и фанатизма, невежества и отчуждённости от европейских ценностей, светской литературы, искусства, науки… А в религии сын муллы, бывший шакирд, прекрасно знавший богословскую литературу на арабском и персидском, ратовал за реформы школ и медресе на широкий просвещённый лад.
Просвещение, наука, культура – вот три кита, которые должны были вывести татарскую нацию к прогрессу. Сам он, проучившись в двух медресе, окончив учительскую школу, отдавший весомую дань самообразованию, стал одним из образованнейших людей татарского мира.
Поэтому нет ничего удивительного, что одна из главных тем его творчества была тема просвещения, тяги к знаниям, свету и добродетели. Эта тема главенствует и в двух его романах «Нищенка» и «Мулла-бабай», переведённых на русский язык Азалией Килеевой-Бадюгиной и вышедшей в Татарком книжном издательстве под одной обложкой.
Ранее в том же издательстве увидело свет 15-томное собрание сочинений писателя на татарском языке. На русском же мы только-только начинаем знакомиться с его обширным наследием.
В романе «Нищенка» повествуется о судьбе татарской женщины, прошедшей драматический путь от нищенства и бесправия к просвещению, свободе и относительно равному положению в обществе. Читатель знакомится с Сагадат (кстати, так звали дочь Г. Исхаки), когда она была ещё совсем юной и жила с родителями в благополучии и любви. Однако сложилось так, что ей, прежде чем обрести подлинную себя, пришлось испить горькую чашу до дна – нищенство, униженность, отчаяние… Не миновала героиня романа и «дом жёлтого цвета за озером Кабан». Вместе с судьбой девушки перед нами разворачиваются мрачные картины казанского Забулачья конца XIX – начала XX века. Эти казармы, переполненные бездомными людьми, эти пятницы, когда нищие толпами идут, ругаясь и сквернословя, за подаянием… И там, среди них, в таких же лохмотьях – она, юная, воспитанная в семье муллы, благочестивая Сагадат!
Нищая, но красивая, цветущая девушка – это в бесправном мире, как правило, новое испытание и новые злоключения…
Но Сагадат выстаивает. На её жизненном пути встречаются и такие образованные, мыслящие люди, как Мансур с его друзьями. Она тянется к знаниям, знакомится в кругу единомышленников с лучшими образцами татарской, русской и европейской литературы, познаёт основы общественно-политической жизни, поступает учиться в казанскую гимназию и готовит себя к служению своему народу. Образ Сагадат представляет собой для писателя идеал татарской женщины – образованной, раскрепощённой, не уступающей в своих правах мужчинам.
В романе «Мулла-бабай» Гаяз Исхаки также озабочен судьбой своего народа, его просвещённостью и открытостью для всего передового и прогрессивного. Его беспокоит, что предел мечтаний татарского юноши – это учёба в медресе и по окончании – махалля (мусульманская община) с мечетью в центре, где он муллой, обучающим прихожан уму-разуму.
В общем-то – да, татарский народ испокон веков тянулся к грамотности, почитал учёный люд. Когда герой романа шакирд Халим вернулся с учёбы в городском медресе на побывку в родной аул, то его встретили там с особым уважением, и отец во время чаепития посадил младшего сына рядом с собой. «Никогда ещё ни братьям, ни сёстрам подобная честь не оказывалась, хотя они были и старше Халима».
Юноша почувствовал себя всезнающим шакирдом, заважничал, а уж по окончании медресе в Казани, когда его стали звать «Халим-абзый», «мулла Халим», он и сам посмотрел на себя другими глазами. Халим поверил, «что у него довольно знаний и ума, чтобы повести за собой тёмный народ». Да и как иначе, «если он изучил все книги, которые положено знать исламским мудрецам!» И далее пишет автор: «Его воззрения на жизнь вообще и жизнь загробную в особенности были сформированы полностью. Точка зрения на все окружающие его явления и вещи устоялись вполне… Всё предельно ясно, шаблоны усвоены. В голове не было и тени сомнений…»
Но на деле оказалось, что он совершенно не знает географии. Наш герой считал, что «рядом с Тюрки и Бухарой находится государство Хинди. Правда, он плохо представлял себе, что означает слово «Хинд» – то ли это название земли, то ли города, то ли государства. Да он и не задумывался над этим, достаточно было, что он видел книги, на которых было написано: «Издано в Хинд». Он также имел смутное представление о государстве Чин и ещё о каких-то русских людях, именуемых французами. Слышал он о Москве, известной своими ситцами, и Петербурге, где чеканят монеты. На этом его представления о географии, можно сказать, исчерпывались.

Его познания истории были на том же уровне, а, возможно, ещё туманнее. После сотворения из ребра Аллаха женщины и появления вереницы пророков всемирная история для нашего, по едкому определению Исхаки, «китайского мандарина», или «иранского мужтахида» заканчивалась.
При виде больного он спрашивал: «Чего в нём больше, холода или тепла?» В первом случае прописывал малину, во втором – умывание холодной водой. Но самым главным лечением нашего табиба были заговоры и нашёптывания.
С таким багажом знаний герой романа готовился взять под своё покровительство мусульманский приход.
Тем не менее образ Халима притягивает своим реализмом, искренностью поступков и не ведомыми нам коллизиями судьбы. Всё-таки он представлен юношей способным, любознательным, по-своему стремящимся к знаниям. Шакирд участвует в дискуссиях и диспутах по богословию в различных медресе, в том числе – казанских, и нигде он не ударяет в грязь лицом, по ходу почти всего романа сохраняет благочестие и добрый нрав. На пути к цели юноша терпит голод, нищету, тумаки старших шакирдов и розги хазрата. Вообще, с помощью Гаяза Исхаки мы знакомимся с такой стороной жизни татарского народа, которая доселе была нам совершенно не известна. Мы слышали о ней, как говорится, лишь вполуха. Дело в том, что татарские писатели обстоятельно не разрабатывали эту тему, писали, так сказать, по касательной, хотя немалое число их знали о жизни шакирдов не понаслышке.
Исхаки же, отведав этой жизни сполна, передал её в своём романе развёрнуто и живописно, не боясь ревнителей всего затхлого и застойного. Откровенно говоря, по прочтении романа, появляется ощущение, что и сам побывал в шакирдах, и сам поголодал-понищенствовал, и по твоей спине погуляла палка настоятеля медресе. Так захватывает чтение этого произведения!
Немало здесь светлых и весёлых сцен. Это и женитьба Халима-муллы, и пикники шакирдов, и застолья с поеданием вечно голодным братством плова казан за казаном, и чаепития с мёдом, маслом, сметаной, пышными хлебами, балишами из печи… Перо писателя чётко фиксирует время, быт, обычаи, ситуации… Страница за страницей увлекательного чтения ты невольно обрастаешь познаниями времён вековой давности. Это очень ценно.
На русский язык произведения Г. Исхаки стали переводиться в начале прошлого столетия. Не остался в стороне и роман «Мулла-бабай». Отрывок из него вышел (1914) небольшой брошюркой в Москве. Перевод на русский осуществил известный тюрколог Владимир Гордлевский. В том же году в одном из русских журналов Казани было напечатано подробное изложение романа за подписью А. И. Емельянова. И вот теперь роман «Мулла-бабай» по соседству с «Нищенкой» полностью увидел свет в переводе Азалии Килеевой-Бадюгиной.
Сразу скажу: перевод удался. Азалия-ханум мастерски перевела оба романа Гаяза Исхаки. Она смогла передать дух татарского мира далёких времён, донести до нас ароматы лесов и полей Заказанья, голоса муэдзинов вперемежку с птичьими хорами, своеобразие речи горожан, сельчан, духовенства Казанской губернии…
К тому же это очень непросто – сделать художественный перевод словесных конструкций романов Исхаки, наполненных не только эпитетами, сравнениями, развёрнутыми образами, но и архаизмами, тюркизмами, арабизмами, понятиями, которых нет ни в бумажных, ни в электронных словарях. Безусловно, прочтение книги обогатит читателя новыми знаниями, пополнит его словарный запас, но главное – окунёт в живую воду исторической прозы Гаяза Исхаки.

Азалия Килеева-Бадюгина всю свою жизнь, со студенческой скамьи в Казанском государственном университете, посвятила популяризации татарской литературы – осуществляла художественный перевод на русский язык сказок, рассказов, повестей, романов дореволюционных писателей и авторов новейшей истории. В её послужном списке переводы таких литераторов, как – К. Насыри, Ф. Амирхан, Г. Исхаки, Ш. Камал, К. Тинчурин, М. Гафури, А. Еники и многие другие
Гаяз Исхаки
Мулла-бабай
главы из романа
* * *
На другой день утром Халим с чайдашем отправился за водой для чая, прихватив деревянное ведро и кумганы. Там он наблюдал за тем, как шакирды, и его чайдаш в том числе, дрались с русскими мальчишками, жившими за ручьём. Руки чесались, душа рвалась в бой, но, с одной стороны, слишком свежи были воспоминания о плётке кадия, а с другой – ему никогда не приходилось драться, обливая недруга водой, поэтому он предпочёл смотреть, как это делают другие. Когда вернулись в медресе, Халим учился ставить самовар, а заодно узнал, как зовут чайдашей. Оказалось, что к одним полагалось обращаться «чайдаш-абзы», к другим – просто «чайдаш». Каждый занимал определённое положение.
Со временем уроки стали проходить немного веселее, ухо мало-помалу привыкало к чёртову языку, который казался теперь даже довольно красивым. Встречая в длинной фразе слова «бина беринке», напоминавшие родное «баранге» (картошка), он как-то отходил душой, вспоминая родимый дом, печёную картошку. Мысли уносили его в луга, где, охраняя в ночном лошадей, они с ребятами пекли в золе гречичной соломы картошку, туда, где столько ярких цветов, вобравших в себя все краски лета, такое множество непохожих друг на друга разноголосых птиц, множество красивых бабочек, козявок – всё это надолго уносило его за много вёрст от медресе, в далёкий и милый сердцу край, но он приучил себя вновь и вновь возвращаться в вонючее медресе, к этим заумным «бине беринке», чтобы забивать ими голову. Но время шло, и с каждым днём он всё глубже проникал в смысл занятий, привыкал к порядкам медресе, становясь понемногу всё более и более похожим на прочих шакирдов.

Наступил четверг. После обеда уроки закончились. Халим, который давно собирался со своим чайдашем посмотреть город, отправился на прогулку. Большие дома, широкие улицы казались чудовищами, готовыми проглотить его. Встречные прохожие пугали, и он часто оглядывался с опаской. Он решил, что ему лучше идти за чайдашем, который шагал смело, никого не страшась, и, казалось, чувствовал себя в городе, как рыба в воде. Вот длинные улицы остались позади, большие дома попадаться перестали. Впереди показался базар. Многочисленные лавки были забиты большими хлебами, разнообразными пряниками и конфетами в коробках; в несуразных каких-то магазинах с громадными дверями полки просто ломились под тяжестью красного товара; всюду стояли тюки с рисом, чаем, сахаром, ящики с фруктами. Халим был сладкоежка, потому глаза его при виде всех этих фруктов, конфет, калачей невольно загорались. Яркие цветастые ситцы он разглядывал тоже с большим интересом. Хотелось к празднику справить себе новый казакин, а сёстрам подарить на платье. Стоявшие у дверей дюжие хорошо одетые молодцы внушали страх, а потому, не решаясь пройти внутрь магазинов, он дважды прошёлся по середине одной и той же улицы, разглядывая товар с мостовой, на расстоянии.
Чайдаш потащил Халима в ряды, получившие название «маржа», потому что торговали там в основном русские женщины. В маленьких лавочках Халим увидел калачи, конфеты, красиво разложенные фрукты. Ах, как ему хотелось попробовать всё это! Он словно прирос к прилавку, сдвинуться с места не было сил. Да и чайдаш, который до сих пор вёл себя так, будто всё ему было нипочём, заметно заволновался. И конечно же, не было на свете человека, кто мог бы устоять перед одним только запахом всего этого великолепия! Чайдаш взглянул на Халима:
– Давай, парень, купим чего-нибудь, а?! – сказал он.
Халим прикинул в уме, сколько из семнадцати копеек, которые лежали у него в кармане, он имеет право потратить, и решился пожертвовать двумя копейками. Отошли в уголок посоветоваться, что можно купить на две копейки. Хотелось кураги, орехов, конфет, замечательного пряничного петуха, который стоял на собственных ногах! Переговоры вели долго, но так и ни до чего договориться не смогли. Решили обратиться к толстой женщине, стоявшей за прилавком. Чайдаш уверенно окликнул её: «Тутка…» На две копейки торговка готова была продать что-то одно – либо урюк, либо конфеты, либо петуха. Чайдаш состроил жалкую физиономию и плаксивым голосом стал конючить: «Тутка, дай уж, а?..» В конце концов, женщина разозлилась и прогнала их. Они долго бежали, не решаясь оглянуться. Только в конце базара перевели дух. убедившись, что никто за ними не гонится, снова стали совещаться. Чайдаш уговаривал Халима добавить ещё копейку. Поколебавшись немного, тот согласился. Они вернулись и стали торговаться с хромым русским мужиком. После долгих переговоров мужик дал им два-три ореха, три-четыре конфеты и петуха. Счастью приятелей не было конца, словно им удалось ухватить за хвост живую белку!
Конфеты и орехи были поделены и быстро съедены. Божественный вкус их Халим долго ощущал во рту, и ему казалось, что он в жизни не едал ничего подобного. Настал черёд петуха. Он был очень хорош собой. Куда нарядней конфет и привлекательней орехов, а потому и вкус у него должен быть (оба нисколько не сомневались в этом) самым замечательным. Розовое лакомство привлекало яркими красками. Глядя на него, приятели глотали слюнки. Каждый хотел бы съесть его в одиночку, оставалось лишь придумать, как это сделать.
«Он на мои деньги куплен, – думал Халим, – значит, съесть его должен я!»
Чайдаш же соображал так: «Если бы я так удачно не сторговался с хромым, не видать бы нам петуха, как своих ушей, значит, он должен быть моим». Они долго шагали, любуясь пряником, пока, наконец, чайдаш не сказал:
– Ну что, съедим давай петуха.
– Не, я отвезу его домой, – не согласился Халим.
Тогда чайдаш закричал:
– Ты что, думаешь, он – твой?! Да хромой его только ради меня уступил. Это же знакомец мой. Я ещё семечки у него в прошлом году покупал!
Шакирды затеяли ссору прямо посреди улицы. Слово за слово, и они уже орали во всё горло.
– Мужик ты! – выпалил в сердцах чайдаш, за что Халим хватил его по спине кулаком. Тот не остался в долгу. И вот они уже тузили и колотили друг друга, что было сил. Верх одерживал то один, то другой. Дрались долго, пока не выдохлись оба. Домой шли разными сторонами улицы, переругиваясь через дорогу и шмыгая замёрзшими носами.
Халим, у которого ещё горели от тумаков щёки и болели корни волос, за которые трепал его приятель, со злорадством думал: «Петух-то всё же у меня!» – Мысль эта успокаивала его. Он сунул руку в карман, чтобы ещё раз насладиться прикосновением к прянику, но никакого пряника в кармане не оказалось – рука нащупала одни лишь крошки да мелкие обломки! Это было всё, что оставалось от нарядного красавца. Новость так поразила Халима, что он окаменел на месте. Кусочки петуха он разглядывал то приближая ладонь к глазам, то отводя их от себя. Увидев это, приятель вмиг забыл все свои обиды и, подойдя к Халиму, стал сочувствовать ему.
– Это ты виноват! – закричал Халим, придя, наконец, в себя.
– Не я, а ты! Ты, ты сам! – Они снова принялись ругаться, обвиняя друг друга в случившемся. Дорогой они ели крошки и, пока добрались в медресе, всё было съедено. Повода для ссоры больше не было. Теперь оба, как ни в чём не бывало, мирно беседовали:
– Вот отец приедет, – говорил чайдаш, строя планы, – я попрошу его купить конфеты, вот увидишь какие!
Когда они пришли в медресе, один из старших шакирдов сказал им:
– Где это вас носит? К калпании готовиться пора.
– Калпания! Калпания! – радостно запрыгал на месте чайдаш.
Не понимая, о чём идёт речь, Халим с недоумением смотрел по сторонам, силясь понять, что же это за радость такая – калпания. Всё медресе разом пришло в движение: шакирды перетряхивали во дворе свои постели, взбивали подушки, мыли полати, полы. Взрослые шакирды из другого дома медресе переговаривались о чём-то с местными. Отовсюду слышалось одно и то же загадочное слово «калпания». Мальчишки весело таскали наверх воду, в углу несколько человек во главе с шакирдом, который участвовал в диспуте, чистили изюм, другие резали мясо, ещё несколько человек перебирали рис. Всё медресе дружно готовилось к какому-то очень большому и важному событию, всюду кипела работа, глаза и лица шакирдов так и светились радостью. Халима тоже захватил всеобщий подъём, хотя он всё ещё не понимал, что происходило вокруг. Как и все, он включился в работу: охотно, не возражая, бегал за водой, носил на кухню дрова, мыл посуду.
Тем временем за окнами стемнело. В который уже раз слыша от чайдаша о предстоящих «играх», Халим вообразил себе нечто, наподобие Сабантуя.
Засветили лампы. Шакирды принялись наряжаться: вытащили из мешков новые рубахи, казакины, натянули новые носки, надели новые вышитые каляпуши. Даже учителя сменили ичиги на новые, обрызгали себя одеколоном. Медресе приобрело праздничный вид. Из чуланов, чердаков, комнат шакирды таскали для гостей всё, что у них было, – мёд, масло, юачу, чак-чак. Здесь были также пряники, конфеты, купленные на базаре, а также «подаптечные» лакомства (так в медресе называли всё, чем торговала кондитерская в подвале под аптекой). Тут же крутился и махдум, которого видели в медресе лишь во время занятий. А Хромой-то как распетушился – ходит, указывает, кому что делать, будто важнее него уж и человека нет! А этот, никудышный, щупленький на вид, тоже гоняет младших шакирдов, с которыми готовит уроки, да ещё и покрикивает на них. Учителя делают вид, будто не слышат кубызов, на которых там и сям наигрывают шакирды. Да и кадий сегодня почему-то не призывает к намазу, хотя пора бы уже. Никто не одёргивает мальчишек, которые, забывшись, разговаривают слишком громко, и не наказывает тех, кто забыл снять башмаки, даже Халима никто не дразнит. Чудеса! Такого Халим ещё не видел. Не было здесь ни старших, ни младших, ни учителей, ни шакирдов – все превратились в готовящих «калпанию». И чайдаш с согласия Халима достал с чердака мёд и поставил между приготовленными для чаепития чашками.
Наконец-то с хлопотами было покончено. Вышел шакирд с засученными рукавами и громко объявил:
– Плов готов!
Это прозвучало как команда: шакирды разом сорвались с мест. Подобно солдатам, которые, услышав приказ командира, бросаются к ружьям, шакирды кинулись к своим сундучкам и полкам за ложками. Увидев это, Халим растерялся: ложки у него не было. Поняв, что без ложки поесть плова ему не удастся, он до того огорчился, что на глаза невольно навернулись слёзы. Он так и стоял, не зная, что делать, пока один из чайдашей не спросил его:
– Ложка-то у тебя есть? – Халим покачал головой. – Ну и чего ты раскис? Без плова ведь останешься! Возьми вон чашку, из неё и будешь есть!
Халим с облегчением перевёл дух, весело схватил чашку и сунул в карман. В дверях показались шакирды из соседнего здания медресе, у каждого в руке была ложка. Большое помещение наполнилось народом. Для еды было приготовлено три-четыре места: в одном расселись учителя; в другом – подростки; в третьем – на общем очень длинном саке – устроились мальчишки помладше. Халим со своим чайдашем присоединились к ним. Все принялись ждать, когда подадут плов. Халим обвёл товарищей взглядом и, увидев среди подростков маленького мальчишку, спросил чайдаша:
– А этот почему там сидит?
Сосед, который пришёл из другого здания медресе, ответил:
– О-о, так он же джадид[7]7
Джадид – обучающийся по новому методу
[Закрыть]. С виду хотя и маленький, зато удаленький! Он уже в «Исагужи»-ханы произведён.
Халим понял, что шакирды здесь отличаются друг от друга не только возрастом, но и успехами в учёбе.
Наконец появился шакирд с большим блюдом в руках. Чудесный аромат плова разом ударил в нос, вызвав нестерпимый аппетит. Шакирд с поклоном поставил блюдо перед хальфами. Появившийся вслед за ним другой шакирд подал плов подросткам. И лишь в третью очередь два шакирда внесли два блюда с пловом и поставили в два конца длинного саке. Мальчишки готовы были тут же наброситься на еду, но кадий предупредил:
– Потерпите, есть начнёте только после учителей. Не торопитесь, ешьте благопристойно, плова хватит всем, ещё и добавку получите.
Мальчишки пожирали плов глазами, едва сдерживая разыгравшийся аппетит.
Наконец один из учителей сказал: «Во имя Аллаха…» Мальчишки дружно склонились над блюдом. Ложки стучали, натыкаясь друг на друга, чашки бились. Халим, зачерпнув полную чашку, принялся есть: плов оказался таким вкусным, что боль и обиды, накопившиеся за время жизни в медресе, тут же забылись: и плётка кадия, и тумаки Хромого, и насмешки бородачей. Кое-кто из мальчишек, у которых разбились чашки, ударились в рёв. Прочие, не обращая на них ни малейшего внимания, продолжали споро работать ложками, и блюдо быстро опустело. Некоторые из младших, кто был похрабрее других, крикнул:
– Кадий-абзы, у нас плов кончился! – Шакирд, участвовавший в приготовлении плова, принёс им ещё одно полное блюдо. Все снова принялись за дело и трудились так усердно, что напомнили Халиму крестьян, которые, выстроившись друг против друга, вшестером молотят цепами хлеб. На этот раз плов не казался Халиму таким вкусным, как в первый раз. Он уже не старался загребать чашкой как можно больше.
Справились и с добавкой. Увидев опустевшее блюдо, шакирд-подавальщик принёс остатки с учительского стола. Халим был сыт, только глаза всё ещё не наелись. Он зачерпнул плова, но доесть не было сил. Большинство мальчишек насытились, но кое-кто никак не мог остановиться. Эти отвалились, лишь подобрав всё, до последней рисинки.
Первая часть обеда завершилась. Всё лишнее со скатертей убрали, всюду навели порядок. Слышно было, как где-то позвякивают чашками и чайниками – готовятся к чаепитию. Мальчишки отправились во двор ставить самовары. Хальфы, тихо беседуя между собой, не спеша ходили по медресе взад и вперёд. Шакирды постарше готовились к чаю – носили из флигеля чашки, тарелки, блюдца. Вдоль стен отвели места для более почётных гостей. Общее саке младших шакирдов не было забыто – здесь всё было расставлено столь же аккуратно.
Внесли самовары, все уселись пить чай. Халим сидел в окружении чайдашей. К ним со своими шакирдами присоединился хальфа из флигеля. Кроме миски Халима с мёдом и маслом, здесь всюду были рассыпаны курага, изюм, орехи, пряники, конфеты. Душе было радостно смотреть на всё это богатство!
Разлили чай. Послышался весёлый треск раскалываемых орехов. Куда ни посмотри, над самоварами клубился, поднимаясь к потолку, густой пар, всюду светились радостные лица. Халим со своим чайдашем, вплотную прижатые в тесноте друг к другу коленками, с наслаждением поедали райские яства.
Но вот неожиданно где-то заплакал младенец. Похоже, это был препротивный ребёнок! Оказалось, шакирд, сидевший недалеко от общего саке, прикинулся дурным ребёнком. Он опрокинулся на спину, дрыгал в воздухе ногами и, кривя губы, гнусавил:
– Мама, я есть хочу! Хлеба, каши дай мне! Мама, я на горшок хочу!
Медресе дружно грохнуло, один Халим с удивлением озирался по сторонам, не понимая, что происходит.
– Да это же шутка! – успокоил его чайдаш. – Сегодня много будет таких розыгрышей.
– Ага, понятно, – сказал Халим и стал с интересом ждать, что же будет дальше.
Не успели выпить по чашке чая, как в дверях появился нищий.
– Ассаламегалейкум! – поздоровался он. – Давайте-ка, помолимся, – и воздел руки. – Да пошлёт вам Аллах много милостей и достатка! Сына вот в солдаты забрали, дочку зять выкрал, пожалейте меня, подайте милостыню, – затараторил он, протянув руку.
Шакирды снова засмеялись, а Халим опять ничего не понял.
– О Аллах, ходжа Багаутдин, да будет ему земля пухом… – продолжал говорить нищий жалобным голосом. Кто-то дал ему орехов. – О аминь, аминь, – запричитал он, воздев руки. – Мне бы Фатыму теперь, дочку атнинского муллы, ох и обнял бы я её крепко-крепко. И больше мне ничего не надо! Аллах акбар!
Шакирды снова прыснули. Чаепитие между тем шло своим чередом.
Но вот, напившись чаю, люди стали покидать свои места. Шакирды живо всё убрали. Было слышно, как за стеной позвякивает посуда… Шакирды постарше устроились на сундучках, мелюзга расположилась прямо на полу возле печи. Плешивый шакирд, изображавший младенца, и Хромой приглашали всех сесть. На середину вынесли стол, на него положили медный поднос с чайными ложками и ключами. Стол окружили шакирды – большие и поменьше. Лампы пригасили, и раздался громкий стук и бряцание металлических предметов на подносе. Несколько шакирдов с кубызами в руках приготовились играть.
* * *
Кубызы затянули длинную мелодию, которая сопровождалась бряцанием медного подноса. Кубызы с высокими и тонкими голосами, напоминавшими плач грудных детей, выводили мотив старинной песни. Ключи и ложки, сопровождая кубызы звяканьем, казалось, старались придать их слабеньким голосам силу. Вокруг сделалось очень тихо. Взрослые и дети, учителя и мальчишки – все, казалось, растворились в мелодии, которая журчала, напоминая о давно прошедших событиях, заставляя страдать и радоваться, наполняя сердца надеждой.
Кубызы продолжали петь тонкими голосами, увлекая шакирдов в какие-то переживания, далёкие от надоевших своим однообразием будней медресе. Слабые и простенькие звуки откликались в изголодавшихся по красоте детских душах, рождая в них чистые добрые чувства, воскрешая в памяти прекрасные мелодии народных песен. Они оживляли в их воображении самые дорогие мгновения их короткой жизни.
Вот поднялся мальчик-башкир и стал выводить мелодию высоким чистым голосом. К нему присоединился ещё один шакирд – песня зазвучала громче. Теперь поднос своим грубым бряцанием лишь мешал пению, которое, как незамутнённый родник, изливалось из самой глубины детской души. Подносу, как видно, стало жаль песни, и он, наконец, умолк. И кубызы уже не поспевали за причудливыми поворотами старинной мелодии, прерываемой время от времени возгласом: «Хай!» Будто извиняясь: мы, мол, не виноваты – это деды не умели придумать более совершенный музыкальный инструмент, – они тоже затихли. Певцы, казалось, свободно вздохнули, вобрали в себя свежего воздуха, и голоса их, словно вырвавшись из оков, зазвучали звонче прежнего, взлетели выше, тянули и переливались так, что у слушателей захватывало дух. Неслыханные до сих пор дивные песни, их слова будоражили души шакирдов, будили в них незнакомые мысли, чувства, переживания. Они увлекали в иной, не похожий на медресе, счастливый и радостный мир. Юношам казалось, что они резвятся среди самых красивых и ярких цветов, какие только есть на свете, вместе с птицами и бабочками кружатся над лесами, озёрами и реками. Они обнимали в мечтах нежных юных красавиц… Но временами их пронзала боль, навеянная горькой, голодной башкирской долей. Из лучистого, сладкого сна их швыряло в бездну угрюмой безысходности. В такие мгновения души страдали, мучились и рвались от тоски, и слёзы невольно наворачивались на глаза.
Певцы замолчали. Все, кто был в медресе, разом как-то горестно вздохнули, словно из рук у них вырвали что-то бесконечно дорогое, отняли любимое дело, которое приносило наслаждение. После небольшого перерыва огни снова притушили, и неизвестно откуда явившийся шакирд заиграл на курае протяжную мелодию. Звуки крепли, росли, а временами ослабевали так, что начинало казаться, что вот-вот коснутся пола, но они, внезапно окрепнув, снова взмывали ввысь, будто собираясь дотянуться до самого неба. Кураист оказался дивным мастером, ничуть не хуже певцов. Снова все замерли, обратившись в слух. Чуть переждав, после кураиста опять заиграли кубызы, сопровождаемые звяканьем подноса. Шакирды, стоявшие вокруг стола, начали без слов напевать плясовую. И тут в круг выскочил какой-то маленький мальчик в кавушах на толстой подошве и пустился в пляс, притоптывая ногами и всем телом извиваясь в такт музыки. Иногда он тихонько, мелкими шажками шёл в сторону музыкантов, пожимая плечами, потом принимался громко притоптывать, взмахивая руками, и вдруг стремительно пускался по кругу, выписывая ногами такие кренделя, что уследить за ними не было никакой возможности. Порой, прищёлкивая пальцами, он топал так громко, что заглушал не только кубызы, но и звяканье подноса. Вдруг он поднимался на носочки и, легко подпрыгивая, становился похож на пушинку, которая, казалось, вот-вот отделится от пола и воспарит к потолку. Музыка звучала всё быстрее, а мальчик взлетал всё легче и выше, словно тело его не имело веса и полностью обратилось в движение и ритм. Шакирды заворожённо следили за ним, боясь перевести дух. Когда маленький плясун остановился, все закричали: «Ещё, Магсум, ещё!» Раскрасневшегося взмокшего Магсума учителя уговорили сплясать ещё. Тот послушно снова пустился в пляс, высекая ногами искры, околдовав, очаровав всё медресе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































