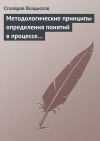Автор книги: Коллектив Авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Если в переводных текстах эта тенденция просматривается лишь статистически, то в оригинальных церковнославянских текстах она выражена вполне явственно. Так, скажем, в оригинальных текстах праздьныи имеет лишь значения ‘пустой, незанятый, свободный, бездельный’, но не встречается в значении ‘праздничный’, изредка появляющемся у него в переводных текстах [Срезневский II: 1367–1368; СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 132–133]. Напротив, праздьновати в текстах восточнославянского происхождения показывает такие значения, как ‘праздновать, торжествовать, отмечать праздник’, но не употребляется в значении ‘быть свободным от дел, не работать’ [Срезневский II: 1365–1369; СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 130; СРЯ XI–XIV вв., VII: 466–467, 473]. Глагол упражнятися в оригинальных текстах выступает в значении ‘заниматься чем-либо, предаваться чему-либо’ и, как правило, не появляется в значениях ‘освобождаться от работы, быть незанятым, удосуживаться’ [Срезневский III: 1247–1248] [46]46
В оригинальных восточнославянских текстах употребления упражнятися в значении ‘заниматься чем-либо’ многочисленны и не нуждаются в особых комментариях, ср. в качестве произвольно выбранного примера: «Кипрiанъ митрополитъ {…} въ молитвѣ чистѣ тамо упражняшеся» [ПСРЛ XI: 195 под 1407 г.]. В редких случаях, однако, появляется и значение ‘быть незанятым’. В таких употреблениях, видимо, актуализируется внутренняя форма слова, отсылающая к праздный ‘пустой’. Не очевидно во всяком случае (сужу по материалам Картотеки Словаря русского языка XI–XVII вв.), что подобные примеры образуют собственную традицию употребления, ср. в грамоте митрополита Ростовского и Ярославского апреля 1647 г.: «чтобы въ воскресной день отнюдь никакой человѣкъ мужеска полу и женска, господа и рабы, ничего не дѣлали, но упражнялися и приходили ко церкви Божiи на молитву» [ААЭ IV: 32]. Грамота повторяет указ Алексея Михайловича марта 1647 г. о соблюдении воскресного дня, в котором предписывалось «упражнятися и приходити къ церквѣ Божiи на молитву» [АИ IV 28]. Более раннее употребление глагола упразднитися в данном значении находим в Житии Никиты Столпника Переяславского XV в.; после слов о том, как Никита вел неправедную жизнь с мытарями, говорится: «Единою же упразднивъ себе, вниде въ црьковь и слыша почитаема Исаию пророка» [Федотова 2005: 323]. Один пример можно привести и из Степенной книги (семнадцатая степень, повествование о взятии Казани): «Инъ же нѣкто воинъ Нижеградецъ упразднися отъ стражбы чреды своея и отъ многаго труда и бьдѣнiя, возлеже въ кущи своей, хотя опочити» [ПСРЛ XXI, 1: 644–645].
[Закрыть]. В этой размежеванной системе нет места тем амбивалентным значениям σχολή и σχολάζειν,которые характерны для языка греческой патристики [47]47
О том, что сложившаяся в восточнославянском книжном узусе система исключает подобные значения, может свидетельствовать и семантика полногласных соответствий слов с корнем праз(д)ьн-, таких как порожний, порозжий, порозновати, порозность, порознство [СРЯ XI–XVII вв., XVII: 122–124]: полногласные корреляты должны иметься лишь у активно употребляемых неполногласных образований. Наряду со значениями ‘пустой, незанятый’ полногласные корреляты развивают и значение ‘свободный от дел, праздный’, однако не употребляются ни со значением ‘праздничный’, ни со значением ‘занимающийся чем-либо’. Стоит отметить, что некоторые из этих употреблений кажутся искусственными образованиями, производными от своих неполногласных эквивалентов, ср., например: «Жены бо порозности привыкаютъ и мужа имѣютъ потаковники», – в переводе из Иоанна Златоуста по рукописи XIV в. [СРЯ XI–XVII вв., XVII: 123–124].
[Закрыть].
Отсутствие в средневековой церковнославянской литературе концепта свободного времени, посвящаемого интеллектуальным или духовным занятиям, никак не удивительно. В христианской этике безделие (праздность) устойчиво рассматривалось как порок, а духовные занятия – будь то созерцание, молитва или богословствование – скорее воспринимались как дело, нежели как препровождение времени в отсутствие дел, ср. умное делание как обозначение монашеской молитвенной практики. Показательна формулировка, использующая интересующие нас лексемы, в славянском переводе слова Исаака Сирина: «се бо аще и ст҃їи времѧ празности не имѧт понеж въ всѧком часѣѹпражнѧеми сѫть въ дх҃вных»[48]48
В оригинале:
[Закрыть] [Вилинский 1906: 399].
Представление о духовном досуге, обозначаемом в греческой патристике как σχολή, обусловлено исключительно рецепцией античной философии, приспособлением античного интеллектуального дискурса к новым христианским жизненным условиям и познавательным задачам. Античная образованность, παιδεία, предполагала и время, освобожденное от повседневных забот и гражданской деятельности и отданное чтению, размышлению и созерцанию; отцы церкви, такие как великие каппадокийцы или Иоанн Златоуст, отнюдь не отказывались от этой античной традиции (см., например [Mango 1980: 125–148]): христианский учитель (епископ) или монах, оставивший мир для созерцательной жизни, оказываются в ряде отношений наследниками античного философа; в силу этого в их существовании находится место для σχολή, otium’а, переосмысленного, но не отвергнутого элитарной христианской культурой. Понятно, что это переосмысление идет достаточно глубоко, предполагая, вообще говоря, богообщение (отдачу себя личному Богу, немыслимому для античности) в отвлечении от занятий всякого иного рода – как житейских, так и интеллектуальных [49]49
Ср. выражение Θεῶ σχολάζειв Послании Поликарпу Игнатия Антиохийского (7:3) с необычным для классического греческого дативом лица, вводящим идею преданности этому лицу, отданности ему. Об этом выражении Игнатия и о патристической традиции, возникшей на этой основе, см. [Wartelle 1996]; Вартелль говорит о «christianisation d’un mot et d’une idée», особо выделяя «теологизацию» σχολήу таких христианских авторов, как Василий Великий. Отношение христианских авторов к античному досугу могло быть весьма различным. Существенно, что оно вовсе не всегда было ригористичным, что и указывает на те дискурсивные практики, в рамках которых может появляться христианизованный досуг, ср. о толерантном отношении к традиционному досугу у Климента Александрийского: [Alexandre 1996].
[Закрыть].
Христианизация досуга, происходившая в восточной, греческой части Империи, была не менее характерна и для ее западной, латинской части, хотя, как справедливо замечает Б. Викерс, для лат. otium’а изначально были нехарактерны те положительные коннотации, которые присутствуют у греч. σχολή уже у Платона и Аристотеля [Vickers 1990: 5–6]. Особенно показательны для этой христианизации сочинения Августина, рассуждения которого о христианском otium’е многочисленны и детальны. Само слово otiumè однокоренные с ним слова встречаются в писаниях Августина 243 раза [Oroz Reta 1996: 434]. У него ясно просматривается преемственность христианского otium’а по отношению к античному otium’у honestum; удаляясь в Кассикиакум, Августин может говорить о Christianae vitae otium [Brown 2000: 108 сл.]. Концепция otium’а у Августина эволюционирует, в понимании otium’а нарастает элемент христианского отречения от мира и созерцательной аскезы [Oroz Reta 1996: 439–440]. Переселившись в Африку, Августин может употреблять такое выражение, как deifcari in otio, предполагающее радикальную христианизацию этого понятия (хотя само выражение может быть заимствовано у Порфирия – см. [Brown 2000: 126; Folliet 1962]. Понятно, что, получив столь основательную трактовку в трудах едва ли не самого важного из отцов латинской духовности, христианский otium продолжает появляться в латинской духовной литературе последующего времени, хотя и с куда меньшей интенсивностью, чем у Августина (ср. [Leclercq 1963]).
Тем более знаменательно, что в ранней средневековой литературе на новых европейских языках, например, в литературе старофранцузской, понятие христианского otium’а или благородного otium’а litterarium практически отсутствует. Как указывает Н. Андрье-Реис, само слово otium «n’a pas engendré phonétiquement de successeur en ancien français» [Andrieux-Reix 1996: 477]; это указание дополняется тем, что «[l]a forme negoce (attesté en ancien français а partir du XIIIe siècle) est un emprunt au latin negotium» [Ibid.]. Прилагательное otiosus в старофранцузском «en y devenant oisos-oiseus, s’est limité au champ notionnel de l’“oisiveté” et de l’“inutilité”, désertant ainsi quasiment celui du “loisir”, auquel le loisir de l’ancien français n’appartient pas encore» ([Ibid.]; ср. еще [Schalk 1985: 232–233]). Слово отсутствовало в старофранцузской литературе, потому что отсутствовало понятие и в слове не было нужды. Как замечает П. Менар, также основываясь на лексикологических данных, «[l]es idées de retraite studieuse, d’approfondissement intellectuel par le loisir, de creation littéraire due а l’otium n’apparaissent guère а cette époque» [Ménard 1996: 455]. Ozio, ocio, ociositas в итальянском, испанском и португальском появляются как ученые заимствования из латыни в XIII–XIV вв. [Schalk 1985: 242–245].
В этом плане заслуживает внимания история слова loisir. Оно существовало в старофранцузском, но не имело значения досуга, свободного времени. «Au XIIe et XIIIe siècles le verbe loisir, issu du latin licere, s’emploie comme un verbe impersonnel а la 3e personne du présent loist ou du passé lut au sens de “il est permis, il est possible”. Le substantif loisir, déverbal du verbe loisir, existe aussi, mais il est toujours associé а un complément (loisir de faire, loisir de dire). Le dictionnaire de Tobler Lommatzsch traduit le mot par Möglichkeit “possibilité”, Gelegenheit “occasion”, C’est toujours la possibilité de faire quelque chose {…} Mais {…} l’emploi de loisir au sens de “temps libre permettant de faire ce que l’on veut” n’apparaît pas avant la fn du XIVe siècle» [Ménard 1996: 456]. Как можно видеть, семантическое развитие слова loisir во французском ближайшим образом напоминает аналогичное развитие слова досуг в русском языке – с той, однако же, разницей, что во французском интересующее нас значение (а тем самым и интересующий нас концепт) появляется на несколько веков ранее, чем в русском. И сходства, и хронологическая дистанция без особого труда объясняются историко-культурными обстоятельствами: исчезновением зависимой от античности христианской традиции благочестивого otium’а (равным образом у французских наследников латинской культуры и у славянских наследников византийской культуры), идущим отсюда отсутствием концепта христианского досуга и развитием нового концепта досуга в рамках светской (куртуазной) культуры, происходящим у русских существенно позднее, чем у французов.
В этом контексте не представляется удивительным и другое сходство в истории слов и понятий русского и французского языков. Речь идет о некоторых аналогиях в развитии фр. oisiveté и однокоренных с ним слов и рус. праздность и примыкающей к нему группы слов. Эти слова близки по значению (исходно обозначают одно понятие) и сходствуют по характеру первоначального употребления. Фр. oisiveté, как и славянская праздность, является по происхождению книжным, ученым словом. Оно встречается, хотя и довольно редко, в моралистических и религиозных текстах XII–XIII вв. и получает более широкое распространение позднее. «Il est pourvu d’une connotation négative, car il désigne une faute grave, qui découle du péché mortel de paresse» [Ménard 1996: 457; Schalk 1985: 232–234]. Те же негативные коннотации и у более распространенного существительного с тем же значением oiseuse– это та праздность, которая мать всех пороков [Andrieux-Reix 1996: 480]. Аналогично обстоит дело и с прилагательными oisos, oiseus, происходящими из лат. otiosus, равно как с близкими к ним по значению oisdif, oisif (об их семантической диффренциации см. [Schalk 1985: 232]). Как указывает П. Менар, они «impliquent condamnation d’un comportement néfaste au plan moral. Selon l’antique conception chrétienne le diable rôde pour perdre les oisifs. C’est la une représentation classique au Moyen Âge. Il apparaît donc que la famille de l’oisiveté ne pouvait guère dans le monde médieval servir а exprimer le loisir créateur, l’activité désintéressée, le recueillement intérieur. Les termes qui relèvent de cette famille semblent appartenir au domaine de l’inaction, et donc du mal» [Ménard 1996: 457]. Обозревая средневековую духовную литературу, Менар приходит к выводу, что «l’oisiveté, et donc le loisir, sont toujours représentés sous de noires couleurs» [Ibid.: 464]. Праздность рассматривается как разновидность равнодушия и греховного бездействия (ср. [Wenzel 1960]) и понимается как путь к греху и погибели в силу испорченности человеческой природы, дурные наклонности которой побеждают, когда не сдерживаются каждодневным трудом и заботами [Ménard 1996: 464]. Примеры из религиозной литературы бесчисленны – начиная от памятников раннего средневековья и кончая моралистическими трактатами XVII–XVIII вв. (ср. о Петрарке, Маккиавелли, Шекспире, Мильтоне и т. д.: [Vickers 1990: 111–153]; о французских духовных писателях XVII–XVIII вв. Бурдалу, Фенелоне, Массилльоне ср. [Schalk 1985: 237–238]).
Первые отступления от этой ригористической трактовки праздности в истории французской культуры начинаются весьма рано. Уже в «Романе о розе» Жильома де Лорриса (конец XIII в.) греховность праздности оказывается проблематизированной, поскольку в нем появляется в качестве одного из привлекательных аллегорических персонажей la belle Oiseuse; она стоит у ворот сада любви и развлечений, своего рода земного (и поэтому, конечно, порочного) рая, который, однако, никакому прямому осуждению не подвергается; она впускает в него, тогда как ее собственные занятия состоят в сидении перед зеркалом и украшением себя [Sasaki 1978; Vickers 1990: 118–119; Ménard 1996: 464–469]. Дальнейшее развитие приводит во Франции (и в ряде других западноевропейских культур) к переоценке всех концептов данной сферы. Отчасти уже культура Ренессанса и в полной мере культура классицизма возвращаются к античному понятию otium’а, осваивая и эпикурейский, и стоический вариант этого концепта, переосмысляя (и тем самым искажая) их и строя на их основе новую эстетическую и новую этическую системы [50]50
Здесь было бы неуместно разбирать дискуссионный вопрос о том, насколько характерно для культуры античного Рима (в разные его периоды) позитивное восприятие otium’а и с какими оговорками связывают допустимость otium’а Цицерон, Сенека, Гораций, Тацит и другие. Ж. М. Андре, следуя общепринятой точке зрения, считает позитивное понимание достаточно широко распространенным ([André 1966]; ср. еще [André 1984]). Б. Викерс ставит под сомнение многие его интерпретации и говорит об устойчивой античной традиции осуждения otium’а [Vickers 1990: 3—37]. Именно эту традицию продолжает, согласно Викерсу, и средневековая, и ренессансная культуры. Аргументация Викерса представляется мне в отдельных моментах тенденциозной. Каков бы ни был «подлинный» смысл античных текстов, в их позднейшей рецепции они могли служить основанием и для традиции негативного otium’а, и для традиции его позитивного двойника, причем это могли быть одни и те же тексты.
[Закрыть].
Otium становится важнейшим элементом новой светской культуры, основанной на новой образованности. В одной из своих парадоксальных трансформаций, запечатлевшейся в сочинениях Сент-Эвремона, otium оказывается даже отличительной принадлежностью светского человека (l’honnête homme) [Bensoussan 1996]. Эта реапроприация античного otium’а приводит не только к тому, что с неизменно положительными коннотациями начинает употребляться loisir, но и к реабилитации праздности (oisiveté). Так, в середине XVII в. Гез де Бальзак пишет, упоминая античных теоретиков otium’а (Сципиона, Цицерона, Варрона, Плиния): «On jouit de l’oisiveté, l’esprit en fait des festins: c’est l’image de la vie du ciel et il n’y a point de plus douce viande sur la terre» [Beugnot 1996: 587]. Oisiveté оказывается наделено здесь исключительно положительными коннотациями [51]51
Ср. еще о распространении понятия ocio amoroso в классической испанской литературе XVI в. [Schalk 1985: 245–247].
[Закрыть], и эта позитивная рецепция утверждается (как одна из возможностей) во французской языковой традиции. Можно указать, например, что в «Trésor de la langue française» в качестве первого значения oisiveté приводится нейтральное «état d’une personne qui ne fait rien» и лишь в качестве второго «péj. indolence, paresse»; для первого значения, в котором oisiveté синонимично loisir, дается весьма красноречивый пример из дневника Мориса де Герена за 1834 г. «J’ai reconnu que mes six semaines d’oisiveté n’étaient pas perdues, que le fot de rèves étranges qui avait inondé mon âme l’avait soulevée et portée plus haut» [Trésor: s. v. oisiveté]. Можно сказать, что блаженная и приносящая духовные плоды праздность входит во французскую картину мира [52]52
Шальк полагает, что oisiveté, воспроизводящая коннотации античного otium’а, получив распространение в XVII–XVIII вв., «in Rousseau seinen Ausklang gefunden hat» [Schalk 1985: 242]. Как показывают примеры, столь радикальное утверждение неверно. Справедливо, однако же, что «неоклассическое» oisiveté в XIX–XX вв. встречается реже, нежели в XVIII в. Речь должна идти здесь, на мой взгляд, не о семантическом изменении (изменении набора значений слова oisiveté), а о смене доминирующих дискурсов: возвышенная праздность не исчезает, но говорить о ней начинают реже.
[Закрыть].
Русская праздность (и праздный) в ряде отношений сходна с фр. oisiveté, но в нескольких существенных аспектах от нее отличается. Праздность точно так же отделяется от греч. σχολή, как фр. oisiveté – от лат. otium. В религиозной литературе, циркулирующей у восточных славян, праздность и празднь употребляются почти исключительно с негативными коннотациями (одно или два исключения встречаются в переводной литературе в соответствии с греч. σχολή – см. [СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 133]). Примеры многочисленны, весьма сходны с теми, которые мы находим в старофранцузской литературе, и основаны, надо думать, на том же невеселом взгляде на человеческую природу. Так, в Изборнике 1073 г. мы читаем: «отъ колика образъ блоудъ . и съньѧ въ чл҃цѣбывають {…} отъ {…} многа пития и мънога съпания и отъ празни»[53]53
В оригинале:
[Закрыть] [Изборник 1073: л. 53 г; Срезневский II: 1369]. В переводе поучений Ефрема Сирина по рукописи XIII в. находим: «Мнозѣбо злобѣнавчила ѥсть празнь»[54]54
В оригинале:
[Закрыть] [Там же]. В славянском переводе апофегм Менандра обнаруживаем: «Празнь велико зло человѣкϫ»[55]55
В оригинале:
[Закрыть] [Там же] и «Мъного зло чл҃кмъ раждѧеть празнь»[56]56
В оригинале:
[Закрыть] [Буслаев 1861: стб. 643]. Немного позднее появляются аналогичные примеры со словом праздность, ср. в Житии Павла Обнорского: «[Подобает] ненавидѣти ж празность, яко многых золъ виновну» [СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 131] или в нравоучительном сборнике XVI в.: «Бесѣды безъ мѣры, аще и добры, помрачаютъ печаль смысла, покой же и празность погубляютъ и множае бѣсовъ врежаютъ» [Там же].
Ничто подобное «Роману о розе» не вносит разнообразия в эту ригористическую трактовку праздности: книжная культура Московской Руси вплоть до XVII в. не содержит никаких светских элементов и не производит куртуазных текстов. Хотя со второй половины этого столетия ситуация начинает меняться, в частности и под нарастающим влиянием Запада, до освоения дискурса свободного времени дело доходит не скоро (как мы видели, разбирая историю досуга), а переосмысление понятия праздности как составляющей этого дискурса характеризует лишь последние этапы этого процесса. Так, в трактате начала XVIII в. «Наказание чадом» привычным образом говорится: «да обучают дѣти своя или рукодѣлию нѣкоему или иному чтному коему упражнению да не во празднествѣ живуще приобыкнутъ злобам празность бо есть питателница оным» [Буш 1918: 112]. В указе Петра о порядке наследования от 23 марта 1714 г. рутинно оговаривается: «каждый, имѣя свой даровый хлѣбъ, хотя и малой, ни въ какую пользу Государства безъ принужденiя служить и простираться не будетъ, но ищетъ всякой уклоняться и жить в праздности, которая (по Святому писанiю) матерiю есть всѣхъ злыхъ дѣлъ» [ПСЗ V: № 2789, с. 91] [57]57
Ср. еще в разговорнике, приложенном к грамматике Лудольфа: «выбираи товарищи которие не склонение къ питїю или къ праздности* – Elige socios qui non propensi sunt ad potum, vel ad otium» [Ludolf 1696: 63].
* В оригинале:
[Закрыть]. Не удивительно поэтому, что в Словаре Академии Российской праздность определяется как состояние с исключительно негативными коннотациями: «Препровожденïе времени не занимаяся ни какимъ полезнымъ дѣломъ, упражненïемъ. Праздность есть матерь всѣхъ пороковъ. Быть въ праздности» [САР1 IV: 1065] [58]58
Аналогичным образом и прилагательное праздный в своих непрямых значениях предполагает скорее отрицательные коннотации, ср. «2) Относительно ко времени: досужïй, свободный отъ дѣлъ. Читать книги въ праздное время. 3) Относительно къ лицу: а) не имѣющïй никакаго упражненïя, находящïйся безъ дѣла; незанятый никакимъ дѣломъ. Что здѣ стоите весь день праздни. Матθ. XX. 6. б) Лѣнивый, бездѣльный. Праздный человѣкъ безполезенъ обществу. 4) Неосновательный, ненужный, излишнïй, суетный. Яко всяко слово праздное. Матθ. XII. 36. Праздныя слова, рѣчи» [САР1 IV: 1065].
[Закрыть]. Это суровое отношение к безделию переходит без изменений и в позднейшие лексикографические пособия, ср. определения и примеры: «Провожденiе времени праздно, безъ дѣла. Праздность научитъ всякому злу» [СЦРЯ III: 422]; «состн. по прлг. Праздность мать пороковъ» [Даль III: 380].
Тем не менее и в русской языковой традиции имело место переосмысление праздности как otium’а, в результате которого праздность получала положительные коннотации. Это происходит в рамках той же классицистической культуры, которая реапроприирует античный otium во Франции и может, видимо, рассматриваться как один из моментов французского влияния. Связь русской переоценки праздности с классицизмом нуждается, впрочем, в некоторых оговорках. Русский классицизм был по преимуществу классицизмом государственным – искусством и литературой, воспевающими государство и состоящими, можно сказать, на государственной службе (ср. [Пумпянский 1983; Живов 2002: 449–460]). Поэтому и время русского классицизма было в основном временем, находившимся во владении государства. Частный досуг этой культурой в общем-то не предусматривался. Он появлялся в ней полузаконным путем – как реплика престижного дискурса французской политической культуры. У французов loisir, как уже говорилось, был неотъемлемой принадлежностью благородного общества, приметой светского человека (l’honnête homme), который, как Сент-Эвремон, оказывался верноподданным своего короля и патриотом своего государства именно в благодарность за то, что они обеспечивали ему его otium. Российская империя ничем подобным не занимается; дворянский досуг, как мы пытались аргументировать выше, проникает в доминирующий властный дискурс контрабандой, в определенной мере в оппозиции к дворянской же монархии.
Этот исторический контекст делает непростой и лингвистическую судьбу праздности. О праздном времени с нейтральными или даже положительными коннотациями начинают говорить, как было показано выше на примере «Примечаний к ведомостям», уже в послепетровскую эпоху. Выражение праздное время встречается в названии известного журнала «Праздное время в пользу употребленное», издававшегося студентами Кадетского корпуса с 1759 по 1760 г. Трактовка праздности в этом журнале, однако, достаточно близка традиционной, какая-либо апология праздности отсутствует, а речь идет в основном о том, как с пользой употребить появившийся у молодого дворянина досуг. Для этого в данном издании (как и за четверть века перед тем в «Примечаниях к ведомостям») составители журнала прибегают к помощи «The Spectator», на сей раз не переводя, а пересказывая (со ссылкой) уже известное нам эссе Р. Стиля [Праздное время I: 31–36]. В содержательном отношении этот пересказ может рассматриваться как редукция того перевода, который был помещен в «Примечаниях к ведомостям». В нем не остается пассажей, говорящих об индивидуальных accomplishments и культивировании личности как предпосылке благопотребного использования досуга. Основная мысль становится совсем тривиальной: не надо попусту терять доставшееся тебе «праздное время». О занятиях, которые, с точки зрения авторов журнала, избавляют от пустой потери времени, можно судить по первой статье журнала «О поздравленiи съ новымъ годомъ». Здесь говорится о том, что «лѣность и празднолюбïе суть главныя неприятели въ нашей жизни» [Там же: 2], а затем декларируется, что нет смысла поздравлять с новым годом человека, «непоказавшаго нималѣйшей услуги ни Государю своему, ни отечеству; непекущагося ни о приятелѣ своемъ, нижè о себѣ самомъ кромѣ того, что онъ во весь годъ только ѣлъ и пилъ а протчее время проспалъ» [Там же: 4–5]. Стоит отметить, что в качестве достойного употребления праздного времени на первом месте указываются «услуги» царю и отечеству, т. е. в новом обличии все та же служба, с помощью которой государство апроприирует время частного человека. Можно полагать, что праздность остается объектом моралистического осуждения вплоть до 1770-х годов.
Наиболее ранний из известных нам примеров нового отношения к праздности появляется у М. Н. Муравьева, первого поэта, противопоставившего горацианский идеал частного блаженства государственному служению литературы. В 1779 г. Муравьев писал [Муравьев 1967: 182]:
Дай, небо, праздность мне, но праздность мудреца,
И здравие пошли, и душу, чувствий полну,
И слезы радости, как, став за волжску волну,
На персях лучшего спокоюся отца [59]59
Стоит отметить, что у Державина в «Благодарности Фелице» (1783 г.) праздность противопоставлена поэтическому вдохновению: оно требует свободных часов, но с праздностью не сочетается, ср.: «Когда небесный возгорится / Въ пiитѣ огнь, онъ будетъ пѣть; / Когда отъ бремя дѣлъ случится / И мнѣ свободный часъ имѣть, – / Я праздности оставлю узы, / Игры, бесѣды, суеты; / Тогда ко мнѣ прiидутъ Музы, / И лирой возгласишься ты» [Державин I: 155–156]; праздность выступает не как поэтический досуг, а как узы, образуемые светской суетой. Таким образом, otium litteratum, о котором пишет Цицерон (см. о нем [André 1966: 327–329], для Державина никак в праздность не переводится. Надо, впрочем, заметить, что такое отношение к поэзии высоких жанров (производство которой рассматривается как negotium, а не как otium) известно и в античном Риме и признается Горацием [Ibid.: 495–497].
[Закрыть].
Позитивная праздность появляется у молодого Карамзина. Это вполне предсказуемо, учитывая, насколько Карамзин в 1790-е годы был увлечен Руссо и как старательно он воспринимал образы руссоистской созерцательности (о созерцательности и oisiveté у Руссо см. [Schalk 1985: 240–241]). Мы находим ее в стихах в «Илье Муромце» [Карамзин VII: 202–203]:
Я намеренъ слогомъ древности
разсказать теперь одну изъ нихъ
вамъ, любезные читатели,
естьли вы въ часы свободные
удовольствiе находите
въ Рускихъ басняхъ, въ Рускихъ повѣстяхъ,
въ смѣси былей съ небылицами,
въ сихъ игрушкахъ мирной праздности…
и в прозе в «Бедной Лизе» [Карамзин VI: 16]:
Онъ (…) часто переселялся мысленно въ тѣ времена, (бывшiя, или не бывшiя) въ которыя, по описанiю Поэтовъ, всѣ люди безпечно гуляли по лугамъ, купались въ чистыхъ источникахъ, целовались какъ горлицы, отдыхали подъ розами и миртами, и въ щастливой праздности всѣ дни свои провождали.
Проблема переоценки праздности явно осознается, и в этот период неустоявшегося употребления делаются попытки провести различие между позитивно оцениваемым досугом и негативно оцениваемой праздностью. Так, в цитировавшемся выше эссе Х. Гарве, переведенном Карамзиным для «Московского журнала», говорилось [Гарве 1792а; 1792б]:

Карамзин, как видно из приведенных выше примеров, не придерживается этой дифференциации в своих собственных сочинениях, однако в данном случае важен сам опыт разделения. В это же время появляется сатирическое обыгрывание взгляда на праздность как на отличительную принадлежность благородного человека (сходного с воззрениями Сент-Эвремона). Н. И. Страхов, сатирик новиковского направления, в «Карманной книжке приезжающих на зиму в Москву» советовал семействам, прибывающим развлекаться в Москву, не покупать книг «о благоупотребленïи времени, потому что праздность есть главнѣйшимъ правиломъ благоурожденныхъ людей» [Страхов 1791: 87]. Реабилитация праздности, однако, оказывается сильнее этих благоразумных размышлений, и в легкой поэзии начала XIX в. праздность царит как в эстетической, так и в этической ипостасях [60]60
В этот же период, надо думать, появляются первые позитивные упоминания лени, которой мы здесь заниматься не будем, поскольку лень означает душевное расположение человека, а не способ употребления времени и тем самым прямого отношения к темпоральности не имеет. Истории понятия лени у русских посвящена работа Аннелоре Энгель-Брауншмидт [Engel-Braunschmidt 2006]. Она специально останавливается на романтической переоценке (romantische Umwertung) лени, при которой лень связывается с вдохновением [Ibid.: 90–94]. Не ясно, до какой степени эта переоценка совпадает с переоценкой праздности: предшествует ли позитивная праздность позитивной лени (что можно было бы объяснить их семантическими свойствами) или отставание лени лишь кажущееся, обусловленное ограниченностью и случайным характером использованной Энгель-Брауншмидт выборки. Автор не проводит различия между ленью и праздностью, порою смешивая два эти понятия (ср. [Ibid.: 85, 93]). Она явно недооценивает не только их семантические различия, но и несходства в их лингвистическом статусе и лингвистических коннотациях. Хотя автор упоминает о том, что лень входит в число смертных грехов [Ibid.: 93, примеч. 64], вопрос о том, как воспринимались лень и праздность в русском религиозном сознании по существу не рассматривается. Между тем понятие смертного греха оставалось для русских чуждым, а лингвистические ассоциации задавали вполне специфическое соотношение лени и праздности. Лень была заурядным словом каждодневного языка, обозначающим обычное нежелание произвести какие-либо действия (мне сейчас лень лошадь запрягать) и не ассоциирующимся с состоянием глубокой греховности; праздность была словом книжным, элементом религиозного дискурса, обладающим сильными коннотациями религиозного осуждения. Это, как кажется, позволяет понять, почему позитивное переосмысление лени было более легким и более устойчивым, чем позитивное переосмысление праздности.
[Закрыть].
Если у Карамзина эта переоценка еще только начинается, то у Батюшкова она явно идет дальше окказиональных словоупотреблений. В «Похвальном слове сну» из «Опытов в стихах и прозе» сон как состояние абсолютной праздности превозносится как «стихия лучших поэтов»: «Но почему сон есть стихия лучших поэтов? Отчего они предаются ему до излишества, забывают все – и славу, и потомство, и золотое правило древности, которое говорит именно, что праздность без науки – смерть, otium sine letteris mors est?» [Батюшков 1977: 135]. Автор оставляет этот вопрос без ответа, однако из самой его постановки явствует, что otium обладает для автора большей ценностью и принимается без тех оговорок, которые считал необходимыми Сенека. В письме В. Л. Пушкину 1817 года Батюшков писал: «Ваши сочинения принадлежат славе: в этом никто не сомневается. {…} Но жизнь? Поверьте, и жизнь ваша, милый Василий Львович, жизнь, проведенная в стихах и в праздности, в путешествиях и в домосидении, в мире душевном и в войне с славянофилами, не уйдет от потомства» [Батюшков III: 433] [61]61
О лени и праздности как эстетических терминах в поэтике Батюшкова и о семантических сдвигах (например, в употреблении слова сладострастие), обусловленных развитием этих концептов см. [Вацуро 1994: 95–98].
[Закрыть].
У А. С. Пушкина, племянника Василия Львовича, позитивная праздность встречается повсеместно, особенно в его относительно раннем творчестве (см. [СЯП III: 677]; см. также работу Ю. Семенова, в которой дается неполный обзор употреблений праздности и досуга у Пушкина и пушкинские пристрастия помещаются в романтическую антибуржуазную парадигму [Semjonov 1960]). Так, в лицейской редакции послания к В. Л. Пушкину 1817 г. находим [Пушкин I: 252]:
Но вы, враги трудов и славы,
Питомцы Феба и забавы,
Вы, мирной праздности друзья,
Шепну вам на-ухо: вы правы,
И с вами соглашаюсь я!
«Питомцы Феба» оказываются друзьями праздности, а поэзия, следовательно, – плодом otium’а. В «Деревне» (1819 г.) Пушкин пишет [Пушкин II: 89]:
Я твой – я променял порочный двор Цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.
К этому можно добавить «люблю я праздность и покой» и музу «праздности счастливой» из «Моему Аристарху» 1815 г. [Пушкин I: 153, 155] и «спокойную праздность» из стихов «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году» того же года [Там же: 147]. И позднее, в декабре 1824 г., Пушкин пишет Д. М. Шварцу из Михайловского: «Уединение мое совершенно – праздность торжественна» [Пушкин XIII: 129]. Здесь нельзя не вспомнить и строку из первой главы «Евгения Онегина»: «И far niente мой закон» [Пушкин VI: 28]. Аналогичные мотивы можно обнаружить и у современников Пушкина. Так, Е. А. Баратынский связывает с праздностью рождение искусств («Н. И. Гнедичу», 1823 г. – [Баратынский 1957: 94]):
Искусства низошли на помощь к ним тогда;
Уже отвыкнувших от грубого труда
К трудам возвышенным они воспламенили
И праздность упражнять роскошно научили [62]62
В стихах «К Кюхельбекеру» 1820 г. Баратынский пишет: «Я счастье буду воспевать / И негу праздного досуга!» [Баратынский 1957” 58]; несколько тавтологический праздный досуг представляется одной из разновидностей позитивной праздности.
[Закрыть].
В те же годы подобные же эпикурейские декларации можно найти в стихах Н. М. Языкова «К халату» [Языков 1988: 94]:
Как я люблю тебя, халат!
Одежда праздности и лени,
Товарищ тайных наслаждений
И поэтических отрад!
Такого рода примеры можно многократно умножить, хотя ничего принципиально нового это не приносит. Существенно более интересно, что в поэзии (и прозе) следующего поколения такие примеры исчезают. Их нет не только у Некрасова, но и у Тургенева или Фета. Этим русская праздность видимым образом отличается от франц. oisiveté: позитивные коннотации французского слова удерживаются во французском языке, в то время как в русском позитивная праздность оказывается кратковременным эпизодом, не оставляющим за собою длительной традиции. Вполне показательно, что если в «Trésor de la langue française» приводятся примеры на позитивные значения этого слова (включая примеры из авторов XX в.), в семнадцатитомном академическом словаре русского языка такие примеры отсутствуют [ССРЛЯ XI: стб. 49–50]: вольная праздность и мирная праздность исчезли вместе с золотым веком русской поэзии. Этот феномен трудно не связать с историей апроприации времени в России: сначала оно было апроприировано государством, затем – в противостоянии с государством – либеральными друзьями народа (интеллигенцией) [63]63
Первые шаги этой антиправительственной апроприации можно видеть уже в строках из стихотворения К. Ф. Рылеева «Гражданин» (1824–1825 гг.): «Нет, неспособен я в объятьях сладострастья, / В постыдной праздности влачить свой век младой, / И изнывать кипящею душой / Под тяжким игом самовластья» [Рылеев 1934: 110]. Объятья сладострастья явно свидетельствуют о полемической направленности этих строк по отношению к легкой поэзии современников Рылеева (о концепте сладострастия в легкой поэзии см. [Вацуро 1994: 95–97]). Не исключено, что позорная праздность Рылеева полемически соотнесена и со спокойной праздностью Пушкина, поскольку в обоих случаях говорится о «славянах»: у Рылеева «изнеженное племя / Переродившихся Славян» [Рылеев 1934: 110]; у Пушкина «И юные сыны воинственных славян / Спокойной праздности с досадой предадутся» [Пушкин I: 147].
[Закрыть], но в частном владении, для забав или личных причуд, не пребывало почти никогда. Данные языка в этом случае весьма красноречиво характеризуют основополагающие особенности культуры.
Литература
ААЭ I–IV – Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею имп. Академии наук. Т. I–IV. СПб., 1836.
АИ I–V – Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. I–V. СПб., 1841–1842.
Алексеев 1999 – А. А. Алексеев. Текстология славянской Библии. СПб.: Дмитрий Буланин; Köln: Böhlau Verlag, 1999.
Анисимов 1982 – Е. В. Анисимов. Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в России 1719–1728 гг. Л.: Наука, 1982.
Анисимов 1994 – Е. В. Анисимов. Россия без Петра: 1725–1740. СПб.: Лениздат, 1994.
Баратынский 1957 – Е. А. Баратынский. Полное собрание стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1957. [Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд.]
Батюшков I–III – К. Н. Батюшков. Сочинения. Изд. П. Н. Батюшковым. Т. I–III. СПб., 1885–1887.
Батюшков 1977 – К. Н. Батюшков. Опыты в стихах и прозе / Изд. подгот. И. М. Семенко. М.: Наука, 1977.
Белокуров 1894 – С. А. Белокуров. Деяние Московского церковного собора 1649 года. (Вопрос об единогласии в 1649–1651 гг.) // Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских. 1894. Кн. 4. III. Исследования. С. 29–52.
БЛДР I–XX – Библиотека литературы Древней Руси / Под ред. Д. С. Лихачева и др. Т. I–XX. СПб.: Наука, 1997–2006 (продолжающееся издание).
Буслаев 1861 – Ф. Буслаев. Историческая христоматия церковно-славянского и древне-русского языков. М.: Университетская типография, 1861.
Буш 1918 – В. В. Буш. Памятники старинного русского воспитания (К истории древне-русской письменности и культуры). Пг., 1918.
Вацуро 1994 – В. Э. Вацуро. Лирика Пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб.: Наука, 1994.
Вилинский 1906 – С. Г. Вилинский. Послания старца Артемия (XVI века). Одесса: «Экономическая» типография, 1906.
ВМЧ, Март 1–11 – Die grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Uspenskij Spisok. Великие Минеи четьи митрополита Макария. Успенский список / Hrsg. E. Weiher, S. O. Šmidt, A. I. Škurko. Bd. 1. 1.–11 März. Freiburg i. Br.: Weiher Verlag, 1997 [Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertations, tom. XXXIX].
ВМЧ, Ноябрь 1–12 – Великие Минеи четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Ноябрь, дни 1–12. Изд. Археографической коммиссии. СПб., 1897.
Воскресенский 1906 – Г. А. Воскресенский. Древне-славянский Апостол. Вып. 2. Послание Святого Апостола Павла к Коринфянам 1-е по основным спискам четырех редакций рукописного славянского апостольского текста с разночтениями из 57 рукописей Апостола XII–XVI вв. Сергиев Посад, 1906.
Выг. сб. – Выголексинский сборник / Изд. подгот. В. Ф. Дубровина, Р. В. Бахтурина, В. С. Голышенко. М.: Наука, 1977.
Гарве 1792а – Chr. Garve. Ueber die Muße // Deutsche Monatschrift. 1792. Bd. 1 (Februar). S. 93–98.
Гарве 1792б – О Досуге. Сочинение Философа Гарве // Московский журнал. Ч. VI. М., 1792. С. 167–176 [перевод Н. М. Карамзина].
Гуковский 1941 – Г. А. Гуковский. Сумароков и его литературно-общественное окружение // История русской литературы. Т. III. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 349–420.
Даль I–IV – В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т. I–IV. СПб.; М., 1880–1882. (репринт: М.: «Русский язык», 1978.)
ДДГ – Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. / Подг. к печати Л. В. Черепнин. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.
Державин I–IX – Г. Р. Державин. Сочинения. С объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. I–IX. СПб., 1864–1883.
Дуйчев 1968 – Болонски Псалтир. Български книжовен паметник от XIII век / Фототипно издание с увод и бележки от Иван Дуйчев. София: Изд-во на Българската академия на науките, 1968.
Дуков 2006 – Е. В. Дуков. Развлечения и сценические профессии в XVIII–XX веках: Запад и Россия // Е. В. Дуков (отв. ред.). Бремя развлечений. Otium в Европе. XVIII–XX вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 4–20.
Духовный Регламент 1904 – Духовный Регламент Всепресветлейшего, державнейшего государя Петра Первого, императора и самодержца всероссийского. М., 1904.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?