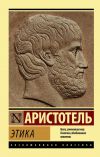Текст книги "Этическая мысль: современные исследования"

Автор книги: Коллектив Авторов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Нравственность возникает в синтезе языковых и неязыковых поведенческих схем. Ряд элементарных эмоций имеет неязыковое происхождение. Для их появления слово не обязательно. Важнейшими в этом ряду выступают гнев, страх, голод, эротическое влечение. Они являются психологической надстройкой над базовыми органическими влечениями к нападению, бегству, питанию и спариванию. Когда в сознании человека благодаря языку собственный угол зрения совмещается с чужим, элементарные эмоции превращаются в кардинальные нравственные чувства: гнев становится негодованием или обидой, страх – стыдом, голод – стремлением к добру и совершенству, эрос – любовью.
Если вникнуть в содержание этих нравственных переживаний, легко убедиться, что обида представляет собой частный случай, вернее, дальнейшее развитие гнева. Она возникает в том случае, когда кто-то причинил субъекту боль или вред, нарушив при этом совместно принятые правила. Обида побуждает к ответным действиям – мести обидчику. Проявление гнева вполне возможно на доязыковой стадии. Обида без языка немыслима, ибо она предполагает правила, формулируемые на знаковой основе. В дальнейшем из этого чувства кристаллизуется сложная система представлений о справедливости. Точно так же обстоит дело и со стыдом. Стыд – это страх перед общественным мнением. Вместо физического бегства он побуждает к бегству в себя, удерживает от активных действий, которые слишком сильно раскрыли бы того, кто стыдится, перед окружающими. Стыд, таким образом, вырастает из базового органического влечения, но только под влиянием словесных реакций поношения и высмеивания. В последующем своем развитии это чувство порождает феномен мистерии, т. е. тайны.
Положительные нравственные чувства – стремление к добру и любовь – более сложны, чем обида и стыд. Стремление к добру – это нравственная модификация чувства голода, точнее сказать, его аналог. Однако голод указывает на одностороннее движение от внешнего мира к человеку, т. е. на потребность в определенных веществах, которые могут быть приняты извне вместе с пищей. То, что человек испытывает потребность в добрых поступках по отношению к нему, не составляет проблемы. Не вызывает сомнения, что эта потребность является первичной и исходной в его нравственном устройстве. Проблема заключается в другом: испытывает ли человек потребность в совершении добрых поступков самих по себе или он совершает их только из расчета на ответное добро, в котором одном он и испытывает действительную нужду. На наш взгляд, бытийная организация человека исключает подобную односторонность. Как элемент бытия человек испытывает потребность не только в приобретении вещества, энергии и информации, но и в расходовании их, самоотдаче. Потребность творить добро столь же фундаментальна, как и потребность принимать его. В стремлении к добру выражается исконная тяга человека к совершенству, преображению, переходу на более высокий уровень бытия. Самым глубоким внеязыковым основанием этого нравственного переживания выступает незавершенность человека. Дефицит готовых поведенческих схем побуждает людей искать новые способы действия, т. е. совершенствоваться. Язык добавляет к этому основанию сначала пищевые запреты тотемического характера, а потом и социальный институт инициации – исторически исходную форму целостного преображения человека.
Последним, но, пожалуй, наиболее важным краеугольным основанием нравственности выступает любовь. В этом переживании бытие и благо другого человека становится условием и целью собственного бытия и блага. Один человек начинает жить для другого, ради него. Любовь прокладывает дорогу к соборности, единству с другими людьми – сначала с теми, кто связан узами кровного родства или совместной жизни, а потом и со всеми остальными. Можно ли любить не одного человека, а сразу двоих, нескольких или все человечество? В принципе можно, но внутренняя логика любви требует исключительности, незаменимости того, кого любят. Рассеивание чувства неизбежно ведет к его ослаблению. Язык влияет на избирательность любви через институт экзогамии и запрет на инцест.
Итак, нравственность представляет собой систему, объединяющую четыре названных кардинальных чувства и множество производных. Процесс формирования этих чувств и объединения их в целостность разворачивался постепенно на протяжении тысячелетий параллельно с развитием языка. Мы предполагаем, что к числу самых древних нравственных терминов относятся именно те, которые обозначают названные кардинальные переживания. На древность происхождения таких слов, как «обида», «стыд», «добро», «зло», «любовь», указывает то обстоятельство, что они практически не поддается этимологическому анализу. Подобный анализ можно производить только со словами, которые образованы из других слов. Но в языке непременно должно присутствовать некое лексическое ядро, неразложимое на составляющие. Слова «вода», «дерево», «мать», «отец», «идти», «давать», «брать» не могут быть редуцированы к другим. Они исконны.
Но основной массив нравственных терминов образовался из тех, которые принадлежат лексическому ядру. Процесс словообразования, как известно, отдельными своими сторонами воспроизводится в поэтических приемах («тропах»). Поэзия в целом как бы возрождает пути, которыми двигалась культура в своем становлении.[92]92
В русском символизме, напр., творческие потенции поэзии даже гипертрофируются. Она не возрождает языковое творчество, а просто является таковым. По Андрею Белому, «цель поэзии – творчество языка; язык же есть само творчество жизненных отношений» (Белый А. Магия слов // Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 135). Эта позиция опирается на буквальное значение греческого «ποίησις», но все же преувеличенна в обеих своих констатациях. На самом деле язык не столько создает жизненные отношения, сколько открывает их, проявляет. То же делает и поэзия с языковыми процессами. Гипертрофия конструктивных возможностей поэзии подвигает Белого к парадоксальному, а без обиняков говоря, ложному, эпатирующему заключению о том, что большинство употребляемых слов разлагается и заражает нас трупным ядом.
[Закрыть] Поэтому поэтические средства можно использовать для теоретического анализа тех процессов, которые давно завершились и не могут быть непосредственно созерцаемы. Важнейшими тропами, которые раскрывают для нас процесс формирования нравственных терминов, выступают метонимия и метафора.
Метонимия – переименование, т. е. называние объекта другим именем. Как правило, она основана на пространственной или временной смежности тех объектов, между которыми происходит обмен именем. Метафора – перенос имени одного предмета на другой по аналогии, на основе какого-либо сходства между ними. При этом тот, другой предмет условно наделяется качеством, принадлежащим первому предмету. Когда Гомер называет Ахиллеса «прямодушным», он не намеревается говорить о геометрических свойствах души героя. Речь идет только об аналогии между моралью и геометрией. В творении метафор к слову присоединяется зрение.
Синтетические возможности метафоры огромны. С ее помощью можно связать друг с другом практически любые аспекты реальности. Уникальность творческого потенциала метафоры в свое время подчеркивал Х. Ортега-и-Гассет: «Все прочие потенции удерживают нас внутри реального, внутри того, что уже есть. Самое большее, что мы можем сделать, – это складывать или вычитать одно из другого. Только метафора облегчает нам выход из этого круга и воздвигает между областями реального воображаемые рифы, цветущие призрачные острова.
Поистине удивительна в человеке эта мыслительная потребность заменять один предмет другим не столько в целях овладения предметом, сколько из желания скрыть его. Метафора ловко прячет предмет, маскируя его другой вещью; метафора вообще не имела бы смысла, если бы за ней не стоял инстинкт, побуждающий человека избегать всего реального».[93]93
Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991. С. 243.
[Закрыть] Конечно, бегство от реальности не является единственной побудительной силой использования метафоры, а может быть, – и не главной. Испанский философ видит источник метафоры в табуации, практике сакральных запретов и в необходимости обходить эти запреты окольными путями. Такая линия в родословной метафоры действительно присутствует – чистым продуктом это лингвистического тропа выступают загадки. Но основное в метафоре заключено все же в стремлении преобразить реальность, а не убежать от нее. Путь к преображению лежит через соединение отдаленного. По наблюдению Леви-Строса, одним из самых фундаментальных в культуре выступает полагание связи между пищевым и половым влечениями. Во всем мире человеческое мышление усматривает весьма глубокую аналогию между соитием и потреблением пищи, причем «до такой степени, что в очень большом числе языков эти два процесса обозначаются одним и тем же словом».[94]94
Леви-Строс К. Указ. соч. С. 195.
[Закрыть] Правда, ни русский, ни древнегреческий языки в это число, насколько нам известно, не входят.
Метафорическое происхождение во многих языках имеют термины «правда» и «справедливость». На область нравственных отношений переносятся свойства правой руки человека, доминирующей в его операциях с вещами. В результате переноса характеристик предметной деятельности на отношения между людьми возникли и многие другие нравственные термины. Известный фольклорист А.Н. Афанасьев отмечал специфический способ формирования нравственных понятий в русском языке: «Понятиями движения, поступи, следования определялись все нравственные действия человека; мы привыкли говорить: войти в сделку, вступить в договор, следовать советам старших, т. е. как бы идти по их следам; отец ведет за собою детей, муж – жену, которая древле называлась водимою, и смотря по тому, как они шествуют за своими вожатыми, составляется приговор о их по-ведении, нарушение уставов называем проступком, преступлением, потому что соединяем с ним идею совращения с настоящей дороги и переступания законных границ: кто не следует общепринятым обычаям, тот человек беспутный, не-путевый; сбившийся с дороги, он осужден блуждать по сторонам, идти не прямым, а окольным путем. Выражение “перейти кому дорогу” до сих пор употребляется в смысле повредить чьему-либо успеху, заградить путь к достижению задуманной цели. Отсюда примета, что тому, кто отправляется из дому, не должно переходить дороги, если же это случится, то не жди добра. Может быть, здесь кроется основа поверия, по которому перекрестки (там, где одна дорога пересекает другую) почитаются за места опасные, за постоянные сборища нечистых духов».[95]95
Афанасьев А.Н. Живая вода и вещее слово. М.: Советская Россия, 1988. С. 73–74.
[Закрыть] Если русские нравственные термины в основной массе восходят к движению и обращаются к телесному образу ног, то немецкий язык, наоборот, ищет опору для нравственности в ручной работе с вещами. «Die Handlung» (поступок), бесспорно, образовано от «der Hand» (рука).
Выбор переносимого материала не случаен. В движениях и манипуляциях с предметами развивается способность к произвольному поведению, а она для нравственности является решающей. Только на ее основе преображение человека становится направляемым и контролируемым. Люди совершенствуют произвольность поведения, пользуясь знаками. Зачатки произвольного поведения имеются у животных. В случае опасности ими подавляются крики боли или наслаждения. Праволя – это способность преодолевать боль, страх или жажду наслаждения. Основанием для волевого действия выступает предвидение последствий. Опираясь на идеи бергсоновской творческой эволюции, П.А. Флоренский толковал возникновение сознания как результат задержки непрерывного потока психической жизни. Поведение человека непроизвольно, пока он не столкнется с внешним или внутренним препятствием. «Мы живем нравственно; у нас нет в сознании мысли о нравственности; наша нравственность качнулась – и возникает этика; в горячем увлечении этическими проблемами не скрывается ли обычно личной неэтичности?»[96]96
Флоренский ПА. Указ. соч. С. 225.
[Закрыть]Препятствие останавливает непроизвольные психические процессы и призывает заглянуть в будущее. Чем более отдаленные последствия принимаются во внимание, тем выше степень произвольности действия. Уже простой вещественный знак выводит произвольность поведения на качественно новый уровень. Делая какую-либо вещь знаком, человек вырывает ее из системы естественных связей и наделяет своим собственным значением. Обычная игральная кость становится метафорой, с помощью которой овладевают судьбою. Ее бросание подобно той незначительной флуктуации, которая определяет путь эволюции системы в точке ветвления.
Слово выступает средством сублимации элементарных влечений через объединение различных побуждений и стоящих за ними аспектов действительности в целостную систему. Предвидение последствий собственного действия определяется постижением глубинных связей бытия, внутренних противоречий, которые обусловливают его изменение. Классифицируя мир посредством синонимов и антонимов, язык существенно расширяет горизонты произвольного поведения.
Существует связь между грамматическими наклонениями и глубинными структурами нравственного сознания. Наряду с изъявительным наклонением, которое нравственно нейтрально, в классических языках имеются императив и оптатив. Первым выражаются необходимые действия, вторым – желательные. Через императивное наклонение обозначается деонтология нравственного сознания, представления о должном; через оптативное – его аксиология, представления о ценном. Доисторическое формирование нравственности – это установление системных связей между речевыми категориями приказа, просьбы, обещания и совета. Нравственность направлена на то, чтобы соединить эти фазы произвольного поведения, сделать необходимое желательным, а желаемое необходимым. Нарушение баланса между этими составляющими морали ведет либо к деспотическому диктату и манипулированию сознанием (когда гипертрофируется императивный момент), либо к утопическому сознанию (если преувеличивается оптативность). Нравственность разрушается, если происходит полное разъединение этих компонентов: если выполнение приказа ведет к превращению человека в раба или, наоборот, от субъекта перестают что-либо требовать и он теряет стремление к преображению.
В нравственном поведении важно не столько предметное, сколько знаково-символическое содержание. Поступки, которые считаются нравственно-положительными, не обязательно приносят кому-либо прямую материальную пользу. Они направлены на совершенствование человека и связей между людьми. Слово также является поступком. Оно выступает простым знаком, если предписывает человеку определенное действие или фиксированный комплекс действий. Оно же служит символом, если приобщает человека к непосредственно не воспринимаемым аспектам реальности, ведет его в глубину и тайну бытия.
Всякий символ указывает на слияние и гармонию противоположностей. Он является не просто метафорой, но как бы принципом порождения неограниченного множества метафор. Уже простой словесный знак, даже сигнал существенно повышают степень произвольности поведения, поскольку уменьшают зависимость от непосредственного воздействия и усиливают предвидение последствий. Соприкосновение с символом дает человеку ту способность, которую традиционно именовали «свободой воли». Перекресток символизирует множественность пути и необходимость выбора наилучшей дороги. В центральных культурных символах («крест», «инь – ян» и т. д.) стягивается бесконечное множество бинарных оппозиций, и поэтому свобода воли возвышается до творческого отношения к миру. По нашему убеждению, свобода воли – это и есть способность определяться к действию символом, который каждый понимает со свойственной лишь ему степенью глубины. Иными словами, свобода воли – это способность определяться будущим.
Способность к свободному преображению – это одна сторона стремления к добру. Другой его стороной выступает желание сблизиться с лучшим и удалиться от худшего. Языковое облачение этого желания ведет к мифу и ритуалу. Превращение знака в символ происходит как раз в движении от слова к мифу. По всей видимости, в самом языке есть нечто такое, что предрасполагает его развертываться в миф. Не случайно греческое μυ4θος значит одновременно и «миф» и «слово».
Знак вообще и слово как языковый знак почти никогда не означают индивидуального предмета. Возможность применять одинаково звучащие слова к множеству различных объектов содержит мистифицирующий момент, который побуждает тех, кто вслушивается в слово, представлять наглядно и образно некое единство, стоящее за этим словом. От индивидов они восходят к видам и родам, а для некоторых, как для Платона, перед умственным взором открывается само Благо – вершина царства идей. В реальности же значение слова – совокупность контекстов-ситуаций, в которых оно употребляется. Говорящим и слышащим они воспринимаются с различных точек зрения. Произнесенное слово пускает в ход не только мышление слушающего, но и воображение. По замечанию Р. Барта, «вокруг окончательного смысла всегда потенциально клубится некая туманность, где зыбко колеблются другие возможные смыслы, то есть смысл почти всегда может быть интерпретирован. Язык предоставляет мифу «пористый смысл», легко способный набухнуть просочившимся в него мифом: язык здесь похищается посредством его колонизации».[97]97
Барт Р. Мифологии. М.: Сабашниковы, 1996. С. 258.
[Закрыть] В момент упомянутого интерпретирования и происходит трансформация слова в миф. Очевидно, сначала словом «миф» называлось любое сообщение, а потом – только вымышленное. В данном случае история развития термина отражает реальное движение культуры. Овладев знаковой деятельностью, в том числе языком как наиболее простой и совершенной ее формой, человек приобрел способность не только усматривать значение объектов действительности, но и устанавливать его. Самыми колоритными продуктами этой способности выступают мифология и религия. Миф устремлен не к познанию действительности, а к наполнению ее смыслом. В нем устанавливаются новые связи между вещами и вводятся существа, ответственные за такие связи. По этой причине мифологическое мышление неотделимо от культуры. Как полагал К. Леви-Строс, оно запускается всякий раз, когда сознание вопрошает себя о том, что есть значение.[98]98
См.: Леви-Строс К. Ревнивая горшечница // Путь масок. М.: Республика, 2000. С. 166.
[Закрыть] Иными словами, сознанию в целом присущи две разные интенции. Та, что направлена на объективную связь вещей, в своей развитой форме дает науку; та, которая направляется к человеческому значению вещей, – мифологию. Религия интегрирует и систематизирует то, что в мифологии дано случайно и фрагментарно. Если миф, по Р. Барту, является вторичной знаковой системой по отношению к языку, то можно предположить, что религия является вторичной знаковой системой по отношению к мифу.
Потенциально стать символом и войти в миф может любое слово, реально это происходит только с теми из них, которые имеют особую эмоциональную окраску, нагружены экспрессией. «Момент возникновения мифологической ситуации всегда характеризуется особенной эмоциональной интенсивностью: словно в нас затронуты никогда ранее не звеневшие струны, о существовании которых мы совершенно не подозревали».[99]99
Юнг К.Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Феномен духа в искусстве и науке. М.: Ренессанс, 1994. С. 117.
[Закрыть] Эмоциональность слов определяется их связью с ключевыми событиями человеческого бытия. Двумя фокусирующими центрами событий выступают переход от небытия к бытию (рождение) и от бытия к небытию (смерть). Рядом с этими фокусами существуют еще два предваряющих события: соединение полов как прелюдия к рождению и болезнь как преддверие смерти. Слова, относящиеся к этой тетради ключевых событий, имеют наибольший эмоциональный и энергетический потенциал.
Культура вырабатывает разнообразные способы активного отношения к жизненным ситуациям. Слово как символ представляет собой один из таких способов. Знать имя объекта или действия – значит, в определенной степени владеть ими. Называнием очерчивается граница, отделяющая их от других предметов и действий. Ограничение – обязательное условие овладения. В мифе производится «приручение» объектов через знакомство с порождающими их принципами. Поэтому овладевающая роль слова оказывается здесь большей, чем в реальном общении, и еще большей, чем в манипулировании вещами. В мифических образах человек воспринимает не внешние контуры объектов мира и не их динамическую структуру саму по себе, а проецирует в них силы и потенции, составляющие его собственный внутренний мир. Где, как не во внутреннем мире человека, конструктивные и деструктивные возможности слова наиболее значительны? Миф – это не голая выдумка, а попытка облечь в слово и образ наиболее сильные движения человеческой души.
Пока нравственность не выделилась в относительно самостоятельную культурную силу, мифология выполняет часть ее функций, определяет эквивалентность значимых контрастов и для нее. Мифологические образы имеют большую или меньшую ценностную окраску, располагаются на шкале жизни и смерти ближе к тому либо другому полюсу. Ценностную иерархию сущего в мифологии можно вывести анализом метаморфоз – благоприятных или неблагоприятных превращений, изменений внешней формы и внутренней сущности. Она состоит из 7 ступеней и включает в себя богов, демонов, героев, людей, животных, растения и неживые предметы. Каждая ступень иерархии – это определенная степень совершенства. Универсальным критерием совершенства выступает мера приобщения к жизни. Боги, стоящие на верхней ступени, в пределе совсем не причастны к смерти, а предметы, находящиеся внизу, – к жизни. Жизнеспособность мифологическое сознание отождествляет с благом, что явствует из самой этимологии русского слова «Бог». Оно восходит к иранскому «baga» и санскритскому «bhaga», указывающим на благо и подателя, распределителя благ. Согласно мифическим представлениям, для людей открыт путь вверх, в пределе – обожествление (апофеоз), и путь вниз – к вечным страданиям и смерти без возрождения. Избрание пути отчасти зависит от самого человека (главным образом от его поведения), отчасти определяется внешними для него силами – в основном теми, что располагаются на более высоких ступенях бытия.
Следовательно, своими образами и сюжетами мифология строит динамическую структуру мира: устанавливает значимость объектов, предписывает систему действий, необходимых для того, чтобы сохранять и усиливать положительное значение объектов или снижать отрицательное. Структура мира задается в мифах через образы богов, совершающих определенные действия и вызывающих определенные явления. Первоначально нравственное воздействие мифа не является системным и последовательным. Мифология начинается не с идеи о благом мироустроителе, который создал Вселенную на основе прочных законов и сообщил эти законы человечеству, чтобы те стали для него правилами жизни. В исходной форме мифы учреждают и обосновывают ритуальную практику – совокупность установлений, регулирующих диалог со сверхъестественными силами: богами и существами, приближенными к ним. Для этого, как подметил К. Леви-Строс, используется особый язык учтивости, который активно прибегает к метафорам, а не буквальным названиям частей тела, отношений родства и обычных действий.[100]100
См.: Леви-Строс К. Ревнивая горшечница. С. 236.
[Закрыть] В развитой форме мифология воздействует на моральное развитие человечества через а) построение фрагментарной картины мира, в которой жизнь отдельного человека поставлена в связь с жизнью других людей и существ; б) создание своеобразного способа мотивации поведения, состоящего в том, что субъект действует на основе своей причастности к символическому миру; в) выстраивание духовного мира личности как некоего поля значимостей (ценностных ориентаций) и определенной конфигурации положительных качеств (добродетелей); г) предъявление наглядных образцов поведения в отдельных сюжетных линиях, образах богов и героев; д) мировоззренческое обоснование преимущества нравственного образа мыслей и действий над безнравственным (идея соответствия между деянием и воздаянием) и т. д.
По К. Леви-Стросу, логика мифа основана на бинарных оппозициях, которые вытекают из особенностей восприятия (наличия признака или отсутствия его). Сама по себе бинарность ценностно нейтральна. Но в человеческом сознании она неизбежно приобретает ценностную окраску. Там, где возникают противоположности, действует предпочтение. Последнее вызывает оценку – обобщенное представление о добре и зле. В мифе мужское возвышается над женским, свет над тьмой, верх над низом, правое над левым и т. д. Ценностная дифференциация подчиняет себе все образы, созданные мифологией. Собственные представления о добре и зле люди облекают в фантастические формы. Вместе с идеей сверхчеловеческой мощи появляется понятие о недочеловеческом; рядом с богами, которые крупнее и могущественнее людей, появляются карлики, уступающие людям и в силе, и в величине. В дальнейшем дифференциация переходит на богов и духов. Среди них различаются небожители, несущие добро, и обитатели преисподней, специализирующиеся в различных видах зла и порчи. В греческой мифологии небесные боги – олимпийцы антропоморфны, т. е. представляют собой идеализированные подобия человека. Обитатели подземного мира, наоборот, тератоморфны, т. е. чудовищны, являют собой нагромождение звериных или фантастических признаков. В мифологических сюжетах между богами и людьми размещаются герои – потомство от смешанных браков. Они сражаются с чудовищами, освобождая землю, и наделяют человечество культурными благами: огнем, ремеслом, земледелием, письменностью и т. д. Герой, особенно ставший богом, – это символ осуществимости стремления к добру. Мифическая медиация происходит также вблизи противоположного полюса. Между людьми и хтоническими силами зла посредниками выступают трикстеры – жулики, ловкачи и обманщики, – своеобразные антиподы героев, которые нарушают мировой порядок, несут людям разнообразные беды, но одновременно и развлекают их, вносят в жизнь комическую струю. В нравах они исполняют роль негативного примера.
Важная роль медиации в культуре с появлением философии приводит к тому, что середина вообще приобретает особое ценностное значение. Это очень заметно в античной Греции, но не только в ней одной, а всюду, где пробивает себе дорогу представление о том, что следует удерживаться на определенной дистанции как, от хтонических, так и от небесных сил. Греки считали υ1βρις (дерзость, наглость, гордыню) – стремление соперничать с богами, ставить себя на один уровень с ними – одним из самых дурных и опасных человеческих качеств. Мифический образ прохождения между Сциллой и Харибдой оказался для них символом правильного жизненного пути. На этой основе формируется античное убеждение в ценности меры, а потом и аристотелевский вывод о том, что добродетель – золотая середина между двумя пороками, один из которых составляет крайность недостатка, другой – избытка. Золотую середину можно понять как сдерживающий себя логос, как напоминание о том, что в стремлении к преображению есть опасность уйти от истоков бытия и потерять себя.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?