Текст книги "Книга"
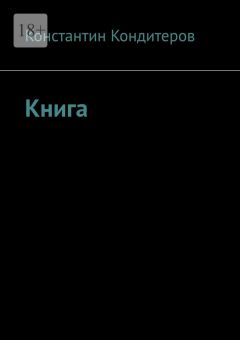
Автор книги: Константин Кондитеров
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Сюзанна
Жил Гаврила в оре, гаме,
спорах, ссорах, битие.
Начал делать оригами.
Стало лучше бытие.
Потом снова ссоры, споры,
резня после пития.
Он прочистил в бане поры.
Вырос индекс бытия.
Надо эту диатрибу
развернуть и обобщить.
Но пришла Сюзанна в платье,
вдохновенья порвав нить,
любомудрия и сана
мудреца меня лишив.
Но напомнила Сюзанна,
что я, вроде, ещё жив.
С органов стяхнув катарис,
членами вновь шевелю.
И за это благодарность
я Сюзанне объявлю.
Заключу без промедленья.
с нею вечный конкордат.
Выдам ей постановленье
с занесением в мандат.
А Гаврила пусть отныне
сочиняет сам себя.
Я ж к Сюзанне, словно к дыне,
взоры обращу, любя.
Всем сейчас не до Гаврилы.
На повестке дня – весна.
Пробуждаются гориллы.
Клетка вирусу тесна.
Хор
Соревнование хоров
за популяцию коров.
Есть запевалы, есть ботва,
оркестр, заплечная братва,
что ощетинится, как ёж,
когда по-своему споёшь.
Нам позволяют щели шор
видеть, как машет дирижёр.
А так же в щели видит лист
с программой партии хорист.
Друг друга, вроде мошкары,
пережужжать должны хоры.
Жись насекомых непроста.
Учись по знаку петь с листа
как надо, прежде чем поймёшь,
какую партию поёшь.
Читать не вздумай между строк —
Большой Брателло станет строг,
тебе прикрутит фитилёк.
Упал, отжался. Встал и лёг.
А птичка божия не зна…
труда, заботы. Ей весна,
природа, радость и восход
поют. Она в ответ поёт.
Нет у неё программ, границ.
Люблю свободных певчих птиц.
Хорошо темперированная корова
И не надо вызывать психушку. Я пишу из неё.
Они идут группами по семь голов кряду,
сметая всё на своём пути.
Иногда кажется, что их не семь.
Дело не в том, что они плохо темперированы.
Просто их тучность и худоба относительны.
Тебе ведь тоже говорили,
что при твоём росте
ты должен весить 70 килограмм.
А ты настырно весишь 93 или 66.
Их всегда семь. Но, учитывая относительность,
сравнительную плотность, усушку и утруску,
корректнее выражаться как-то так:
«приблизительно семь» или «около семи».
Приблизительно семь коров назад было то.
Около четырнадцати – какой-нибудь кризис.
Двадцать одна космическая одиссея.
Двадцать восемь – очередная война.
И не надо вызывать психушку. Я пишу из неё.
И вообще это жуткая шутка.
Как будто тебе три годика.
Мама купает тебя в корыте.
И вдруг из мыльной пены
всплывает надувной утёнок,
покривившийся и чёрный,
словно обугленный.
Его сдувшийся гипертрофированный лик
искажён безумной улыбкой.
Ребёнок плачет от испуга.
А Вася, как начал хохотать,
так до сих пор не остановится.
А что ещё ему остаётся делать?
И не надо вызывать психушку. Я пишу из неё.
Царь
Царь природы, предположим
Петя, выполнил проект.
У него на царской роже
был написан интеллект.
Он гордился своим ликом
и смотрелся в зеркала.
На окошке повилика
слабоумная жила.
Рядом с ней сидела кошка
(тоже дура та ещё)
и глядела то в окошко,
то в Петра через плечо.
И растение глядело
словно в уличный ларёк
в Петю сквозь витрину тела,
веселясь: «Ну, ты царёк!»
Можешь пулькой, страхом, ядом
нам устроить рагнарёк.
Всё равно ведь кто-то рядом
хохотнёт: «Ну, ты царёк!»
Даже где-нибудь в пустыне,
где ни травки ни хорька,
впившись в мякоть спелой дыни,
Петя скушает «царька».
Чторм
Стеклянный воздух обернул в ладонь
глашатай истерической палитры.
Вспорхнула историческая бровь.
О днище тёрлись ласковые литры.
«Вперёд! Вперёд!» – глашатай шелестел
упругим языком Левиафана.
Вдали красиво открывалась рана.
Метафора на парусном листе
подавленным Сикейросом бурлила.
Корабль налетел на Бурлюка.
Свирепая ямбическая сила
утопленников криво уносила
в безбрежную полынь бурундука.
Взметнулась полноценная хоругвь
по клавишам кубических нейронов.
На палубу из трюма вышла Руфь.
Крепилась на челе её корона
при помощи вторичных птичьих стай.
За ней, шатаясь, показался Павел.
По телу его рыскал горностай.
В очах огарок страсти быстро таял.
Таласса неуёмная в паркет
неторопливо кристаллизовалась.
Окончен балл. Смолк свет. Закрыт буфет.
За горизонтом утонул Пхукет.
Из ванной Саломея показалась.
Пол затрещал. Она пустилась в пляс.
Жюри воззрилось, поднимая члены.
Из-под шасси взметнулись розы клякс.
Исчезла гравитация арены.
Софиты замигали в унисон.
Распяли оркестранты дирижёра.
По сцене плавно плыл картонный сом,
надменно хмуря орденские шоры.
Монах под вентилятором лежал
альтернативой кряжистого пекла.
Использовали фрейлины пажа
неопытного в качестве пыжа.
На ветках звёзды хохотали бегло.
Шумерtime
Во мгле мозгов, то бишь веков, когда-то,
когда в Эдеме вырос мощный пень,
тебе бесплатно выдали лопату,
окапываться чтобы каждый день.
А звездочёрт, в мешке метавселенной
копаясь, твою выловил звезду.
Прочёл твой личный номер, ключик генный,
пыль с аверса пластмассового сдув.
Рей Дорсет «Summertime» проблеял томно
из оперы, кажись, «Пурга и Бес».
Глазных пунцовых яблок мегатонны
на веточках таращатся с небес.
Тебя, дружок, с младых когтей учили
петь хором ввысь «God Save the Pinochet»,
«Нет перца на Земле, прекрасней чили»
и марш «Четыре сбоку – ваших нет».
Поют пичуги. Пьют кларет пьянчуги.
О стену бьются Цвейг и Воннегут.
Овечку в новой спонсорской кольчуге
на бойню справедливую ведут.
Приманку жрут, дрожа от страха смерти,
карасики в искусственном пруду.
И если миром управляют черти,
возможно, хайли лайкли, ты в аду.
Экспозиция
Блестит высотная халупа.
Плывёт кораблик по реке.
И суетиться как-то глупо
пока есть пиво в рюкзаке.
Какой-то памятник кому-то
в помёте птичьем весь такой
изображает гипертута
с простёртой над рекой рукой.
Плывут кораблики и трупы
к морям далёким по реке.
И суетиться как-то глупо
пока есть пиво в рюкзаке.
Ноябрь увечит летний садик.
Подгнил дизайнерский забор.
Сзади пыхтящий медный всадник
погнал тебя во весь опор.
Морозы истребили розы.
В мозгу пургу вращает бес.
И суетиться, братец, поздно.
Пиво закончилось. Пипец.
Беги! Беги, пока есть время,
пространство. В даль педаль топи,
пока не поравнялось стремя,
из печени не стёрлось пи…
Во дни весёлые когда-то
детишки в парке над рекой
слушали сказки про солдата.
А он весёлый был такой,
хотя, без ног, и рук малёхо
на изувеченных плечах.
А звали его, вроде, Лёха.
Огонь пылал в его очах.
И пиво снова появилось.
И звёзды песни стали петь.
Подайте грошик, ваша милость,
с медной руки стряхните медь.
Только не надо звать жандармов.
Я выпью, сэрпэргерр, за вас.
Для искупленья личной кармы
дай, сцукко, тугрик на пивас
ради существ, озябших в мире
(включая птиц и марсиан),
чтоб золотистый тёк делирий
в непостижимый океан,
в глухую летаргию недр.
Не жмись, кифозный аксакал!
Но медный Голем денег не дал.
Моргнул и в офис ускакал.
Евгений сел в пустой автобус.
Согреться где ещё бомжу?
Уснул с концами. Вышел в пропасть.
Прощайте Цезарь, маршал Жу,
Иеремия, Пэдро Гранде,
тяжелозвонкий ФРС,
внутриутробные куранты.
Пардон за всё. Качайте пресс,
права и углеводороды.
Лелейте подпись и печать.
Но главное: дайте народу
пивной животик отращать.
Иначе гнев расплавит глину,
гранит, железо, мрамор, медь.
И с неба могут исполины
каку на череп поиметь.
Абзац, начальник, как ни квакай,
какие песенки не пой.
Лорд-падишах увенчан какой
перед хохочущей толпой.
А божья тварь ползёт под лупой.
Несёт весь мир в пустой руке.
И суетиться как-то глупо,
пока есть пиво в рюкзаке
Энергайзер
Молния ударила в дом.
Я теперь хожу с трудом.
Но во мне остался заряд.
Пальцы искрят. Глаза горят.
Всё взрывается рядом со мной.
Я не могу умерить прыть.
Воздух светится над головой.
Может мне антибиотики попить?
Отойди подальше, дружок,
чтоб я тебя не сжёг.
Наташка сказала: «Дебил,
ты меня чуть не убил!»
Всё взрывается рядом со мной.
Я не могу умерить прыть.
Воздух светится над головой.
Может мне антибиотики попить?
Эпифеномен
Раз в Нескучном саду
люди ели еду
и царапали вилкой тарелку.
А один гражданин,
не имеющий ИНН
равнодушно глядел в Москву-реку.
Знал он, что Земной шар
и весь этот кошмар
ему напросто-просто приснился,
что не надо ему
заявлять никому
об отсутствии смысла и СНИЛСа.
Он стоял у воды,
а воде до балды
дата выдачи, серия, номер.
Брызги бьющихся волн
сыпались сквозь него,
игнорируя эпифеномен.
Так и мы иногда,
когда рядом вода,
искупаться порой забываем.
А потом от реки
бежим, как дураки,
за захлопнувшим двери трамваем.
Мы бежим и дрожим.
А по-сути лежим
за пределами сна в самом деле.
Мимо речка течёт.
Чайки чертят отчёт
о проделанной нами неделе.
Раз в Нескучном саду
люди ели еду,
жвалами шевеля в ритме вальса.
А один индивид
разночинец на вид
неожиданно с места сорвался.
Он ко всем подбегал,
едоков он пугал,
отрывал поваров от жаровен,
пытал ртом головы:
«Извините, кто вы,
человек или эпифеномен?»
Был за то индивид
едоками побит
и жандармом посажен в кутузку.
А девица одна
племенная княжна
пролила себе кетчуп на блузку.
Кетчуп, красный как кровь,
вызвал в сердце любовь.
Так бывало в романах и прежде.
И княжна чумово
вдруг пошла за него
в подвенечной красивой одежде.
И они с той поры
с Воробьёвой горы
на Москва-реку часто глядели,
плечом грея плечо,
не давая отчёт
о проделанной ими неделе.
Эскиз Ге
Помпезно в одинаре
меж тучек – одеял
хтонический динарий
в зените зазиял.
В Помеях и Бомбеях
закопошилась вошь.
Один кричал: «Убей их!»
Другой вопил: «Хорош!»
Повисли у причала
алЫе паруса.
Гитарушка бренчала.
Хорал застрял в усах.
На палубе матросы
грустили о былом.
Плели девицы косы,
тяжёлые, как лом.
Всё это продолжалось,
пока писал я стих,
потом исчезло, сжалось.
Безумья ветер стих.
Глафира и Порфирий
прошли мимо окна
за пармезанреджаном
в ближайшее сельпо.
Эффект отсутствия
Днесь логика покинула его.
Не взвидел связи он причин и следствий.
Всё стало как-бы в самом раннем детстве:
знакомо, но не ясно ничего.
Открылся лифт. В подъезде чинят свет.
Промчался Иннокентий за кефиром.
Но что-то недосказанное миром
скрывается под суетой сует
и ловлей ветра – стержнях бытия.
Вон Вагин прогревает гелендваген.
И всё это, как будто на бумаге
рисунок, выходящий за края.
А что за краем дальше, не поймёшь,
но краем уха третьего услышишь,
что это дождь пальпирует по крыше,
мистический шутейный ультрадождь.
Euophrys omnisuperstes
В галактиках Скульптор и Веретено,
Вертушка и Головастик
всем формам жизни запрещено
ношение звёзд и свастик.
Религии нет и политики нет.
Адептов ренонс и фанатов.
Не взять у народа копейку в бюджет
Восточного блока и НАТО.
Пьют Пангалактическое вино
вертушки и головастики,
комедии смотрят (к примеру, кино
«Глобальный диктат ономастики»).
Там собственных нет у субъектов имён,
объектам Ф. И. О. не присущи.
Поэтому зреют у этих племён
в извилинах райские кущи.
Решительно стёрли с лица ярлыки
вертушки и головастики,
раскинув мозгами: «Мы, что, дураки?!»,
включив церебральные ластики.
Лететь нам до них, шкандыбать и ползти
семьсот миллионов парсеков.
Землянин, пойми меня и прости!
Пройдём просто купим просекко.
Посмотрим, как юркие «против» и «за»
перляжничают в бутылке.
И будут открытами наши глаза
седьмой и восьмой на затылке.
Kontra
Вчера я вышел на балкон, да
и покурил в пейзаж осенний.
Гляжу, смолит Пэл Мэл Джоконда
через мундштук в окне соседнем.
Краснеет огонёк Пэл Мэла.
Я говорю: «Однако ж, бросьте
курить одна. Идите смело
сюда, сеньора. Велком в гости!»
И, словно кошка, по карнизу
ступая медленно и плавно,
ко мне явилась Мона Лиза.
А я в исподнем. Вроде фавна.
Мы наслаждались пасторалью
двора. Смотрели на коренья.
Потом в участок нас забрали
за незаконное курение.
Когда мы вышли из участка,
решили сразу пожениться.
Теперь курить мы станем часто,
как Жанна Дарк и Солженицин.
Пускай боятся нас тираны,
латифундисты и сатрапы.
Мы всем покажем наши раны,
спускаясь в город Страсбург с трапа.
Там быстро, не пройдут и сутки,
нас оправдает суд Гаагский.
А мы закурим самокрутки,
с экранов массам строя глазки.
Мы отожмём у Греты Тунберг
паблисити и краудфайдинг.
Мы снимемся в рекламе Туборг.
Нас обернут в красивый фантик.
Мечты окурок на газоне.
Жандармов нет. Не едет пресса.
Теперь маячить на балконе
нет никакого интереса.
Open worm
Давно в его груди застрял холодный Трайдент.
Стих внутренний Рэй Дорсет.
Послышался Ламарк.
Теперь в Babilim он верховный копирайтер.
На iобразном торсе
застёгнут доломан.
Кутасы. На опаш надет фигурный ментик
от Гусси. И перо
от Macintosh в руке.
А он в душе ещё всё тот же самый пентюх,
индивидуй зеро,
оживший манекен.
Вот там Буонапарт. А здесь аншеф Кутузов.
А между ними кровь
течёт Березиной.
И невдомёк ему, зачем зимой в рейтузах
идти, подъявши бровь
и саблю в мир иной.
Бежит направо текст для чёртова буклета
состряпанного для
АО Бородино.
И снова вянет лист. Опять проходит лето.
Вращается Земля.
Кончается вино.
Но,
в тексте жизнь кипит, ползёт, звенит и пляшет.
И сладу с нею нет.
Она, как мантихор
заходит со спины. Он уязвим, как бяша.
Такой у них дуэт,
тенора с басом хор.
Соната
1
В лесах сибирских есть курган.
Его обходит дикий зверь.
И мимо снег метёт пурга.
И свет улыбки пьяный Лель
под грустью прячет рядом с ним.
От неба низкого бурьян
скрывает в путаной тени
доисторический курган.
Землёй засыпан старый сруб,
окаменевший за века.
А в срубе – гроб. А в гробе – труп.
Нетленны мощи старика.
Как долго длится мёртвый сон?
За гранью жизни говорит
с какими призраками он?
Где сновидений лабиринт
от путешественника брешь
в полупрозрачной корке льда
неразмыкающихся вежд
завуалировал? Слюда
стен бесконечности ведёт
сновидца к выходу, туда —
в game over, в лабиринт забот,
труда, восторга и стыда.
___
Бьёт из подножия родник
кургана. Весело ручей
звенит. Светлеет сердолик
на дне от солнечных лучей.
В мир, отражая кудри туч,
бежит холодная вода.
Из тьмы выдавливает ключ
рудиментарная руда.
И оттиск русла на земле
узорный – криптописьмена
для той, что спит на помеле
сквозь времена и племена,
письмо читая в забытьи
и перечитывая вновь.
Оно даёт ей смысл быть и
перерабатывать любовь
в плоть, звуки, запахи, цвета.
Любой символику поймёт
пятиконечного креста —
приманки, принятой взаглот.
Любой, который не распят,
не существует в поле сна.
А остальные просто спят
и снятся. Осень и весна,
зима и лето, помела
направив по ветру, в аркан,
в петлю без стыка, без узла,
в мираж оправили курган.
___
Нетленны мощи. Борода
покрыла мумию до пят.
Пустое небо города
светодиодами слепят,
апгрейд прошедших, павших звёзд.
Неотличим от эльфа орк.
Гордится цепью гладкий пёс —
реструктурированный волк.
Шакал в девичестве, как Лев
Кренофилакс изображён
на барельефе. Барельеф
академический пижон
слепил на западной стене
острога, встроенного в Храм
Чудес в неведомой стране,
открывшей миру сладкий срам.
На крыше Храма тьма сорок.
В подвалах – пыточный завод.
Внутри братва мотает срок.
Снаружи топчется народ
с кульками тощих передач.
Табак, носки и чёрный чай
усами нюхает палач
и вставшим цепью палачам
передаёт. Из рук одних
в другие движется товар.
От всех и вся, от малых сих
он предлагается, как дар,
как дань оскаленному льву
на барельефе. Под стеной
лежат кульки, примяв траву,
перед отправкой в мир иной.
___
Не почернело серебро
литого гроба в почве. Там,
откуда вынуто ребро,
вытатуированный шрам.
Запавших омертвелых щёк
на дне застыла коркой соль.
То хаотически зрачок
под веком движется, то вдоль
глазницы высохшей границ
в реальность тщетно ищет щель.
Окостеневшие зениц
затворы дремлющий Кащей
не может сдвинуть. Стонет он.
И по Земле проходит дрожь.
Колеблет горы слабый стон.
Дворцы качаются вельмож.
Трясутся хижины рабов.
Цунами слизывает сор
цивилизации. Суров
и страшен спящий Святогор.
Острог от стона задрожал.
От дрожи треснул барельеф.
Дрожит оскаленный шакал,
переосмысленный как лев.
Глубокий творческий экстаз
лелея, трещину затёр
шпатлёвкой ушлый богомаз.
Непревзойдённейший актёр,
он галерею странных поз
продемонстрировал, зевак,
баранов, кур, овец и коз
гипнотизируя. За так
народ, собравшийся вокруг,
мог насладиться зрелищем.
Заворожила ловкость рук
версификатора вообще
всю любопытную толпу.
Взлетали чепчики над ней
и даже лифчики (табу).
И одинокий воробей
пытался выбраться из их
густого облака. Но он
бельём восторженных купчих
был многократно поражён.
Здесь ясно видится мораль:
Пока мечтаете вы о
полёте, порвана вуаль
мечты системой ПВО.
И надо, гордость сжав в горсти
атавистической крыла,
в оцепенение вползти
вершины внутренней угла.
___
На серебро нанесена
иератическая смесь
чеканных формул. Письмена
с изображениями здесь
перемежаются существ
мифологических. С лица
Земли давно уже исчез
народ, способный до конца
с начала символы прочесть
и смыслы все объединить
в одну неслыханную весть.
Одна невидимая нить
ведёт по руслу родника
в гидрографический клубок.
Одна бесплотная рука
рисует радужный лубок
на фоне угольных ночей.
И в рамках этого лубка,
и в ненасытности очей —
Приап над холмиком лобка.
Покрыт волосьями лобок.
В них красный роется Приап.
Порхает в небе голубок.
Гипертрофированных лап
когтями цепко держит дичь
посланник Ноя на лету —
оливковую Глюмдальклич.
В иллюминатор Воркуту
она рассматривает. Ей
несёт стюард укропный сок.
И аниматор-брадобрей
ровняет девственный висок
по новой моде загранич-
ной. Бритва ходит вверх и вниз.
О, неземная Глюмдальклич,
воздушной ямы берегись!
Рука цирюльника тверда.
Но если в яму голубок
нырнёт, тогда тебе беда.
Вопьётся бритва в нежный бок
младого черепа, и ты
осатанеешь. Навсегда
архитектура красоты
твоей исчезнет без следа.
Работа с фабулой лубка
на этом не завершена.
Но закрывают облака
и дождевая пелена
миграционные пути
пернатых странников от нас.
Моргнёшь, а вместо птиц летит
боеприпас не в бровь, а в глаз.
1а
В столице мира жил Панкрат.
Здесь он родился. Здесь он рос.
Здесь как-то раз Панкрату брат
послал в сусало абрикос.
С размаху кинув спелый плод,
смеялся нагло брат, как гад.
Воскликнул яростно: «Урод!»,
и брату сбил прицел Панкрат.
Сместился вражеский прицел.
Кровь пролилась на абрикос.
Братишку все на улице
отныне звали «Кривонос».
А с погоняловом таким
одна дорога – прямо в бокс.
Был нежен брат, как херувим.
Стал херувим нелеп, как мопс,
однако добр, хотя в бою
без объяснений долгих мог
он лицевую часть твою
снять с отрывающихся ног.
Планиду рефлекторно так
поправил родственнику шпент.
На двадцать пятом злой кулак
есть каждом кадре. Хэппи энд
Панкрат неясно различал
в далёком будущем. Но сквозь
мечты магический кристалл
кулак торчал из «end», как гвоздь.
___
Инструментарий бытия
в течение немногих лет
и зим освоили братья.
Один – дурак. Другой – аскет.
Биологический отец
гордился тем, что покорил
удачу смешанный боец
любимый сын его Кирилл.
Невиданный тяжеловес
героем юношества стал.
По праву сильного залез
на олимпийский пьедестал
достойный сын. И мощный торс
воображение трибун
завоевал, как в прошлом Щорс
кого-нибудь, как в прошлом гунн
кого-нибудь завоевал.
И комментатор с алтаря
ж.к. приветствовал: «Виват!»,
победного богатыря.
Учтив Кирилл и вместе с тем
природной слабости лишён.
Всех направлений, школ, систем
и стилей знал нюансы он.
Порхать, как бабочка, умел.
Внезапно жалил, как пчела.
Рвал оппонента, как орел.
Распространялся, как чума.
Не раз ему рукоплескал,
скандировал неистово
речёвки восхищённый зал.
Физиономию его
и ф. и. о. знали даже те,
кто в боевых искусствах не
сечёт, к суровой красоте
не адаптирован вполне
единоборств. Дал интервью
каналу первому кумир
народа. Втиснул жизнь свою
в прайм-тайм победоносный Кир.
___
Бессонной ночью длится век.
Звенит в извилинах ручей.
К замочных скважин человек
зазорам тысячи ключей
усовершенствует подбор.
Рука немеет в рукаве,
и нарушается пробор
на пучеглазой голове.
У человека есть пальто.
К пальто прилип прозрачный скотч.
Двереоткрытию никто
не может, в сущности, помочь,
поскольку все давно уж спят,
чтоб на работу завтра встать
и получить за то оклад.
В окладе заспанная мать
стоит дверном. За нею свет.
А перед ней хмельной Панкрат.
Он хочет спать и в туалет.
Свет гаснет. Занавес. Распад.
___
Возглавил рейтинги Кирилл.
Непрекращающийся бой
с судьбой выигрывая, бил
туда размашистой рукой,
где у противника дыра
в защите. Бил в дыру любой
из ног, растущих от бедра.
Панкрат же уходил в запой.
Алкоголический спирит
Панкрат, брожения процесс
осуществляя, в лабиринт
непонимания залез
добра различия и зла.
Жить окружающим мешал.
Он стойким запахом козла
всех на дистанции держал.
Фальшивя, спутывая ритм,
частушки пел Панкрат во тьму,
и простота глагольных рифм
ужасно нравилась ему.
Из темноты летел в ответ
неспелый овощ или так-
ой с детства памятный привет —
вышеозначенный кулак
в рылообразие чела.
Покрыл бухарика позор,
и печень увеличилась,
и сократился кругозор.
Посредством гадкого «ерша»
поползновения в дурман
осуществляли кореша.
К нему прилипла кличка Пан.
Он расширял сознание,
пытаясь нейтрализовать
конфликты внутренние. Ел
«колёса». Фармоблагодать
открыла двери галерей
мутноблистающих картин
тоски зелёной. А над ней
(тоской) манила «героин
& винт» рекламная консоль.
Шагнул в шагреневый туман
консоли, совесть и контроль
теряющий, пропащий Пан.
1б
Качался атмосферный столб
фонарный. Нагнетал орган
циклона гул тревожных стоп.
Рёв оратории пурга
сводила в свист. Тоскливый вой
клавиатуру черепиц
срывал. И кубарем, гурьбой
бросались стаи снежных птиц
с обрывов гор воздушных вниз.
И крыльев треск, цеплявших наст,
то превращался в смех, то в визг,
то уплотнялся в мощный бас.
Стоял незыблемый забор
кладбищенский. Ряды могил
от суеты, гордыни, ссор
страж молчаливый отделил.
А под забором возлежал
укурен в дым, уколот, пьян,
живой мертвец в снегу. Дрожа,
в горячке белой бредил Пан.
Из недр, окрашенных в сурьму,
вытягивался каучук
по направлению к нему.
Десятки змеевидных рук
пытались за душу схватить
Панкрата. Силился бежать
он, но глаза не мог открыть.
Скакала мячиком душа,
рук уворачиваясь от
непревзойдённого ловца,
как представляющая скот
рогатый, ловкая овца
в соревновании за жизнь
с командой радостных волков.
Располагались гаражи
у кладбища. Стихии рёв
перекрывая, на большак
из гаражей вырвался свет
асимметричных фар. Глушак
тащил прогнивший драндулет,
разметку выхлопом чертя
в снегу. Свернувшегося, как
эмбриональное дитя,
Панкрата высмотрел моряк,
чёрт сухопутный. Смесью пах
бензина с маслом рулевой.
Пугал несметных снежных птах
спецухи ветошный покрой,
когда сердитый человек
волок остывшего глупца
к машине, словно рыбу хек,
навагу или же тунца
из морозильного ларца.
Спаситель ближнего отвёз
в травмпункт. До самого конца
истёрлись лысины колёс.
Был очень сильно удивлён
врач травматолог. «Не туда
вы привезли больного», – он
сказал спасителю. «Беда
ему смертельная грозит
от переохлаждения.
Мне непонятен ваш визит.
Лечить отказываюсь я
обморожение. Звоню
сейчас же в «скорую». Она
доставит вас до авеню,
больница есть которой на».
___
Палата. Койка. В койке Пан,
что удивительно – живой.
Таблетки. Тумбочка. Стакан.
Обход. Стена над головой.
В палату в белом входит врач,
обворожительная вся.
Нельзя схватить её, хоть плачь,
и утащить никак нельзя
под одеяльное тепло
любови чистой только для.
Разрешено смотреть, как Блок
на незнакомку издаля,
слюнявчик смачивая. Но
не отзывается в груди
на то, что всем разрешено
сердечный мускул. Верь и жди
пока всех выпишут больных,
и ты в безмолвии палат
отбросив в сторону штаны,
поставишь королеве мат
тогда, как гений красоты
призывно распахнёт халат…
Гипотетической мечты
развил сюжет в себе Панкрат.
Параболическая бровь
комбустиолога впилась
Панкрату в темечко, Любовь
Васильевна больному мазь
когда явилась назначать
грозу бацилл – левомеколь.
Напрасно мученик врача
просил унять другую боль.
Улыбки бабочку в ответ
страдальцу посылал хирург.
Хирургу было тридцать лет.
В «Бойцовой рыбке» Микки Рурк
ей нравился и в «Heavens gate».
Она, сочувствием дыша,
была, как в «Devils advocate»
бедняжка Мэри, хороша.
И так же, как Шарлиз Терон
или Наташкина свекровь,
преумножать тестостерон
в крови мужской могла Любовь
Васильевна. Один вопрос,
одно движение руки
(ноги), и таяли, как воск
призывники, еретики,
оптовики, сибиряки,
духовники и шутники,
фронтовики, Ессентуки,
большого риска босяки.
Строга, скромна была она,
ко всем без исключения
доброжелательна, ровна.
Не раз порой вечернею
смотрел в окошко пациент
на стоящий внимания
её седан. Hyundai Accent
за неказистым зданием
кирпичным морга исчезал.
Собака где-то лаяла.
Скупая мелкая слеза
в густой щетине таяла.
Был у фонарика сосед…
Вперёд не будем забегать.
Вот здесь лежит товаровед,
здесь Пётр Петрович. Здесь кровать
неоднозначного бомжа.
Здесь стулья, стол, окно во двор.
Здесь неудачника «моржа»
кровать. А здесь тореадор
спит отморозок интурист.
Там отморозок пономарь.
Тут отморозок каратист.
Таблетки. Тумбочка. Фонарь.
Был у фонарика сосед
хозяин – дедушка «моржа».
Попал сюда за внуком вслед
он в результате грабежа.
Он пенсию в кармане нёс,
чтобы купить своей вдове
цветы, когда какой-то пёс
нанёс удар по голове
ему и денежки отнял.
Теперь с Панкратом рядом дед
лицо морщинистое мял
сухими пальцами. Сосед
любил рассказывать как жил
в доперестроечном раю.
Фонарик Пану одолжил
он жизни долгой на краю.
Зачем нажрался пономарь
и отморозил уши в пост?
Герою нашему фонарь
зачем? Ответ на это прост,
хотя и так похож на бред.
Когда в больнице в час ночной
едва белел дежурный свет,
под одеяло с головой
забравшись и включив фонарь,
Панкрат компотом рисовал
(как фреску над собою встарь
художник профессионал)
Любви Васильевны лик на
пододеяльника холсте.
Не знали тайну полотна
ни те, кто лечится, ни те
кто лечит тех, кто лечится.
И был к Панкрату обращён
всегда овал её лица,
в постельный вставлен медальон.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































