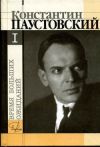Текст книги "Мещерская сторона (сборник)"

Автор книги: Константин Паустовский
Жанр: Сказки, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Чтение «Географического описания» навело Леонтьева на мысль, что пришло время выпустить такое же издание о Советском Союзе – ряд книг, где были бы описаны все области, края, все города, и старые и только что возникшие к жизни, все колхозы, села, новые железные дороги, плотины, электростанции, автострады, заводы, каналы, заповедники, огромные, созданные руками человека озера – каждый уголок страны в его новом качестве, с новой историей, с новыми людьми, с новой, созданной после революции географией русской равнины. Это не исключало бы, конечно, и описания старины, памятников искусства и всей прошлой истории этих мест.
В предисловии к то́му «Среднерусской области» с гордостью перечислялись знаменитые уроженцы этой области: Баратынский, Тютчев, Лермонтов, Никитин*, Фет, Тургенев, Лев Толстой, Лесков, Белинский*, капитан Головнин*, художник Крамской*, актер Щепкин*, генерал Ермолов* и многие другие.
«А мы? – думал Леонтьев. – Плохо мы еще знаем биографии наших людей. Мы могли бы продолжить этот список именами наших ученых, политических деятелей, писателей, инженеров, военных, летчиков, путешественников – уроженцев этой же области».
Леонтьев начал вспоминать: академик Павлов*, Циолковский*, Мичурин, скульптор Голубкина*, писатели Малышкин*, Новиков-Прибой*, Гайдар, Пришвин, Вересаев*, поэты Асеев*, Есенин, художник Архипов*…
Для этой работы нужно создать содружество писателей, художников и ученых. Каждый из писателей изучил бы два-три района страны, а потом их описал.
Это была работа на много лет – захватывающая, новая, значительная. Леонтьев увлекся этой мыслью, но, как человек осторожный, пока что о ней никому не рассказывал. Зимой он разработал план издания, а летом решил проехать в какой-нибудь уголок поглуше, пожить там и посмотреть, как изучение страны будет выглядеть «в натуре».
Леонтьев был страстный охотник и рыболов. Поэтому он выбрал в средней полосе России самый лесистый район, где сохранились еще девственные боры с их озерами и болотами.
Сейчас он ехал туда на пароходе, и чем дальше, тем больше эта поездка казалась ему и необходимой, и заманчивой.
Всегда его тянуло в лесные края. Леса были его страстью, его увлечением. Может быть, потому, что раннее свое детство он провел в Заволжье, в безлесных, пыльных, перегоревших от постоянной засухи землях.
Однажды вечером, сидя на корме парохода вместе с Анфисой и Татой, он вдруг разговорился и рассказал им свою жизнь.
Никогда и никому он так подробно о ней не рассказывал. Даже когда у него попросили автобиографию для энциклопедического словаря, он написал всего несколько строк:
«Происхожу из крестьян бывшей Самарской губернии. С трех лет остался сиротой. Был взят на воспитание крестьянином-бобылем. Приемный мой отец с великим трудом дал мне среднее образование. А затем – с семнадцати лет – я жил самостоятельно, работал дорожным мастером, землемером. Писать начал в двадцать два года. Сначала печатался в приволжских газетах, а потом добрался до Москвы и Ленинграда».
Теперь, на пароходе, если бы Леонтьев не увидел в руках у Анфисы книгу Мельникова-Печерского* «В лесах», он бы ничего, наверно, не рассказал. Книга эта вызвала у него воспоминания, и незаметно для себя он разговорился.
– Вы знаете, о каких лесах идет у Мельникова разговор? – спросил он Анфису. – О Керженских. В старые времена пояс дремучих лесов охватывал с севера русские степи. Теперь от него остались только острова – Черниговские леса, Брянские, Мещерские, Муромские, Керженские. В Керженских лесах народ был крепкий, строгий. Мой отчим был родом оттуда.
– А отец? – спросила Анфиса.
– Ни отца, ни матери я не помню. С трех лет остался сиротой. Жили в деревне Песчаное бывшей Самарской губернии. Взял меня к себе в избу один отставной солдат, георгиевский кавалер, бирюк и бобыль. Человек был хмурый, всем недовольный. Только и делал, что ругал мужиков за невежество. Бедняк был немыслимый. Но с воображением. Уважал науку. Говорил, что ученый человек, как дубовый клин, расколет самое вязкое полено.
– Как же он дал вам образование? – удивилась Тата.
– По крохам. Буквально вымолил. Обивал пороги. Даже в ногах валялся у попечителя учебного округа. С гордостью своей не посчитался. А старик был занозистый, прекословить себе не давал. Есть такие мужички: уж если что вобьет в голову, то ничем не выколотишь. Семью пустит по миру, последнюю коровенку продаст, в лаптях будет зиму ходить, всем осточертеет, всех изругает, шелуху от проса будет жевать, а со своего пути не сойдет. Древнее русское упорство. Мой отчим был с Керженца. Потому и прозвище у него было на деревне Кержак. Детство, в общем, было у меня невеселое. Засухи, голод, черные бури. Кончилось тем, что вся деревня снялась и ушла на запад, за Волгу, а там разбрелись кто куда. Мы с отчимом попали в Пензу. Там он сапожничал.
– Он умер? – спросила Анфиса.
– Давно. Но первые свои рассказы я напечатал еще при нем. Он их вырезал из газет и клеил на стенку – очень гордился. Надо было съездить к нему на могилу, да вот все некогда… Да, – повторил, помолчав, Леонтьев, – невеселое было детство. Когда я появился на свет, леса в Заволжье уже давно были сведены. Остались кругом только одни сухие равнины. И гуляли по тем равнинам горячие ветры. С тех пор я ветер не люблю; прямо заболеваю, когда начинается ветер. Засухи были жестокие. Суховеи. Хлеба́ сохли на корню. Пух от репейника летал, бывало, целыми облаками, набивался в рот, в нос, прилипал к лицу. Оводы гудели над каждой лошаденкой и коровой тучами. Черт знает что! Даже куры сидели на земле, разинув клювы, и тяжело дышали. А вода из нашей речонки все уходила. Оставался один грязный ручеек, да и тот затаптывали ногами и копытами. И весь день висело в небе солнце – красное, страшное. Мужики как поглядят на него, сейчас же ругаются. Но хуже всего было по вечерам. Каждый вечер в полях поднимались тучи, но никогда не доходили до нашей деревни. Останавливались на горизонте, полыхали зарницами, а к утру от этих туч не оставалось и следа. Иногда только от них налетал ветер, и, помню, шумели хлеба – сухо, мертво, как жестяные.
Да… Однажды, в такую вот засуху, забрел к нам в деревню бродячий монах. Ходил он с железной кружкой, собирал на построение сгоревшего где-то в Тамбовской губернии храма. Худой был монах, носастый, и глаза такие, что прожигали насквозь. Мужики и то от его взгляда отворачивались. «Не гляди! – говорили. – И так дыхать нечем». Помню, как монах все кричал: «Бога забыли! За грехи ваши Господь постановил испепелить эту землю на пять аршин* в глубину. Покайтесь! А не то задымятся хлеба – и все погибнет. Спасутся, – кричал, – только птицы небесные, улетят в те губернии, где дождик моросит, землю мочит!»
Сначала мужички наши уперлись. «Чего нам каяться! – говорят. – Грехи наши обыкновенные, всеобщие. Мы хуже других, скажем парамоновских (а Парамоново от нас в шести верстах), не грешили». А монах все кричит: мол, надо отслужить молебствие о ниспослании дождя и опахать на бабах и ребятах вместо коней все село.
– Прямо Средние века! – возмутилась Тата.
– Да, – ответил Леонтьев. – Мужички наши подумали и согласились: терять-то все равно нечего. Ночью опахали село. Запрягли в соху баб и нас, нескольких ребят. Меня отчим тоже заставил. Мы волочим соху, а монах идет рядом и покрикивает: «Помолимся, православные! Во избавление!» А сзади валит толпа. Пыль, пот, ночь мутная. И опять, как всегда, поднялась над полями туча. Передернуло ее бегучим огнем, и даже гром проворчал где-то за самым краем земли. Ну, бабы, конечно, на колени, бьют поклоны, крестятся. А зарницы все реже и реже. Потом взошел за этой тучей месяц, и видим мы: туча совсем прозрачная, месяц через нее просвечивает, как через сито. Тут Кержак плюнул и закричал, что никакая это не туча, а просто сбило пыль под небом, и нет там ни капли дождя.
Бросили соху, пошли в деревню, а наутро пришел из Парамонова поп с псаломщиком служить молебен о ниспослании дождя. Вышел весь народ с хоругвями* на бугор среди полей, – с того бугра в ясную погоду был виден правый берег Волги. Поп пригладил руками волосы и завел: «Миром Господу помолимся…» Кадит, искры из кадила сыплются в сухую траву, а она тлеет. Мужики и бабы приминают ее руками, с колен не встают.
Потом поп окропил крест-накрест поля святой водой. Бабы плачут, прижимают к себе ребят, просят: «Защити, батюшка! Не дай малым помереть голодной смертью!» Я тоже стою на коленках, крещусь. Вдруг слышу: хоругви захлопали, зазвенели. Смотрю: поп простер руки с крестом к востоку, а оттуда несется черная туча. Несется прямо по земле и вся дымится. Поп говорит: «Вот, православные! Услышал Господь моления наши. Подходите ко кресту, сестры и братия». Все стоят на коленях, как окаменели, и никто к кресту не подходит. Только Кержак встал с колен и говорит попу: «Ну и намолил ты нам, батюшка, дьявола! Спасибо!»
– А что же это было? – испуганно спросила Тата.
– Погодите. Я смотрю: десятки смерчей летят перед тучей – и прямо на нас. Солнце сразу померкло, и налетел на поля пыльный ураган. Черная буря. Хоругви все расшвыряло, в двух шагах от пыли ничего не видно – и ни единой капли дождя. Только песок бьет в глаза, и жара такая, будто открыли рядом огромную печь. Все упали лицом на землю. Дышать нечем. А как только первый вихрь прошел, кто-то вскочил, кричит: «Где монах? Народ замутил, накликал беду, косматый!» Кинулись искать монаха, да где там найдешь в такой пыли и урагане! Потом рассказывали, что видел его кто-то, как он, подобрав рясу, мчался от деревни к Волге. И кружкой брякал, как коренник* бубенцом.
Тата засмеялась.
– Да!.. – вздохнул Леонтьев. – Все поля занесло песком, хлеба погорели, листва на деревьях пожухла и свернулась в трубочки. Мужики подумали – да и снялись с насиженных мест. И ушла наша деревня на правый берег Волги – искать счастья. Проклятые были места! Теперь там уж не то. Теперь наши места не узнаешь. Рассадили колхозники леса для защиты полей, повсюду пруды, свежесть…
Леонтьев замолчал и начал раскуривать трубку. Девушки тоже молчали и смотрели, как тонут во мраке тусклые перевальные огни на берегах.
«Не боги горшки обжигают!»
Пароход сел на мель вблизи того городка, куда ехал Леонтьев. Эта задержка совершенно не огорчила Леонтьева, Анфису, Тату и еще одного пассажира – молодого лесничего. Все же остальные пассажиры волновались и брюзжали.
Лесничий ехал туда же, куда и Леонтьев. У лесничего были льняные волосы, белесые ресницы, серые глаза, и ходил он в светлом, стального цвета, костюме.
Больше всех был недоволен задержкой инженер с громовым голосом, в черепаховых очках. В числе многих других инженеров он работал над проектом Большой Волги. Затягиваясь табаком и удушливо кашляя, он рассказывал о плотине через Волгу длиной в десять километров, о гигантском искусственном озере и гидростанции, и временами слушателям не верилось, что Большая Волга – реальность.
«Работа исполинов!» – думал Леонтьев.
Все пассажиры сошлись в салоне за утренним чаем. Раньше всех заняла столик суетливая старушка. Она везла в Горький[4]4
Го́рький – название г. Нижнего Новгорода в 1932–1990 гг.
[Закрыть] к своей дочери внука – толстощекого мальчика с сонным лицом.
– Можете себе представить, – трещала старушка, – сколько у меня переживаний с этим пароходом! Я же везу ребенка. На всех пристанях я ему вынуждена покупать молоко от неизвестных коров. Если бы Соня знала, она сошла бы с ума. А эта мель меня прямо зарезала. Если мы опоздаем, то можете себе представить, что будет с Соней.
– Чего вы так волнуетесь? – заметил инженер. – Добро бы по делу ехали.
– Ну, знаете! – воскликнула старушка, и глаза ее загорелись боевым огнем. Видно, она только и ждала, чтобы вступить с кем-нибудь в перепалку. – Каждый думает, что его дело – самое важное. Ваша Волга тоже не остановится, если вы опоздаете на какой-нибудь день.
Инженер пожал плечами:
– Я совсем не собираюсь останавливать Волгу.
На палубе загудел гудок. Снизу, из-за переката, ему ответил другой, ленивый и низкий.
– Буксир! – крикнула Тата, вскочила и помчалась на палубу.
За ней поспешили остальные пассажиры. Всем было интересно посмотреть, как пароход будут стаскивать с мели.

Только старушка не могла уйти, потому что сонный мальчик, надув щеки, со свистом высасывал из стакана молоко от неизвестной коровы. Старушка смотрела на внука колючими глазами. Но мальчик не обращал на нее внимания и после каждого глотка долго, с наслаждением отдувался.
Когда пароход сняли с мели, оказалось, что у него поломаны плицы* на колесах и погнут какой-то вал. В ближайшем городке пароход поставили на ремонт. Пассажирам объявили, что ремонт займет больше суток, и потому желающие могут пересесть на «Рылеева», который идет следом.
Почти все пассажиры перешли на «Рылеева». Леонтьев и лесничий попрощались с девушками и сошли совсем: оба они ехали только до этого городка. На пароходе остались Анфиса и Тата да еще две женщины – инженеры с текстильной фабрики.
Из затона Анфиса и Тата пошли побродить по городку. Он понравился им чистотой, садами, мощеными спусками, гостиным двором, где в прохладных лабазах висели хомуты и от них крепко пахло кожей.
Зашли в городской сад. Там целыми полями цвели анютины глазки. Обнаружили дощатый павильон, где продавали малиновое мороженое.
Когда доедали третью порцию, в павильон вошел Леонтьев. Девушки ему очень обрадовались. Леонтьев подсел к столику и заказал себе сразу пять порций: день был жаркий.
– Этот лесничий, – сказал наконец Леонтьев, заканчивая третью порцию, – совершенно замечательный человек! Предложил мне пожить у него в лесу. Отсюда тридцать километров. Через час туда пойдет грузовик. Я на него уже и вещи свои положил. Хотите поехать? Куда интереснее, чем сидеть здесь целые сутки.
– Ну как? – спросила Анфиса Тату и посмотрела на нее умоляющими глазами.
– Что – как? – ответила Тата. – Конечно, поедем. Но только если нас завтра утром подбросят обратно.
– Подбросят, – пообещал Леонтьев. – Там лес, говорят, заповедный.
– Я толком и не видела настоящего леса… – грустно призналась Анфиса. – Наша область безлесная.
– А вы откуда?
– Я из-под Курска.
Вскоре действительно подошел грузовик. Из кабины выскочил лесничий. Он был теперь уже в гимнастерке и сапогах. Сейчас только девушки узнали, что фамилия лесничего Баулин. Он, видимо, обрадовался, что Анфиса и Тата поедут в лесничество, но только забеспокоился, где их уложить на ночь.
– Да у Марии Трофимовны! – подсказал пожилой шофер. – Она в отпуск уехала. Комната ее пустая.
Машина, пыля, пронеслась через городок, потом покатила по окраинным уличкам, заросшим муравой и мелкой ромашкой.
Гуси, гогоча и переваливаясь, поспешно отходили к заборам. Конопатые босые мальчишки изо всех сил бежали вслед за машиной, но цепляться боялись. Из дворов выносились собаки и, чихая от пыли, догоняли машину, с наигранной яростью заливаясь лаем.
Анфисе нравилось здесь всё: и гуси, и мальчишки, и собаки, и глупый теленок. Он долго скакал перед машиной и отбрыкивался от нее, пока не догадался свернуть в переулок.
Потом пошли поля, задул горячий ветер, но никакого леса не было.
– Где же ваш лес? – поинтересовалась Анфиса у Баулина.
– А вон он синеет!
Баулин показал в сторону, где по горизонту тянулась темная полоса. Анфиса сразу ее и не заметила.
Въехали в пески. Машина заскрипела от натуги. Из радиатора начал бить пар. Пески делались глубже, поднимались по сторонам сыпучими буграми. Кое-где торчали редкие кусты лозняка.
Среди этих горячих и сухих песков стояла деревня. Только одинокая ракита у околицы давала жидкую тень, а дальше все избы, дворы и широкая улица были залиты таким нестерпимым светом, что больно было смотреть.
В деревне было пусто. Редко-редко высунется из окна женщина или подбежит к плетню и повиснет на нем, разинув от любопытства рот, мальчишка с измазанными ягодой щеками.
Остановились около колодца, чтобы налить воды в радиатор и дать остыть мотору. Высокая старуха доставала из колодца воду. Она вытаскивала не больше трети ведра и бережно переливала воду в другое ведро, стоявшее на земле.
– Что ж так? – спросил шофер. – Вода у вас будто по карточкам.
– Ох, деточка!.. – вздохнула старуха. – Покуль наберешь воды, прямо измаешься! Безводное наше село.
– А где все? На работе?
– Ушли, милый. У нас поля далеко, за песками.
– Что ж вы пески такие развели! – шутливо попрекнул старуху Баулин.
– Ох, деточка!.. – опять запела старуха и заправила под платок седые волосы. – Пески у нас великие! Как солнешный день, так продыху нет. Калятся они от солнца и всё сушат, до самого корня. Вздохнуть нечем, деточка. А как ветер, так лучше не живи на свете. Все запорошит, в избу пыли набьет, песку полон рот – не отплюешься. А главное, заносит поля. Так и ползет, и ползет – хоть переноси деревню на новое место.
– Сами виноваты, – сказал Баулин. – Сосняк рос на песках – вырубили. Начали скот на порушке пасти. Скот всю землю истолок – вот тебе и пошли пески. А теперь жди, покуда их остановят.
– Ты меня не вини, – испуганно сказала старуха, – это дело мужиковское. Кабы наши мужики знали, что стрясется такая беда, неужто хоть бы одну сосенку срубили? Нипочем. И скот бы пасли на другом месте. Это хорошо, что нынче всё разъясняют. А ране кто нам мог разъяснить? До советской власти? Учительша совсем была хворая, а поп барышничал, лошадьми торговал по ярмаркам. И не служил, а прямо ржал – не разбери господи, чего и кричит! Такой уж нам попался.
От жары и пыли хотелось пить. Зашли в избу к старухе попить молока. В избе сидела на лавке девочка лет пяти и, затаив дыхание, во все глаза смотрела на Анфису и Тату.
Анфиса дала девочке конфету в цветастой обертке, но, пока девочка ее рассматривала и озабоченно сопела, из сеней осторожно вошла пестрая курица, не спеша подошла к девочке, выхватила у нее из рук конфету и тут же на полу начала было поспешно ее клевать. Девочка заревела, зажав кулаками глаза.
Конфета была спасена, и девочка успокоилась.
Поехали дальше.
Вскоре начались пески, усаженные рядами сосенок и чернобыла.
– Наша работа, – сказал Баулин. – Закрепляем пески. Они здесь летучие.
Сосенки становились все выше. На песках уже зеленело сосновое мелколесье. Среди сосенок во множестве цвели лиловые колокольчики и бессмертники.
«Да! – думал Леонтьев. – Что может быть лучше, чем так вот скитаться из деревни в деревню, из города в город, среди этих лесов, полей, рек, луговин, огородов, под солнцем, в запахе созревающей ржи… Скитаться и утром, и днем, и по вечерам, когда поют на возах, возвращаясь с покоса, женщины и глаза их кажутся золотистыми от заката… И по ночам, когда выпь перекликается в сырой темноте с низкими огнистыми звездами. И все это такое родное, давно известное и любимое: и гудки пароходов, и лай собак, и мычание коров, и далекий веселый голос гармоники около избы сельсовета… Обо всем этом я и буду писать, – думал Леонтьев. – О нашей земле, ее заботах, богатстве и красоте. О лесах и пастбищах, о тружениках, что живут на этой земле, о простой и значительной жизни народа».
– Го́ловы! – внезапно крикнул Баулин.
Анфиса быстро наклонила голову и услышала, как обмахнула весь кузов густая листва. Листья растрепали ей волосы. Тотчас в лицо повеяло живительным холодком.
– Вот и лес! – сказал Баулин.
– Анфиса! – крикнула Тата. – Смотри, что делается!
Пригоршни солнечных пятен бежали по лицу. Анфиса встала, схватилась за крышу кабины.
Дорога шла вверх среди столетних сосен. Подножия их прятались в кустарнике, а вершины качались среди облаков и ветра. И оттого, что дорога поднималась по увалу и лес становился все выше и выше, Анфисе казалось, что они, точно в сказке, несутся – летят в неизвестную страну.
– Как здо́рово! Ах как здо́рово! – восхищалась Тата.
Анфиса наклонилась к окну кабины и прокричала:
– Хорошо, Сергей Иванович!
Леонтьев улыбнулся и показал глазами на лес. Он делался все гуще. Солнечные лучи падали на цветущий подлесок, на его словно роящуюся листву.
На перевале машина остановилась около деревянной пожарной вышки.
– Перекур! – сказал шофер. – Мотор греется.
Баулин предложил подняться на вышку, чтобы оттуда посмотреть на леса. Он предупредил, что, поднимаясь по сквозным деревянным лестницам, нельзя смотреть вниз, а только на ступеньку перед собой. Вышка была не меньше тридцати метров, выше самой высокой сосны.
Баулин полез первым, за ним – Леонтьев, позади – девушки.
Анфиса поднималась вслед за Татой, и чувство растворения в потоках воздуха, возникшее еще в машине, не оставляло ее и сейчас. Ветерок обдувал платье, ноги, все ее тело, и оно, казалось, теряло вес, дышало свежим теплом.
Вершины сосен покачивались теперь совсем рядом. До их блестящей хвои можно было дотянуться рукой. На одной из вершин суетилась, стараясь спрятаться от человеческих глаз, рыжая белка. На стволе сидел пестрый дятел. Он недовольно посмотрел на Анфису, будто спрашивал, что ей здесь нужно. Потом перебежал по стволу повыше и с размаху ударил клювом по коре. На самом краю тонких веток вертелись синицы.
На верхней площадке вышки их встретил объездчик – веснушчатый, с русой квадратной бородой. На шее у него висел на ремешке бинокль.
К дощатому столу была приколота кнопками карта лесного района. Тут же стояли кувшин с молоком, берестяная кошелка с малиной и на платке лежали коржи из ржаной муки.
– Угощайтесь, – предложил объездчик. – Малина наша, лесная.
– Спасибо, потом, – торопливо ответила Тата. – Сначала посмотрим.
Она подошла к перилам вышки, села на нестроганый пол, обхватила руками колени и замерла. До самого дальнего края земли, то поднимаясь на взгорья, то уходя в низины, где, должно быть, протекали речушки, важно шумел девственный лес.
Анфиса села рядом с Татой. Океан хвои колыхался вокруг. Парили ястребы.
– «И нет конца лесам сосновым…»* – неожиданно сказал Леонтьев. – Не то я выбрал себе занятие. Мне бы объездчиком быть, лесовиком!
Объездчик засмеялся, а Баулин тотчас сказал:
– Ну что ж, пожалуйста! У нас временно есть свободное место.
– На девятом кордоне, – подсказал объездчик. – Заместо Прохора Стерлигова. Он на операцию лег. Только там, на кордоне, глухомань, болота…
– А что ж! – ответил Леонтьев. – Пожалуй, сговоримся!
– Сговоримся, – согласился Баулин.
Анфиса думала о Коле. Через год он окончит Лесной институт и будет работать в таких вот местах. И может быть, она… Анфиса покраснела. Что она? Выйдет за него замуж? Во всяком случае, она будет ему завидовать. Любит ли она его? Она не знала этого. Ей было только грустно, что Коля не сидит сейчас рядом с ней и не видит всей этой красоты. Это была жгучая грусть, отравленная сознанием, что даже если она попадет когда-нибудь с Колей в эти места, то все равно день будет, может быть, и прекрасный, но уже не этот, а совсем другой. А этот день ничем нельзя остановить, вернуть, пережить сначала.
Шофер закричал снизу, что пора ехать. Объездчик заставил девушек взять на дорогу по ржаному коржу. Коржи были пригорелые, но необыкновенно вкусные.
Лесничество стояло на большой поляне на берегу реки. Течения в реке не было, и казалось, что темная ее вода остановилась и чего-то ждет.
Баулин повел Анфису и Тату в комнату к Марии Трофимовне. На самом деле это была вовсе не комната, а отдельный домик в одну комнату. Она была такой чистой, будто ее только что прострогали рубанком. Внутри пахло стружками.
Анфиса и Тата сбегали к колодцу, умылись, поливая друг другу на руки. Тотчас к колодцу подошла строгая курносая девочка с куклой, уложенной в котомку, и долго рассматривала Анфису и Тату. Потом, подумав, спросила:
– У вас мыло «Земляничное»? Или «Детское»?
– «Детское», – ответила Тата.
– Дадите умыться?
– Бери, мойся.
Девочка тотчас положила куклу на бревно, шустро засучила рукава рубашонки и так ловко намылила все лицо, такую развела на нем пышную пену, что вся ее голова заиграла от солнца радужным блеском.
– Вот это девочка! – засмеялась Тата.
А девочка, не смущаясь, с азартом плескала себе в лицо колодезной водой, фыркала и отплевывалась.
– Эй, Манька! – раздался издали сердитый женский голос. – Утрись сейчас же, безобразница! Чего еще выдумала!
– Сейчас, маменька! – пискнула в ответ Манька. С ее счастливого красного и мокрого лица крупными каплями сбегала вода. – Вот спасибо! – поблагодарила она, крепко вытерлась, подобрала куклу и ушла.
– Слушай, Анфиса, – сказала Тата, все еще смеясь, – что кругом за прелесть! Умирать не надо.
В комнате у Марии Трофимовны, где девушки приводили себя в порядок, над столом висел портрет Чайковского, а под ним – фотография крестьянской избы. На скамейке около избы сидела старуха – очень стройная, с красивыми большими глазами, повязанная черным платком.
Анфиса почему-то подумала, что фотография этой старухи висит рядом с Чайковским неспроста.
За обедом у Баулина Анфиса спросила его, кто такая Мария Трофимовна и что означают эти два портрета – Чайковского и красивой старухи, висящие рядом в ее комнате.
– Мария Трофимовна – лаборантка в нашем лесничестве, – ответил Баулин. – А вы, оказывается, проницательная девушка! Сразу догадались, что тут кроется тайна. Да, собственно, тайны-то никакой и нет. Эта старуха – мать Марии Трофимовны, Аграфена Тихоновна Самойлова. Тверская крестьянка. Мария Трофимовна вся в нее: и глаза такие же, да и строгость, как она сама говорит, у нее материнская. Сейчас Аграфена – бригадирша у себя в колхозе, в Калининской области. А ей уже шестьдесят лет, не меньше. Она дочь лесника, да и ее муж, отец Марии Трофимовны, был тоже лесным объездчиком. Так что у Марии Трофимовны пристрастие к лесному делу наследственное. Сейчас Мария Трофимовна как раз там, у матери. Уехала в отпуск.
– А Чайковский при чем? – спросил Леонтьев.
– Это у них в семье вроде предания. Отец Аграфены служил лесником рядом с усадьбой, где Чайковский жил как-то летом. Чайковский часто заходил к отцу Аграфены. Тогда ее еще звали попросту Феней. Феня каждый день приносила Чайковскому кувшин, а то и два земляники. Заметили на фотографии сережки? Это Чайковский подарил Фене. Мария Трофимовна говорит, что в каждой сережке – по небольшому алмазу. Аграфена надевает эти серьги только по праздникам. Будто Чайковский увидел Феню во время слепого дождя… знаете, когда дождь при солнце. На ушах у Фени блестели капли воды. Чайковскому это очень понравилось. Он пообещал подарить Фене такие же сережки, как эти дождевые капли. И выполнил свое обещание.
– Романтическая история! – заметил Леонтьев.
Анфиса вспомнила рассказ своего отца о том, как Чайковский пытался спасти от уничтожения лес. Может быть, это и случилось как раз в тех местах, где произошла история с Феней и сережками?
После обеда пошли в лес, в сторону девятого кордона, где собирался поселиться Леонтьев. И он и Баулин говорили об этом как о деле решенном, но девушки никак не могли поверить, что Леонтьев всерьез будет работать объездчиком. Леонтьев даже рассердился:
– Не боги горшки обжигают! Как-нибудь справлюсь.
Лес становился глуше и сумрачней. Кое-где сквозь чащу виднелись болотца. В колеях неезженой дороги росло много грибов. Дорога привела к ветхому мостику через канаву.
Баулин рассказал, что давным-давно здесь работала экспедиция по осушке болот – копала канавы, отводила болотную воду в озера. Сейчас все эти канавы позаросли, и болота решено впредь не трогать: они дают исток рекам и поддерживают грунтовые воды. И вообще в заповедном лесу нельзя вмешиваться в жизнь природы. Для этого и создан заповедник.
– Я все-таки не совсем понимаю, – сказала Тата, – в чем смысл заповедника.
Она сидела на низеньких перилах моста, покрытых желтыми лишаями. Вода в канале, коричневая, как кофейный настой, была покрыта ряской. По берегам разрослись высокие хвощи и кукушкин лен. А дальше в лесу так пышно раскинулся папоротник, что закрыл своей светлой зеленью даже высокие пни.
– В чем смысл? – удивился Баулин. – Прежде всего в том, чтобы сохранить нетронутой хотя бы небольшую часть природы, с ее растениями, зверями и птицами. Для изучения. А затем и для того, чтобы выяснить влияние девственного леса на окружающую среду: на поля, на питание водой рек, на высоту грунтовых вод, на влажность, состав и плодородие почвы. Вопросов множество. Но есть еще и другие заповедники. Их, правда, немного. Но будет много. И называются они странно.
– Как? – спросил Леонтьев.
– Вы удивитесь, конечно. Называются они «лесами эстетического значения». Это леса, которые украшают землю и тем самым повышают духовную энергию человека. Кроме того, есть заповедные леса, укрепляющие здоровье. Их государство тоже охраняет.
– Леса эстетического значения, – повторил Леонтьев. – Интересно!
Они помолчали. Луч солнца прорвался через чащу и осветил воду в канаве. Стало заметно, что вода чуть струится. В ней сверкнула золотым боком какая-то рыба.
– Тут карасей развелось видимо-невидимо, – заметил Баулин.
– Вы знаете, – сказал Леонтьев, – я не люблю насаженные леса. Деревья стоят по ниточке и все одинаковые. Как солдаты в строю.
– Старый спор! – усмехнулся Баулин. – Есть ученые, которые думают вот так же, как и вы. Они окружают девственные леса романтической дымкой. Они стоят за естественное возобновление леса. Человек, мол, не должен в это вмешиваться. Природа, по их мнению, умнее человека и его вмешательство приносит только вред.
– Я этого не говорю.
– Вы-то не говорите, а некоторые ученые говорят. Они утверждают, что человек не должен нарушать равновесие, существующее в природе. По их словам, девственные леса никогда не страдают от вредителей, а почва в этих лесах сохраняет плодородие тысячелетиями. Но опыт показал, что все это чепуха. Человек может, умело подобрав древесные породы, не только сохранить девственное плодородие лесной почвы, но и увеличить его до огромных размеров. Сто лет назад, когда люди в разведении лесов были еще младенцами, они заложили в виде исключения первые опытные леса под Москвой и Петербургом. Посмотрите теперь на них. Такой мощи стволов, такой красоты и ценности древесины вы не найдете ни в одном девственном лесу! Мы научились делать чудеса. Как можно отрицать искусственное разведение лесов, если без него мы не сможем исправить географию русской равнины? А ее необходимо исправить.

– Вот энтузиаст! – сказала Тата. – Разве человек может исправить географию?
– Не только может, а просто обязан.
Леонтьев тотчас представил себе будущее. Он едет в скором поезде Ленинград – Севастополь к морю, стоит у окна вагона где-то под Мелитополем и не узнаёт знакомые степи.
Поезд проносится через тенистые рощи. По склонам балок сбегают к прудам кудрявые заросли лещины. Потом встает впереди синий лес. Поезд мчится к нему, предчувствуя прохладную тень, и врывается в чащу листвы, цветов, трав и солнечного света, золотящего могучие стволы. Смолистый сосновый запах, к которому мы привыкли на севере – там он неотделим от хмурых пространств, – влетает в опущенные окна вагонов, смешавшись с воздухом близкого южного моря.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!