Текст книги "Козлиная песнь"
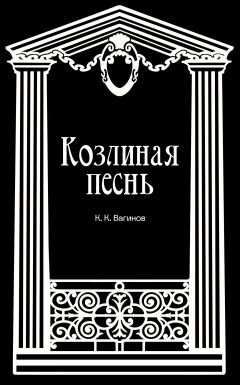
Автор книги: Константин Вагинов
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Глава XXXV
Междусловие
Я взял роман и поехал в Петергоф перечитывать его, размышлять, блуждать, чувствовать себя в обществе моих героев.
От вокзала прошел к башне присмотренной мной и описанной. Башни уже не было.
Во мне, под влиянием неблеклых цветов и травы, снова проснулась огромная птица, которую сознательно или бессознательно чувствовали мои герои. Я вижу своих героев стоящими вокруг меня в воздухе, я иду в сопровождении толпы в Новый Петергоф, сажусь у моря, и, в то время как мои герои стоят над морем в воздухе, пронизанные солнцем, я начинаю перелистывать рукопись и беседовать с ними.
Глава XXXVI
Еще зимой в определенный день, в определенный час состоялось собрание членов Жакта на квартире у железнодорожного служащего; в определенный час явился районный инструктор.
Тептелкин предчувствовал несчастье и не хотел идти. Но его так долго уговаривали интеллигентные жильцы дома, что он решил пожертвовать собой, пойти и на все согласиться.
Уже задолго до дня собрания население дома шушукалось по квартирам и под воротами. Тептелкина надо выбрать председателем, он культурный человек, он не вор.
До глубокой ночи затянулось собрание. Долго Тептелкин отказывался, охваченный тоской. Наконец портфели были распределены. Портфель председателя был вручен Тептелкину, затем перешли к пожеланиям. Все пожелали, чтоб при доме был устроен красный уголок, и стали спорить о квартире, где он должен быть устроен. Выделить ли комнату рядом с дворницкой или устроить в одной из коммунальных квартир. Не могли доспориться и занесли в протокол как пожелание. Все время районный инструктор, бывший военмор, разъяснял, пояснял и был доволен. Он был доволен, что его слушают и ему доверяют, и жильцы дома были довольны, что их слушают и им доверяют. Ушел инструктор в самом лучшем настроении, и жильцы расходились в самом лучшем настроении. Они спускались по лестнице. Впереди шел официант, новый секретарь Правления; за ним члены новой ревизионной комиссии – швейцар при одной иностранной фирме, счетовод и доктор. Позади них шел народ, позади народа Марья Петровна и поправляющий пенсне Тептелкин. Во дворе все стали прощаться друг с другом: некоторые целовали ручки дамам, другие пожимали, третьи спешили, приподняв шляпу. Вокруг кричали кошки, а сверху небольшая луна освещала широкий двор.
Еще в последних числах июня, сидя в садике, устроенном им вместе с Марьей Петровной, Тептелкин чувствовал, что вся всемирная история не что иное, как его история. Садик был прекрасен. Он занимал небольшое пространство во дворе у красной кирпичной стены и был создан руками супругов. В прошлом году весной подрезали деревья недалеко от зоологического сада, и, увидев это, Марья Петровна вспомнила, что если ветви, только что срезанные, посадить, то они пустят корни.
Вместе с Тептелкиным она взяла две большие ветви, Тептелкин был уже председателем домового управления. Ветви принялись. Супруги соорудили небольшой забор из деревянных перекладин, сами его покрасили масляной краской в зеленый цвет, утоптали малюсенькие дорожки, разрыхлили землю и обложили ее дерном. Для этого они специально ездили за город. Поставили столик и скамейку, посадили незабудки, анютины глазки, устроили даже миниатюрный газон. Один ключ от садика находился у Тептелкина, другой у управдома или дворника, чтобы жильцы, когда пожелают, могли посидеть в садике. Но тихие жильцы того дома, уважая чужой труд или, может быть, презирая такой малюсенький садик, более похожий на террариум, никогда не входили в него.
Марья Петровна с лейкой каждое утро спускалась и поливала цветы, Тептелкин вечерком сидел в нем без шляпы, иногда они даже обедали в нем. Тогда Тептелкин сидел за столиком, накрытым белой скатертью, а Марья Петровна спешила сверху по лестнице с дымящейся миской, и играющие во дворе дети с любопытством смотрели. Теперь Тептелкин уже совсем умиротворился и прогуливался по садику, если можно так выразиться, – собственно, он мог в нем еле-еле повернуться.
Раз, сидя в садике, Тептелкин почувствовал, что культура, которую он защищал, была не его, что он не принадлежал к этой культуре, что он не принадлежал к миру светлых духов, к которым он причислял себя до сих пор, что ничего ему не дано сделать в мире, что пройдет он как тень и не оставит по себе никакой памяти или оставит самую дурную. Что все конторщики так же чувствуют мир, лишь различно варьируя, что нет бездны меж ним и бухгалтером, что все они, в общем, говорят о культуре, к которой они не принадлежат. И на каком-нибудь концерте заезжего дирижера нечто мутное струилось по щекам Тептелкина, но не от музыки он плакал. Хотел бы он навсегда остаться юношей и смотреть на мир в удивленье.
И когда казалось ему, что нет разницы между ним и скулящим обывателем, тогда он делался сам себе противен и тогда тошнило его, и он беспричинно злился на Марью Петровну и даже иногда бил тарелки.
Марья Петровна страшно заботилась о Тептелкине. Она следила, чтобы он вел только нужные знакомства.
– Мы ведем только нужные знакомства, – иногда говорила она. – Ведь ненужные – не нужны. Не правда ли?
И Тептелкин, помолчав, отвечал обычно, шевельнув губами:
– Да, ненужное – не нужно, конечно.
И хотя почти не верил в загробное существование, сон Сципиона был для него пленителен; музыка пела и рвалась и падала каскадами, и хотя он чувствовал, что его любовь к Возрождению смешна и необоснованна, он никак не мог расстаться, порвать с широтой горизонта.
Спешит лысый в книжный магазин, как за водой живой.
– Не правда ли, Марья Петровна, мы не можем жить без Цицерона, – говорит он и греет ноги у кафельной печки. А огонь трещит, трещит.
* * *
Был зимний день. Морозное солнце багровым шаром висело над городом. Мороз отчаянно щипал прохожих. Но на душе было удивительно радостно.
Тептелкин сидел у печки и читал одну из своих любимых книг, но читалось плохо. Он прислушивался к тому, что происходит в нем. Было нехорошо и больно. Он начинал понимать, что совсем не исторического Филострата, не приборного романиста времен Юлии Домны (и не другого – составителя эротических писем к гетерам и юношам, и не третьего), любил он. И стало на душе его спокойно и ясно. И больше не ужасало его, что конторщики так же чувствуют мир, что нет бездны между ним и бухгалтером.
* * *
Когда уходила в гости Марья Петровна, Тептелкин страшно волновался: а вдруг она под трамвай попадет. А вдруг она почему-либо раньше из гостей уйдет и на нее нападут грабители. Ведь у нее сердце слабое, очень слабое.
Не только по вечерам, но и днем волновался Тептелкин. Стоит у окна, стоит и ждет. Иногда даже доставал старенький бинокль из высокого черного комода и смотрел из окна вниз на улицу, даже толпу глазами прощупывал, не идет ли за толпой Марья Петровна. Все беспокоится. Видит, Марья Петровна торопится, а у ней какой-нибудь сверток под мышкой.
И вот на лестнице уже слышны шаги, топ, топ, и газета в руках, плохая, конечно, газета, с ругательствами, да и везде вообще теперь на свете плохие газеты. И начнет Тептелкин газету читать, и взгрустнется ему, что в Мексике, когда генерала вешали, военный оркестр играл, а другие генералы и народ мороженое кушали. И не потому только, что генерала вешали, а потому что вешанье сопровождалось музыкой, гуляньем народным и едой мороженого. Или еще прочтет, что Авиахим организует мушиную кампанию, и поразится бедности человеческих дел. Или что завтра открывается трехдневная выставка и конкурс пения кенарей или что в какой-то провинциальный кооператив привезли вуаль к зимнему сезону вместо мануфактуры. Забудет Тептелкин, что вся жизнь его сплошная неурядица, беспокойство и метанье, погрузится в вечный вопрос о соотношении великого и малого, но уже готов обед, скромный обед, и уже в кастрюле суп подается, и уже Марья Петровна хлопочет, и суповую ложку опускает, и тарелки перетирает. Садится и спрашивает: «Вкусно?» – и дует на ложку и улыбается.
– Корешки-то я поджарила, – говорит она, – смотри, какой цвет у бульона!
Сегодня обед был великолепен. На второе была уточка с брусничным вареньем, а на третье – печеные яблоки. А после обеда встала Марья Петровна и говорит:
– Что я для тебя достала! Иду по рынку и вижу: у старушки, рядом с картинами, лежит маленькая книжечка, ну, думаю, «Дама с камелиями» или французский молитвенник. А все же остановилась и подняла, и вдруг – «Аркадия»…
– Джакобо Саннадзаро! – воскликнул Тептелкин.
Кивнула супруга головой и вынесла книжечку. Посмотрел Тептелкин и прочел:
Il Pastor Fido.
– Да ведь это совсем не «Аркадия», – воскликнул он, – зачем же меня обманывать?
Сконфузилась и покраснела Марья Петровна.
– Это я для себя купила, здесь есть и французский перевод, хочу я снова итальянским языком заняться. Для тебя я купила «Аркадию».
Но Тептелкин уже не выпускал Баттиста Гварини, он любовался проколотым двумя стрелами сердцем, он заметил надпись на ленте: «RVRIS NON CUPIDA VENVS». Затем принялся рассматривать две фигуры в длинных одеждах, как бы выходящие из пещер. Толстощекий Эрот, козленок, козлик, барашки, ангелочек – все приводило его в восхищение. Он стал читать посвящение. V вместо U и, наоборот, U вместо V; S, Р и С там, где они сейчас отсутствуют, небольшое число контракций, сама тряпичная бумага, приобретшая от времени запах старого вина, пергаментный вспоротый переплетец – все уносило Тептелкина в любимую им эпоху.
Конечно, это уже был совсем не XV век и не совсем XVI, книжечка была издана в Париже в 1610 году, но ведь во Франции в это время все еще был итальянский язык в почете. И Тептелкин принялся читать перевод знаменитой в свое время пасторали, сделанный анонимным учителем итальянского языка.
– Дай, я хочу поучиться, – прервала молчание Марья Петровна. – Это моя книжечка. Тебе же я купила «Аркадию».
Марья Петровна вынула другую книжечку, с золотым обрезом, в черном переплетце – это был переплет новый, восьмидесятых годов прошлого столетия, – внутри же улыбалась Венеция; правда, это не был удивительный шрифт Альдов, даже не бедного Манучия Младшего, у которого был только один ученик и великолепная библиотека, но все же…
Супруги сидят за столом и пьют чай. И силится Марья Петровна снова приняться за ученье.
Тептелкин сидел в своем кабинете-садике. Небо ли слишком ясное, или Марья Петровна, выпустившая из дровяного сарая коз погулять во двор, или иное какое-либо явление, или какой-либо разговор, бывший у него с Марьей Петровной, до ее появления во дворе, но только Тептелкин сидел в своем кабинете-садике, опустив книгу, и не мог сосредоточиться. Трудно сказать, думал ли в этот момент Тептелкин. Если б его в этот момент спросили, то он не сразу бы ответил, а подумал бы, о чем собственно он думает, и с горечью должен был бы констатировать, что ни о чем он не думает. Ассоциации сменялись ассоциациями, то солнце ему напоминало арбуз, то цветы на кофточке Марьи Петровны напоминали ему пароход, то козел, бодавший кирпичную стену, вызывал в нем неотчетливое представление о другом козле. И Тептелкин время от времени вставал со скамеечки, опирался на забор, поводил носом и шевелил губами:
– Я нечто предчувствую.
И с сознанием собственного достоинства, многозначительно смотрел на проходивших мимо садика. И Марья Петровна, обняв козла, бежала с козлом по двору к садику, и Тептелкин, несколько отойдя от своих возвышенных переживаний и от растворения в природе, от поглощения космосом, выходил из садика и, перекинувшись двумя-тремя словами с Марьей Петровной, выходил за ворота на улицу.
После подобного состояния ощущал Тептелкин сладчайшую прелесть мира. Ему казалось, что и солнце светит ярче, да и все в мире более ярко, да и он сам человек возвышенный, достойный во всех отношениях. И тогда сострадание к живым существам охватывало его, и он прощал недостатки всем другим, и безграничная любовь его к Марье Петровне пылала, и он говорил:
– Марья Петровна, не пойти ли нам поискать игрушек!
Тогда важно он шел по улице с Марьей Петровной, подходили они к витринам игрушечных магазинов, и, остановившись, Марья Петровна прикладывала носик к стеклу, и входили они в магазин.
– Вам для какого возраста? – спрашивал приказчик.
– Нам нужны художественные игрушки, – отвечал Тептелкин.
И склонившись над прилавком, Марья Петровна и Тептелкин начинали выбирать игрушки.
– А нет ли деревянной птички? – спрашивала Марья Петровна. – Или деревянного льва с условной гривой?
– А что ж я не вижу у вас матрешек? – перебивал Тептелкин.
И принеся игрушки домой, супруги сообща любовались ими.
Но все чаще Тептелкин, сидя в садике, замечал, что Марья Петровна стареет, что у нее уже не такой чистый цвет лица, что ей совсем не хочется гулять. Что она говорит:
– Ты уж один пройдись, подыши чистым воздухом, а я тем временем обед для тебя приготовлю. Хочешь, раковый суп я для тебя приготовлю?
И тогда Тептелкин привлекал к себе Марью Петровну и, приложив нос к носу, смотрел в ее глаза, и Марья Петровна, молоденькая, совсем молоденькая, шла по парку, как Диана, совсем как Диана.
В светлые минуты Тептелкин больше не сваливал ни на войну, ни на Революцию бесплодие свое и своего века. И тогда осенние листья для него шумели по-прежнему в самую яркую весну, в самое неумолимое лето. И из-за деревьев смотрели на него пленительные рожицы с рожками и копытцами, и нимфы с глазами непробудной глубины как пар поднимались над водой, и он слышал их речь внутри себя, пленительную и удивительную; и он думал, что вот из другого мира приходят к нему существа, что он вовсе не одинок, что вместе с ним отходит великая эпоха человечества.
В эти нежные минуты Тептелкин перечитывал свое письмо к неизвестному поэту:
Дорогой друг, вы паганист. Это черта глубоко отрицательная, вы не приемлете христианской благодати, между тем можно соединить христианство с верой в прелестных богов и ощущать особую тишину мира. Ведь, что бы вы ни говорили, вы любите солнце, теплое утреннее солнце, любите утреннее пение птиц, и не только декоративность, декоративность вас привлекает в языческой религии, не многообразие божеств, не материализация сил природы, а та особая святость, то сокровенное знание, которое рождается от соприкосновения с природой. Вы любите агонию этого чувства, но не лучше ли любить его рассвет? Вы любите умирание, но не лучше ли любить жизнь? Помните наши беседы в Петергофском парке, в саду при Мон-Плезире, среди уже осыпающихся деревьев, под наблюдением босой девушки, сторожащей сад и щелкающей кедровые орешки? До меня дошли слухи, что вы отреклись от самого себя. Дорогой друг, опомнитесь, вы сейчас тяжко больны, вернитесь к паганизму, но к просветленному, без ядовитых веществ, без смешка и без презрения. Ведь те нимфы и сатиры, которые являлись нам, не являлись другим людям. Дорогой друг, зачем вы так клевещете на себя? Мы с Марьей Петровной здесь часто говорим о вас, здесь, в зале, где собран Боттичелли, мы часто вспоминаем о вас, – вы ведь тоже любили его картины. Вы всегда стремились в Рим, но ведь Флоренция ближе нам и дороже. Вы переживаете ужасное испытание, которое я уже пережил, вспомните ваши же слова о превращении нас в чертей. Теперь я принимаю мир во всей его горестной красоте. Не мечта наша, а мы – были ложью. Мы уже были недостойны того, что открылось нам. Я вижу наши недостатки, но они меня не пугают. Я знаю, что мы слабы, бешено слабы, что мы развратны, что мы алчны, но что мы любили духовное солнце, и кто знает, может быть, и теперь любим.
Глава XXXVII
Смерть Марьи Петровны
Марья Петровна вышла из дверей огромного, изнутри освещенного люстрами, лампадами и свечами здания, похожего не то на перечницу, не то на письменный прибор, расстегнула жакетку и вынула сплющенный китайский фонарик, расправила его, встала между колонн и, защищая огонь от ветра, вставила свечку в фонарик.
Часть толпы направилась к проспекту 25 Октября, часть пошла по проспекту Майорова. Некоторые, в том числе Марья Петровна и Тептелкин, направились по Галерной к мосту лейтенанта Шмидта. Высохшие от морозца улицы отражали звездное небо, с крышки чернильницы доносился колокольный звон, дрожащие огни свечечек освещали лица, руки, улицы, улички и переулки, и Марье Петровне, утратившей религиозное чувство, казалось, что она участвует в карнавальном шествии. Не будучи уже христианкой, она любила церковь за обряды, как архаический театр и условное представление. По тем же соображениям она предпочитала церковь Тихона живой церкви. Она считала, что возвышенное представление требует особого языка и некоторой непонятности, в то время как живая церковь, не поняв этого, стремилась к опрощенству, тем самым уничтожая психическую рамку, низводила высокое действие на степень быта. В искусстве должен быть момент иррационального. Так думала Марья Петровна, идя со своим мужем по мосту лейтенанта Шмидта и держа фонарик, как участница возвышенного театрального действа.
Тептелкин тоже нес зажженную свечку в картузе из вчерашней вечерней «Красной газеты». И, расплываясь в мечтах, уносился в свое детство. Он видел себя в гигиенической комнате, окрашенной масляной краской, икону св. Пантелеймона с малиновой многогранной лампадкой. Охраняя огонек, свернул Тептелкин на 1-ю линию Васильевского острова, а Марья Петровна, смотря в фонарик и приняв чужую спину за спину своего мужа, свернула в другую сторону. И вдруг почувствовала, что кричать надо. Изнутри тянуло, качало, вокруг было жарко, веки не размыкались, и, удерживая тошноту, услышала голоса:
– Топай в аптечку, доложи штурману – человек за бортом был.
И в отдалении другой голос:
– Только что вошел по трапу на палубу, слышу крик, што ли, смотрю – человек за бортом, я сиганул в воду, зюйдвестку побоку, дождевик тож, а вода-то, мать честна, холодна. Насилу выбрался, груз-то велик, может, она и мало весит, да знатна, судорога прихватила.
– Сидим мы, это самое, скучаем, как бы бутылочку раздавить одну-другую. Сережка бултыхается, смотрю и думаю – тащить надо. Смотрю, за волосы бабу волокет, рыбу-кит тащит. Ой пожива, думаю, во Христово Воскресение; саданул стаканчик водки, пыхтеть начал, зарумянился, поди, то святое крещение принял, иорданское.
Марья Петровна приподняла тяжелую голову и обвела глазами. Два человека, баня, остальные в дверях, в полосатых тельняшках, иллюминатор сверху втягивает воздух, какой-то человек фонарь идет заправить на корму.
– Вишь, гляделки открыла, отдай иллюминатор; вирай ее на воздух.
Закутали они Марью Петровну. Матросы хотели проводить ее, но она пошла одна. И уходя, слышала:
– Кипяточку наладили, в камбузе чайку подзаварили, напоили бабоньку, отойдет чего, бывают в жизни огорченья, похрипит, покашляет, воспрянет.
Тептелкин между тем то бегал по улице, то забегал домой. Марьи Петровны все не было. Он уже раз пятнадцать сбегал к Исаакиевскому собору, уж много раз стоял то на одном конце моста лейтенанта Шмидта, то на другом, иногда останавливался у двух сфинксов, смотрел на черную полоску воды между берегом и льдом, предчувствие сжимало его сердце.
– Боже мой, где же она? Где? – плакала его душа.
И бежал он и торопился по снегу, и когда совсем рассвело, в двадцатый раз побежал он по лестнице к своим дверям, увидел: Марья Петровна с повязкой на голове сидит на ступеньке и дрожит в лихорадке. У ней не было цветного фонарика в руках и лицо было страшно бледное, а на голове странно сидела шляпа.
– Деточка, – вскричал он, – что с тобой? – обхватил супругу за плечи, ввел в квартиру.
Марья Петровна разрыдалась.
Градусник торчал из-под мышки, Марья Петровна лежала на постели. Тептелкин, грустный и сосредоточенный, ходил по комнате. Небритое лицо его дрожало.
«Как быстро уходит семейное счастье, – думал он, – какой-нибудь пустяк, случай, может разрушить его».
Ему жалко было, что вот молодая жизнь уходит так бесцельно.
– Марья Петровна, – садился он на стул и брал ручку Марьи Петровны.
– Сокровище мое, – раскрывала глаза Марья Петровна, – милое сокровище мое, ухожу я от тебя.
И что совсем странно было – она действительно ушла.
Это сопровождалось странными явлениями. Она просила, чтоб Тептелкин на руках носил ее по комнате. Он подносил ее к каждой вещи, и она, одной рукой обняв его за шею, другой ощупывала предметы, ножички для разрезания книг, книжечки, спинки стульев, цветы на окошке, занавеску, пепельницу с цветочками, затем она требовала, чтобы он вращал ее, ей не хватало воздуха. Тептелкин был бледен; он исполнял ее требования, вращал ее и вращался сам. Напротив из двух труб, прикрепленных к балкону, неслась радиогазета, что было затем, Тептелкин потом никак вспомнить не мог, потому что он заметил, что Марья Петровна успокаивается. Он осторожно уложил ее в постель, и сел рядом, и стал смотреть на скляночки, на абажур лампы, на освещенное личико, заметил, что пыль осела на скляночках, и стал перетирать скляночки, лампу со всех сторон окружил бумагой, оставил только узенькую щель, чтобы свет попал в сторону. Поцеловал Марью Петровну в лоб и сел на подоконнике. И стал смотреть на свой садик во дворе, покрытый хлопьями снега. В дремоте ужасало Тептелкина то, что все говорят о гниении, а никто не говорит о возрождении. Ночью он поднялся со стула, сел на подоконник. «Вселенная, чуткий сад, где бродят Данте и Беатриче, не является ли некая жена путеводной звездой для человека и не открываем ли мы своей жене некий образ, явившийся нам в детстве, удивительно гармонический?» Еще размышлял Тептелкин, что жизнь супругов была бы невозможна, и на цыпочках, огромный и печальный, прошел он в соседнюю комнату и стал читать свою рукопись. И начало его мучить несоответствие его фигуры идеальному образу, худоба мучила его – по его мнению, она мешала ему стать героическим.
«Что бы было, – думал он, – если б у меня были мускулы, и если б затем у меня было аскетическое лицо, и если б я носил вериги. – И, освещенный луной, Тептелкин возвел горе очи, и еще большая печаль овладела им. – Что бы было, – подумал он, – если б моя фамилия была бы не Тептелкин, а совсем иная. Два слога «теп-тел» несомненная ономатопия, слово «кин» могло бы быть зловещим вроде «кинг», но этому мешает консонантная «л», а если б здесь было слоговое «л», то получилось бы Тептеолкин, это было бы страшно заунывно. Господи, – выпрямился Тептелкин, опуская книжечку. – Никто не думал о Возрождении, только я. За что же такая мука!» – и опять он провалился в реальность.
Он вспомнил, что та ночь была донельзя тихая, что, ища Марью Петровну, он оказался у сфинксов, что феерические чудовища напоминали ему другие ночи – египетские, даже тогда. И положив книгу, он вошел в соседнюю комнату. Марьи Петровны не было в постели. Он огляделся. Марья Петровна без посторонней помощи двигалась ощупью по комнате и садилась на все, на чем посидеть можно. Она садилась и на стулья, и на стол, и на подоконник, и на сундучок, прикрытый зеленой плюшевой скатертью.
– Марья Петровна, – бросился к ней Тептелкин. – Не покидай.
Заплакала и закашлялась Марья Петровна в его руках. И чувствовал Тептелкин, как она хрипит все тише и тише, и почувствовал он, что в руках у него тяжелое и еще чуть теплое тело. И, не удержавшись, сел на стул, но не выдержал стул тройной тяжести, и сел он (Тептелкин) на пол.
Уже розовый румянец играл на щеках того, что было Марьей Петровной, а руки бессильно болтались и остановившиеся глаза смотрели в потолок, а нижняя челюсть отвисала, и белое лицо Тептелкина смотрело в окошко. Как корнет Ковалев, почувствовал он, что действительно мир ужасен и что он один, совершенно один в нем.
Когда поздно ночью, как обычно, пришел доктор, он нашел розовую покойницу в белом платье на постели и Тептелкина с шляпой и чемоданом в руках.
Когда шел в предрассветной тоске Тептелкин, ему улыбнулся голубь, белая птица с подпалинами повернула шейку и посмотрела круглым глазом на него.
– Ах ты мой голубь, – остановился Тептелкин, – мой милый голубь, – и пошел за голубем, и голубь, важно ступая, шел по мостовой, и Тептелкин следовал за ним:
«Вот вы вернулись опять сюда, мирные птицы. А я другой уже, совсем другой человек. Нет больше того, кто думал озарить любовью город, другой среди вас стоит, милые птицы».
И голуби, полагая, что он сейчас начнет кормить их, слетали с карнизов, и собирались стайками, и друг с другом беседовали.
И освещенный солнцем Казанский собор, и небольшой скверик с одинокими фигурами, слегка озябшими, и еще сырые от росы скамейки звали Тептелкина растянуться и, подложив руки под голову, вздремнуть среди прохаживающихся птиц. И небо, сладчайшее петербургское небо, бледненькое, голубенькое, слабенькое, куполом опускалось над Тептелкиным, забывши и то, что он уж лыс, и то, что он уж совсем одинок.
Большая луна освещала Дом искусств, уже не существовавший. Служитель с лицом последнего императора готовился запереть двери. Тептелкин и Марья Петровна спустились вниз по черному ходу и вышли в пустой перерождающийся город.
Черт возьми, как это было давно!
Свет стоял над проплеванными зданьями, когда Тептелкин и Марья Петровна шли вместе. И в предрассветном томлении сжималось сердце, и холодный ветер рвал, и прищелкивал, и присвистывал.
Автор смотрит в окно. В ушах его звенит, и поет, и воет, и опять поет, и опять звенит, и, переходя в неясный шепот, замолкает Козлиная песнь.
Автор молод еще. Если его станут слушать, он расскажет еще одну петербургскую сказку.
Итак, до следующей ночи, друг.
<1926–1927; 1929>
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































