Текст книги "Козлиная песнь"
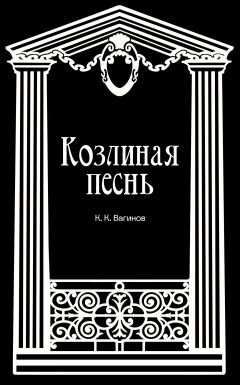
Автор книги: Константин Вагинов
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
– В какое общество? – спросил Анфертьев.
– В общество собирания и изучения мелочей. Ведь вам все известно?
– Не совсем так, – ответил Анфертьев, – я человек бедный, мне некогда собирать и изучать. Я продаю. Я хотел бы вам продать то, что вам, мне кажется, нужно. Мне показалось, что я вам могу быть полезен.
– Я не совсем понимаю, – сказал Торопуло.
– Видите ли, я торгую всем тем, что никому не нужно, – начал Анфертьев оживленно. – То есть я не совсем точно выразился, я торгую тем, что сейчас не имеет цены, а в будущем будет иметь огромную ценность. Я торгую сновидениями, я торгую конфетными бумажками, уличными песнями, воровским жаргоном, я всем торгую, что не имеет веса и как будто не имеет никакой ценности в современности. У меня есть свой круг покупателей, они мне заказывают, и я достаю им все то, что почему-либо интересно для них. Вот для вас я могу доставать конфетные бумажки, спичечные коробки и вообще все, что вы пожелаете.
– Да вы сказочный человек, – сказал Торопуло. – А как вы узнали о нашем существовании? Да, мы все это собираем, но до собирания сновидений мы не додумались! Это идея, не правда ли? – обратился он к Пуншевичу.
– Не стоит растекаться, – ответил Пуншевич.
– Я могу доставать сны и девушек, и старичков, и рабочих, и крестьян, и интеллигенции о еде.
– Очень интересно! С вами нужно поддерживать связь. А может быть, у вас уже есть сны о еде, сны, как-либо связанные с едой?
– А еще что вы продаете, что можете предложить? – с любопытством перебил Пуншевич. – Нам нужны обертки от мыла, только, знаете, не современные, современные мы сами достанем, а, скажем, времен освобождения крестьян или как-либо связанные с мировой бойней.
– Здесь темно, – сказал Торопуло.
Комната осветилась. Анфертьев был ослеплен. Книги в любительских, мозаичных, тисненых нежнейших переплетах стояли на полках. Шелк и муар, шагрень и марокен, пергамент, похожий на слоновую кость, – развлекали глаз. Бюсты великих писателей стояли на полках и по углам комнаты. Картины, зеркала, ковер с великолепно исполненными плодами, потолок со сценами охоты – как бы увеличивали объем комнаты. Все это переливалось, отливало серебром, искрилось перламутром, сверкало полированным золотом, желтело и белело и, каким-то образом, становилось нереальным.
Анфертьеву захотелось ущипнуть себя, чтобы проверить, сон это или действительность, может быть, действительно во сне он нашел Торопуло, может быть, в действительности инженера Торопуло и не существует.
– Снимите пальто, – сказал Торопуло, – мы сейчас закусим: выпьем и поговорим как следует. Вы мне кажетесь весьма нужным для нас человеком.
Анфертьев отнекивался, ему было стыдно, что он почти без белья.
– Мне еще хотелось спросить, – сказал Торопуло и поставил на стол миноги, сваренные в белом вине, – как вы дошли до мысли торговать сновидениями? Ведь это не всякому может прийти в голову. Ведь нужно сталкиваться с какими-то людьми, чтобы дойти до такой, казалось бы, простой вещи. Сознайтесь, ваша жизнь носит отпечаток фантастики, даже не все поверят, что сны можно продавать!
– Жизнь проще, чем мы думаем, – пояснил Анфертьев. – Сначала я продавал книги по квартирам, потом оказалось, что некоторые любят рукописные дневники, другие стали мне заказывать частные письма, знаете, ведь разные люди разным интересуются. Другие стали просить меня достать для них уличные песни. Некоторые интересовались воровским языком, тоже я для них подбирал на улице, на рынках, в трактирах слова. А один молодой человек стал мне заказывать сновидения. Он почему-то ими интересовался. Вот почти и все. Фантастики, признаться, я как-то не чувствую, я, можно сказать, трезвый человек.
– Все же это, признаться, странно, – сказал Пуншевич, – продавать сновидения… Это черт знает что! Да как же вы их добываете?
– Да тоже покупать приходится. Не всегда, правда, но все же приходится, – ответил Анфертьев. – Иногда, конечно, даром достаются.
– Да сколько же вы на этом наживаете? – спросил бестактно Пуншевич.
Торопуло отвел Пуншевича в сторону.
– Об этом не будем говорить, – сказал своему другу Торопуло, – ведь это нас не касается. Мы можем хорошо закончить первый день нового года, если только сами не испортим его бесплодными вопросами. Надо принимать жизнь как она есть. Только тогда жизнь окажется прекрасной. Никаких проклятых вопросов, никаких самокопаний! Человек живет только раз в жизни! Каждую минуту нашей жизни превратим в радость! Неловкое исследование разрушает очарование мира! Удивляйся, дорогой друг, удивляйся, и ты будешь счастлив! Ничего нет дороже аппетита в жизни! Сохраняй его! Я думаю, нам следует остаться дома, мы ничего не потеряем.
– Нашему гостю, несомненно, есть что порассказать, – добавил Торопуло громко. – Погасимте эту люстру и зажжемте свечи.
Торопуло поставил на стол электрические канделябры.
– Так спокойнее, – сказал он, – как-то тише. При таком освещении, я думаю, и наш гость почувствует себя свободнее, – шепнул он Пуншевичу.
И действительно, Анфертьев почувствовал себя свободнее.
– Еда без цветов – не еда! – Торопуло все ходил и беспокоился.
Он принес японскую вазу, наполненную ландышами. Запах ландышей и легкое вино в сверкающих графинах, украшенных серебряными виноградными листьями, и приготовленные по старинному способу миноги и семга, цвета нежнейшей розы, – выбили Анфертьева из колеи.
Время для него исчезло.
Наконец, мысли стали отчетливей.
Он вспомнил, как поклонник-гимназист принес его матери букетище ландышей и как мать не знала, что ей с букетищем делать, потому что в комнате его оставить было невозможно, ведь у всех разболелась бы голова. Но и выбросить цветы было жалко. Букет был помещен за окно, но, и находясь там, он все же наполнял всю квартиру своим одуряющим запахом. Запах проникал даже на лестницу, так что все знакомые считали своим долгом поговорить об этом букете.
Анфертьев смотрел на вазу с ландышами.
– А я в вашей квартире жил! – вырвалось у него.
– Это очень интересно, – подхватил Пуншевич, – расскажите нам свою жизнь.
– Я соврал, – сказал Анфертьев, – никогда я в этой квартире не жил.
– Вообще, этот дом замечательный. Принадлежал он португальскому консулу, Антону Антоновичу Дауеру, – сказал Торопуло, – последнему представителю стариннейшей фирмы, торговавшей винами. У него был попугай, чуть ли не двухсотлетний, даже на этикетках фирмы изображен был этот попугай. Стал он своего рода живым гербом. Сидит, сидит, скучает и вдруг запоет шотландскую песню, полную меланхолии, или голландскую о море, или вдруг исполнит арию из «Прекрасной Елены». Висел он в клетке в кабинете у хозяина, а хозяин сидит за письменным столом, курит, мучительно думает, вспоминает подругу своего сердца, норвежскую опереточную певицу, взглянет на свою жену, и выпить ему захочется. Неслышно подойдет к шкафчику и лишь захочет налить рюмочку горькой, уже исполняет попугай «буль-буль-буль». Слышит супруга, сидит она вечно в обшитой дубом столовой, чтоб видеть мужа, и вяжет салфетку для печенья. Кричит:
«Саша, Саша, ду тринкст ви эйн бауер» [22]22
…ты пьешь как мужик (нем.).
[Закрыть].
Отойдет последний представитель столетней фирмы от шкафчика и снова сядет за письменный стол скучать и думать, а попугай поет шаляпинским голосом:
На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир – телец златой.
В кабинете стоял граммофон, среди прочих пластинок была и пластинка с этой арией. Гости очень любили эту пластинку.
– Характерно, – сказал Пуншевич.
– Дауер был тихий, скромный человек, ему хотелось пожить в свое удовольствие, но супруга была честолюбива, она заставила своего мужа стать португальским консулом. Чтоб несколько удовлетворить свою жену, чтоб быть свободнее, чтоб отдаться своей любви, Дауер стал португальским консулом. Но почтенная супруга его принялась устраивать приемы и званые вечера. Дауеру пришлось организовывать эти вечера и на них присутствовать. Так ему и не удалось пожить в свое удовольствие. Его постигла трагическая участь. Однажды Антон Антоныч должен был ждать на вокзале приезда португальского короля. Погода была промозглая; осенняя, петербургская. Несчастный Дауер все ходил по перрону, скучал, мысленно укорял супругу, из-за которой он должен в такую погоду торчать здесь. Ему стало жарко, затем холодно. Совсем больной он вернулся с вокзала. От крупозного воспаления легких он скончался. Вот вам и жизнь человека. Желтоватый газовый свет по вечерам по-прежнему освещал Петербург того времени, в переулках стояли цепи извозчиков и лихачей, женщины в длиннее фигуры платьях с круглыми муфтами в руках плыли, за ними следовали мужчины в брюках, касавшихся пят, рестораны были освещены, театры были полны, в одном из них пела его возлюбленная. Но попугай больше не кричал «буль-буль». Помню, я шел за его гробом, масса было людей в треуголках. Вдову вели под руку бельгийский и германский консулы. Так умер последний владелец этого дома, а строил его какой-то прокурор, приносил он много доходу. Здесь были только огромные квартиры.
Ночь прошла в занимательных рассказах. Рано утром покинул Анфертьев своих новых покупателей. Он радостно спускался по украшенной изображением Меркурия мраморной лестнице.
«Торговля расширяется, – думал он, – в прежнее время я сел бы в автомобиль и поехал бы на Острова, или кутить к Эрнесту, или в “Самарканд” к татарам, или в Новую Деревню к цыганам. Там для меня поставили бы самовар, цыганки бы пели и танцевали, а затем сиреневое утро за окном, выйдешь – на аллее воробьи чирикают и автомобиль ждет. Дома скинешь шубу на руки лакею, отдашь цилиндр и пройдешь в свою спальню. Велишь разбудить себя в два часа, никого не принимать, говорить, что нет дома. Как приятно раздеться после бессонной ночи и, почитав минут пять, уснуть. В два часа кофе с лимоном, наденешь халат и идешь в кабинет, где уже лежат телеграммы и письма. А в кабинете удобное кресло. Вечером театр или клуб, – усмехнулся Анфертьев, – я торгую предметами, на которые, несомненно, появился бы спрос после войны».
Анфертьев шел по сиреневым улицам, голуби ворковали под крышами, воробьи чирикали. Прохожих еще не было.
Анфертьев решил пройтись по Неве.
Глава V
Переезд
Боязнь старости мучила Локонова. Лежа в кровати, он с грустью смотрел на уже выхолощенные для него предметы. Когда-то с большой любовью он приобретал и этот письменный стол времен Александра I, и этот шкафчик для книг времен Павла I, этот диван и эти два кресла красного дерева. Он вспоминал, как он расставлял их, стараясь чтобы они давали как можно больше впечатлений его душе, чтоб вокруг них незримо реяли какие-то краски, какое-то ощущение вызывалось бы ими разных эпох и чтоб это все сливалось в некое целое. На этом диване он любил читать Пушкина, растроганный, даже иногда плакал над отдельными строчками, не в силах вынести красоты. Как он любил Достоевского и как волновали его эстетические проблемы! Теперь эти вещи умерли, и было неприятно Локонову, что они стоят в его комнате, что при взгляде на них целая сеть воспоминаний возникает и тянет за собой обратно его, Локонова, постоянно напоминает ему об его возрасте. Ощущение под боком вещей неприятных раздражало Локонова. Они стали ему не только не нужны, не только неприятны. Они стали отвратительны для него. Локонов решил отделаться от них, продать их.
Засыпая, он думал о том, что следует дать объявление в «Вечерней Красной», что вот на улице такой-то, в квартире в такой-то продается письменный стол красного дерева времен Александра I, шкаф времен Павла I, диван и кресла красного дерева. И последние мысли Локонова были, что мать его страшно удивится, будет страшно жалеть и уговаривать его не продавать. А утром встал Локонов и ему показалось, что он видел сон: в неком замке живет прекрасный юноша, и все-то у него прекрасно, дивные картины висят по стенам, прекрасно подстриженные аллеи с прелестными шедеврами. И вот этот прекрасный молодой человек как бы сходит с ума и режет прекрасные картины, ломает драгоценные предметы, выбегает в парк и разбивает статуи, вытаптывает цветочные насаждения и ломает подстриженные в виде разных фигур кустарники.
«А ведь с вами все же нужно расстаться, – подумал Локонов. – Хотя бы ради опыта следует продать эту обстановку, даже, быть может, следует расстаться с этой комнатой, уехать, переехать куда-нибудь и начать новую жизнь. Вот продам мебель, – думал Локонов, – и дам объявление в газете: меняю комнату такого-то размера на комнату такого-то размера, – и уеду, обязательно уеду».
* * *
Анфертьев отправился по новому адресу. Он вошел в деревянный домик. Оказалось, в первом этаже живет Локонов. Он дернул за рукоятку колокольчика.
Открыл какой-то парень.
– Здесь живет Локонов? – спросил Анфертьев.
– Здесь, вот дверь налево.
Анфертьев постучал. Никто не ответил. Анфертьев опять постучал согнутым пальцем, и опять никто не отозвался.
– Да вы войдите, может, он уснул, – пояснил парень.
Анфертьев надавил ручку и вошел.
Комната была маленькая. На постели лежал Локонов и, по-видимому, спал. Грошовый стул стоял у изголовья, некрашеный кухонный столик стоял у окна, на крохотной этажерке, купленной на рынке, лежал хлеб. Сквозь окно с немытыми стеклами виден был уголок двора с искривленной березкой. Над постелью висел портрет известного борца, дяди Вани. Веером расположились открытки – Мэри Пикфорд, Гарри Пиль.
Анфертьев был потрясен. Уж этого он от любителя сновидений никак не ожидал. Он тронул Локонова за плечо.
– Простите, – сказал он.
Локонов открыл глаза и, ничего не понимая, смотрел на гостя. Потом он приподнялся на локте, окинул взглядом комнату и сел на постели.
– Не больны ли вы? – спросил Анфертьев.
Локонов зевнул.
– Ах, это вы, Анфертьев, – сказал он. – Что скажете новенького? Садитесь.
Локонов снял брюки со стула и положил на постель.
– Я долго искал вас, – сказал Анфертьев. – Вы, несомненно, временно поселились здесь. Этот дом совершенно неблагоустроенный.
– Да, я потом, конечно, перееду, но пока здесь неплохо. Здесь очень милый вид из окна. Вообще, я хотел переменить обстановку.
«Неудачная любовь, – подумал Анфертьев, – должно быть, бесится от неудачной любви».
– Вот что, – сказал Локонов, – сейчас сновидений мне не надо, или нет, мне, может быть, нужны какие-то особые сны. Или нет, мне никаких снов не надо.
– Дело не в снах, – ответил Анфертьев. – Мне хотелось вас познакомить с одним инженером. Удивительный чудак!
– Нет, я никуда не пойду, – ответил Локонов, – мне хорошо здесь, и вид из окна ничего, и окружен я милыми и простыми людьми, и ничего мне не надо. И обедаю в столовой, и веду жизнь, как все.
Локонов зажег папироску и затянулся.
– Хорошо чувствовать себя средним человеком. Любить, скажем, цветы, девушек, беседовать о погоде с хозяйками, стоять в очередях, чувствовать, что жизнь прекрасна!
Анфертьев удивился. Он чувствовал, что Локонов говорит искренно.
– Хорошо еще быть специалистом, – сказал Локонов, – специалистов девушки любят, а я человек пожилой, мне ничего не надо. Вот мне здесь и хорошо. К чему мне диван красного дерева, к чему мне письменный стол, мне достаточно иметь кровать и стул. Мне ничего не надо. Вот, ем черный хлеб, пью морковный чай.
– Да, но инженер-то! У него небезызвестная барышня бывает.
Локонов молчал.
– Юлия Сергеевна бывает. Идемте, – уговаривал Анфертьев. – Сядемте на двадцатый номер и прямо доедем. Переулок Чехова, дом 12, кв. 2. Во всяком случае, хорошо проведем вечер.
Но Анфертьеву не удалось уговорить Локонова.
Но как только захлопнулась дверь за Анфертьевым, Локонов вздрогнул. Ему хотелось подняться и пойти за Анфертьевым следом. Ему хотелось увидеть Юлию.
«Предлог удобный повидаться с ней, – подумал он. – Все же хоть один вечер проведу с ней, а потом можно расстаться навсегда, убедившись в том, что она счастлива. Я увижу ее лицо, может быть, даже удастся поговорить с ней хоть бы о незначащих вещах. Надо решить – идти или нет. Время идет, Анфертьев уж, должно быть, садится на трамвай».
Локонов посмотрел на часы. Было без десяти минут девять.
«Поздно, – подумал Локонов, – Анфертьев уже уехал, а одному мне явиться как-то неудобно».
Уже половина одиннадцатого, когда Локонов наконец решился и подошел к остановке трамвая. Сел и поехал.
«Ладно, – думал он, – найду какой-нибудь предлог».
Трамвай несся. Локонов сидел в углу. Народу в трамвае было мало. Отчаянно спеша, выйдя из трамвая, понесся Локонов по Жуковской, а оттуда свернул в переулок Чехова. С удивлением увидел Локонов, что переулок Чехова – это и есть переулок с зеленым домом. И номер совпал. Поднявшись по лестнице, Локонов стал подозревать, что и квартира эта именно та, куда ходила с молодым человеком Юлия. «Позвонить или не позвонить, – подумал Локонов, – может быть, я забыл номер дома или, может быть, Анфертьев ошибся. Вдруг я появлюсь, а они вдвоем. Мне скажут: вот налево или вот направо, я постучу, распахнется дверь, а они вино пьют или она, может быть, на рояле играет и подумает: какой он навязчивый и плохой человек».
Локонов стал спускаться по лестнице, но затем он снова поднялся на площадку. Дверь соседней квартиры открылась, выглянула женщина и, подозрительно оглядев Локонова, остановилась, как бы ожидая, позвонит он или не позвонит. Локонов подумал: «Она, должно быть, следила за мной в замочную скважину, как я стоял, как я спускался, как снова поднялся на площадку. Должно быть, она думает, что я вор, и если я попытаюсь уйти, то, чего доброго, она еще крикнет кого-нибудь».
Локонов позвонил.
Женщина дождалась, пока дверь открылась.
Локонов вошел в тревожащую его квартиру.
Дверь в коридор была открыта. Из комнаты неслись нестройные голоса. Лысый пожилой человек, встретивший Локонова в дверях, спросил учтиво:
– Вы кого искать изволите?
– Да вот, мне Анфертьев… – подыскивая слова, начал Локонов.
– С кем имею честь говорить? – спросил хозяин, протягивая руку.
– Я Локонов.
– Очень, очень приятно. Вот, разденьтесь здесь, пройдемте.
Торопуло пропустил гостя вперед.
– Простите, что я так запоздал…
– Ничего, ничего, – ответил Торопуло.
В комнате было масса народу. Анфертьев радостно выбежал навстречу и что-то шепнул Торопуло.
Локонов заметил Юлию на диване.
Нерешительно поклонился всем в дверях.
– Наш новый знакомый, – сказал Торопуло, обращаясь ко всем, – собирает сновидения. Вы, надеюсь, принесли свои сны с собой? Надеюсь, вам Анфертьев уж говорил о нашем научном обществе.
Но до сознания Локонова не доходили слова хозяина. Гость старался придать своему лицу какое-то выражение, какое – неясно было ему самому. Делая вид, что прислушивается к словам Торопуло, Локонов все смотрел на Юлию и, наконец, понял, что она рассматривает какие-то картинки.
«Не обращает на меня внимания», – подумал Локонов и отвел глаза в сторону.
– Да, – сказал он Торопуло, – очень приятно.
Неожиданно раздался голос Юлии:
– Анатолий Дмитриевич, идите к нам!
Юлия подвинулась.
– Где вы пропадаете, – прошептала она, – нигде вас не видно.
– А я вот переехал, – ответил Локонов, – потому и пропадал.
– Старых знакомых нехорошо забывать, – сказала Юлия и тряхнула волосами. – Ну, об этом после поговорим. Смотрите, какие картинки. Это от ширпотреба, японские.
– Да, – сказал Локонов, – хорошие картинки.
– Удивительный вы человек! – с грустью сказала Юлия. – Вечно вы какие-то пустые слова произносите, пустой, что ли, меня считаете. Нехорошо, нехорошо. С другими вы говорите как с людьми, и о том, и о другом, а со мной только о погоде или о том, что ноги промочили, ни о чем серьезном не говорите. Маленькой меня считаете, что ли? Смотрите, я обижусь, если вы не исправитесь.
– Вот гном летит, – сконфуженно произнес Локонов, – а шапка у него высокая. А вот японские дети, а вот японец в треуголке.
«Какую я чушь несу», – подумал Локонов.
– Знаете что, – сказал он, пытаясь быть смелым, – возьмемте эти бумажки и идемте в тот уголок, а то здесь очень шумно.
– Скажите просто, что вам неудобно здесь сидеть, что здесь места маловато.
– Да, действительно, здесь места маловато, – подтвердил Локонов, – а там свободнее.
Захватив тетрадку, Юлия сказала:
– Идемте!
Остановилась:
– Знаете что, идемте в соседнюю комнату.
– Нравы здесь очень простые, – сказал Локонов и подумал об окне, о воображаемом любовнике Юлии.
– Да, Торопуло чудный человек, – ответила Юлия Сергеевна, – у него чувствуешь себя как дома.
Юлия зажгла в темной комнатке лампочку.
– Здесь лучше, не правда ли, – сказала она. – Вот, садитесь. Знаете что, я сыграю на пьянино. Что вы хотите, чтоб я сыграла вам?
– Да я, право, и не знаю.
– Ну ладно, что придет в голову.
– Вот «Песни без слов», – сказал, перебирая ноты, Локонов, – а вот «Времена года».
– Давайте «Песни без слов».
Юлия играла, подчеркивая чувствительные нотки, особенно отчетливо выделывая все арпеджио и трели, местами произвольно замедляя темп, местами помещая два такта в один.
Локонов смотрел на семнадцатилетний профиль. На улице, по-видимому, шел дождь. Локонову стало жаль, что ему, собственно, не о чем говорить с милой девушкой. Локонов думал:
«Вот мы уединились, а говорить не о чем, а завязать разговор необходимо».
– Хотите, я еще сыграю? – спросила Юлия.
«Скрывает, – подумал Локонов, – притворяется».
– Скажите, любили ли вы когда-нибудь? – неожиданно для себя сказал он.
Девушка улыбнулась.
– Ого, какой вы, а я думала – вы скромник.
Локонов покраснел.
– Лучше вы расскажите о своей первой любви, – предложила Юлия.
– Это невозможно, – почти крикнул Локонов.
– Нет, я никого не любила, – заметив смущение собеседника, сказала Юлия.
– Но молодой человек в этом зеленом доме? – сжег свои корабли Локонов. – Он часто вас провожает по вечерам.
– Ах, вот вы про что, – рассмеялась Юлия. – Да ведь это член-корреспондент этого общества. Какой вы ехидный – ведь ему уже под шестьдесят лет. А провожает он меня, потому что у меня есть много благотворительных значков, он хочет их прикарманить.
– Покажите мне его, – попросил Локонов.
Юлия встала, подвела Локонова к дверям.
– Вот он, – сказала она, указывая на диван.
На диване рядом с Торопуло сидел стройный бритый старик с лицом, слегка попорченным оспой, и абсолютно голым черепом.
– Неужели? – спросил Локонов.
– Конечно, – ответила Юлия.
– Объявляю общее собрание открытым, – раздался в соседней комнате голос Торопуло.
– Сегодня на повестке: доклад д-ра Шеллерахера.
1) Опыт введения в изучение действия сновидений о еде на отделение желудочного сока.
2) Чтение сновидений о еде: Локонов.
После общего собрания концерт.
3) Романсы о еде в исполнении Анны Кремер.
4) «Свадебный обед»: сюита Баха в исполнении квартета…
После концерта – чай и танцы до утра.
Локонов слушал сюиту. Звенели и пели рюмки, как голоса детей. Раздавалось разнообразие человеческих голосов, отдельные голоса, и как бы произносились речи. Возникал смех и как бы охватывал весь стол, все время приглушенно, как отдаленный аккомпанемент, звучала нежная и строгая музыка, служившая как бы фоном для звукового свадебного стола.
Затем Торопуло прочел свои стихи:
Тают дома. Любовь идет, хохочет
Из сада спелого эпикурейской ночи.
Ей снился юный сад,
Стрекочущий, поющий,
Веселые, как дети, голоса
И битвы шум, неясный и зовущий.
Как тяжела любовь в шестнадцать лет.
Ей кажется: погас прелестный свет,
И всюду лес встает ужасный и дремучий,
И вечно будет дождь, и вечно будут тучи.
Локонов внимательно слушал.
«Уж не стихи ли это о Юлии?» – обеспокоился он.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































