Текст книги "Конунг. Человек с далеких островов"
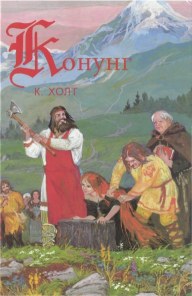
Автор книги: Коре Холт
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Я не видел той женщины, что пришла сюда с пузырем яда между грудями. Кто знает, может, мои люди ради шутки сказали, что у нее был пузырь с ядом. Но слово сказано и я должен убить ее. Никто не смеет думать, будто я готов мягко обойтись с тем, кто собирался покуситься на мою жизнь или на жизнь моих близких. Хуже, что она говорит, будто она дочь конунга Сигурда. Время от времени у нас появляются люди, говорящие, что они сыновья конунгов. Они собирают отряды, и я их убиваю, случается, что в сумерках они приходят ко мне и просят пощады, а то приходят в сопровождении пышной свиты и клянутся мне в верности. Но я вынужден убивать их. На том пути, которым я следую,– а у меня давно все продумано, – иначе нельзя. Мне приходится платить за каждый шаг. Только слабоумный может считать, будто есть путь, на котором не нужно платить за каждый шаг. Но мой путь – самый надежный. Для меня и для моего сына необходимо, чтобы я убивал всех, кто идет против меня. Впервые моим врагом оказалась женщина с ядом между грудями, к тому же она выдает себя за дочь конунга. Люди говорят, что я уже стар. Если я пощажу ее, они скажут: Он совсем одряхлел, и голова у него сидит еще кривее, чем раньше. Он не в силах выпрямить ее, его когти больше не пахнут кровью, скоро ему придется нюхать только собственную кровь, а не чужую. Поэтому я должен убить ее.
Гаут ходит повсюду и всех прощает, и пусть прощает. Он мне не опасен, сила моего ума в том, что я щажу людей, которые много говорят и требуют прощения для других. Глупо убивать его. У меня даже была мысль взять его к себе на службу. Пусть бы ходил и прощал, я бы сказал ему: Если ты будешь приходить ко мне и рассказывать все, что слышал, обещаю каждый год в день святого Олава прощать трех моих недругов. Но, я знаю, он не станет покупать прощение, продавая безопасность других. Он ответит, что я несправедлив к нему, думая, будто он может быть несправедлив к другим. Нет, надо извлекать выгоду из того, что есть. Гаут здесь, он жив, он такой, а не иной, его не купишь. Если я убью его, я получу мало, но потеряю много. Поэтому пусть себе ходит и кричит, что ярл, и вообще каждый, должен прощать.
Суть в другом. Но сегодня ночью я еще не знаю ее. Неужели я все-таки слишком стар? Что-то ускользает от меня, что-то важное, слова, которые я слышал, лица, которые видел. Они исчезают из моей памяти.
Против меня поднимаются люди, но это неважно, постепенно я расправляюсь с ними. Этот Эйстейн, которого они зовут Девчушкой, человек слабый, мне он не опасен. Пусть приходит, я жду его, по всей стране мои люди ждут его вместе со мной. Молодые парни станут на лыжи и пробегут через всю страну, чтобы предупредить меня, если придут отряды Эйстейна Девчушки. Или задымят сигнальные костры, и тогда молодые женщины, что спят с его воинами, сообразят, что надо бежать через горы и, пока есть время, предупредить меня и моих людей. Иначе я передушу их детей, по ребенку за каждое несказанное ими слово. Я не боюсь Эйстейна Девчушку.
Один из моих людей– Бьярти из Рэ, он не любит меня, и все-таки я могу на него положиться, потому что он трус. Говорят, будто мой сын прогнал его дочь. Ничто не укроется от моих глаз. Не боюсь я и своих людей. Совсем не боюсь слабых, но боюсь ли я сильных, которые хотят быть такими же сильными, как я? Например, сборщика дани Карла и его сына Брюньольва? Я назначил Карла предводителем тех людей, которых послал защищать Нидарос. Но этот священник – кажется, он с Оркнейских островов, уже не помню, – этот священник сказал, будто у той женщины, что пришла с пузырем яда между грудями, есть друзья среди людей сборщика дани Карла. Да, да, священник сказал, что о сборщике дани ходит слух, будто он ее друг. Так говорят всегда. Приходят и говорят, всю жизнь мне передают разные слухи обо всех и о каждом. Правда, обычно они предпочитают передавать слух кому-нибудь безымянному из моих людей, тот передает это дальше, дальше и так слух доходит до меня. Но этот священник говорил, глядя мне в глаза. Я слышал, что у нее есть друзья в окружении сборщика дани Карла, сказал он…
Сегодня ночью я не усну, этот сборщик дани в своем далеком Нидаросе не даст мне заснуть. Или это не он мешает мне спать? Думаю, я могу полагаться на сборщика дани. И в то же время знаю, что нельзя полагаться ни на кого. Я понимаю, что мои люди не говорят мне правды, иначе и быть не может, и мой долг знать это, иначе мне не выжить. Я понимаю, что могу вызвать из Нидароса сборщика дани, держать его у себя под боком и таким образом обезопасить себя, но можно еще отправить ему двусмысленное письмо, напугать его, выразить недоверие его уверениям в дружбе и преданности. Знаю, знаю. Но заснуть нынче ночью я не смогу.
Говорят, что я стар, и нынче я чувствую, что это правда. Я могу убить ее. А могу и не убивать– у меня достаточно власти, чтобы не делать этого. В молодости я долго думал, прежде чем приказывал кого-то убить. В последние годы я уже не раздумываю, ведь я знаю, чего добиваюсь. Однако нынче ночью я поймал себя на том, что подгоняю звено к звену, слово к слову в длинной цепочке мыслей, которая все равно кончится так: Будет лучше, если ты убьешь ее…
Что-то случилось. Моя несчастная жена швырнула мне в лицо проклятия перед тем, как я велел повесить ее сына, она крикнула: Есть то, чего ты не понимаешь!.. Нынче ночью я вспомнил ее слова. Чего жея не понимаю?..
Кто же тот человек, что смотрел мне в глаза, когда говорил со мной? Как бы там ни было, нынче ночью я не усну, и мне не поможет, даже если я заставлю тысячу людей бодрствовать вместе со мной.
А спит ли тот человек, что смотрел мне в глаза, когда говорил со мной?
Спит ли монахиня Катарина?

Я, Катарина, монахиня нашей святой церкви, та женщина, которая любила священника Симона в монастыре на Селье… Детства у меня не было, потому что не было родителей. Про мать говорили, что она утопилась в колодце, чтобы не попасть в руки воинов, про отца– что он был конунг. Вообще-то у меня был приемный отец, если только он заслуживает того, чтобы его так называть. Он подарил меня женскому монастырю на Гримсее, там я и выросла. В благодарность за этот дар монахини после его смерти молились за упокой его души. В монастыре меня наказывали не больше, чем было необходимо, там я постигла многие тайны пергаментов, которые и теперь составляют радость моей жизни. До меня дошли слухи, будто я была зачата конунгом. С тех пор я ненавидела слова: дочь конунга. Они лишали меня покоя. Монахини призывали меня и всем показывали, пока для них было безопасно держать в монастыре девочку, про которую говорили, что ее отец конунг. Но когда началось немирье, а с ним и охота на тех, в ком текла кровь конунгов, мне наказали молчать об этом.
Во мне расцвела женщина, и я спрятала ее под широким плащом, какие носили все монахини. Заточила свои желания за крепкую решетку молитв Деве Марии, такой же нетронутой, как и я. Вместе с сестрами по монастырю я плыла в Нидарос, но нашему кораблю пришлось сделать остановку на Селье. Там я и встретила его. Мы вместе молились, и молитвы наши были так сильны, что сломили преграды между нами. В тот день я была способна разорвать в клочья свое одеяние и бросить его на ветер, с которым унеслась и моя девственность, подарив мне наслаждение, какого я не испытывала даже во время молитвы. Господь всемогущий услыхал мои мольбы в монастыре на Селье. Я заболела и там осталась, а корабль ушел дальше, в Нидарос.
Страсть Симона окружала меня огненным кольцом. Темными ночами его желание полыхало, как пламя, при свете дня его лицо горело огнем. Мы ненавидели одних и тех же людей, из-за которых моя мать утопилась в колодце и которые убили моего отца, а вместе с ними и тех, кто заставил меня дать обещания, которых я давать не хотела. Он обладал мной перед ракой святой Сунневы. Я сказала ему, что и она испытала бы любовь, если б встретила желанного человека. А он, охваченный страстью, покоем, наслаждением и болью, ответил, что святая Суннева покинула родину из-за того, что человек, которого она любила со всей силой грешной земной страсти, оставил ее. Перед алтарем, возведенным в ее честь, Симон бросил меня на землю и вознес к небесам, он держал меня, как знамя, и опустился на меня, точно на живую скамеечку для молитв, с которой он мог приветствовать Бога. Но когда наступил день, меня охватил страх.
Страх проник в меня из всех тайников, страх перед теми, кто боролся с людьми, защищавшими моего отца. Страх перед моими данными и нарушенными обетами, перед рукой церкви, перед святым гневом Господним. И чем сильней был этот страх, тем больше я укреплялась в вере, что я дочь конунга. И слушала Симона, некрасивого, с замкнутым, суровым лицом, на котором мука ненависти оставила свои уродливые следы, но которое я любила и буду любить до самой смерти, говорившего мне про убийц моего отца, про то, что по закону Бога они должны умереть от того оружия, которым мы, бессильные, еще располагаем…
Возьми этот пузырь, Катарина…
И он любил меня, и поднимал на руки, и шептал:
– Спрячь этот пузырь между грудями, ты – женщина, подмешай это зелье в его питье, в их питье, ты – женщина, я могу поднять тебя к небесам и могу опуститься на тебя, как на скамеечку для молитв.
И он обладал мной перед ее святой ракой.
Потом они увезли оттуда раку святой Сунневы.
И тогда я поехала следом за ними, спрятав между грудями пузырь с ядом, и с ядом в груди, с любовью к одному мужчине и ненавистью к остальным. В Тунсберге меня схватили, они били меня, как мужчины обычно бьют женщин, а потом бросили в подземелье. Мне не холодно, на лбу и на щеках у меня выступает испарина, когда я вижу перед собой ту последнюю скамью, где мне вскоре предстоит преклонить колени…
Но в тот день я не стану на нее коленями, а положу на нее голову, и не знающий жалости палач разрежет на моей шее и откинет в стороны девственный клобук, который я когда-то носила по праву. И пока я буду читать Отче наш, он поднимет к сияющим небесам свое оружие и все, кто там будет,– а их будет много, – затаят дыхание, потом молодой рожечник поднесет к губам рожок, раздастся хриплый звук, и… Но последний мои мысли будут о Симоне и о моей любви к нему.
Стражи крикнули мне в подземелье: Хочешь пить? Да, ответила я. Они спустили мне на веревке рог, а когда я хотела осушить его, в нем оказалась моча. Потом они снова крикнули: Хочешь пить? Нет, ответила я. Тогда он спустили ко мне какого-то человека, они смеялись там наверху, и он тоже смеялся, но был испуган, я плюнула ему в глаза, один раз, потом другой, он отвернулся, и я ударила его по лицу. Он тоже ударил меня. И они подняли его наверх.
Вскоре подняли наверх и меня, конюший ярла подошел ко мне и спросил, правду ли говорят, будто я дочь конунга Сигурда? Мне показалось, что в его глазах мелькнуло сочувствие и молчаливое предупреждение. Я еще никогда не осознавала так остро своего королевского достоинства. Оно никогда не было мне так очевидно, я и подумать не могла о том, чтобы отречься от него. И потому сказала упрямо, сгорая от ненависти к ним: Да! Я дочь конунга Сигурда!
Меня увели и снова бросили в подземелье, теперь мне дали воды, но я не стала пить. Охваченная ненавистью, я отказалась от воды, пусть она стоит, я хочу победить и голод и жажду. Я знаю, что далеко отсюда, на Селье, он сейчас молится обо мне, не о моем небесном блаженстве, а о Божьем чуде, о том, чтобы Божий ангел перенес меня к нему и чтобы он мог любить меня там. Он не знает, что я жду смерти.
Страшно мне или нет, весело или нет, но я знаю, что умру не смелой дочерью конунга и не кающейся монахиней, а женщиной, которая когда-то любила мужчину.
И ненавидела тех, кого ненавидел он. И я буду ненавидеть их, пока смерть не освободит меня.
Вот они пришли.
***
Стояла темная осенняя ночь, в монастыре Олава в Тунсберге было холодно, шел дождь. Я знал, что каждый удар моего сердца приближает тот час, когда Катарина встретит смерть. Мы со Сверриром спали на одной постели в ночлежке, которую монастырь держал для путников, в ту ночь там не было никого, кроме нас. Но спать мы не могли. Сверрир встал и сел на табурет, стоявший в изголовье. Его сильное лицо посерело от страдания и недостатка сна. Он тихо заговорил:
– Аудун, даже ты думаешь, что во мне нет сострадания к этой женщине, которая, быть может, приходится мне сестрой и которая скоро умрет! Но давай сложим все наши мысли и взвесим их, как взвешивают на ладони кусок серебра. Что изменится, если я стану плакать по ней? Что изменится, если я даже схвачусь за нож или украду меч, если ты последуешь за мной, если я заставлю Бернарда отбросить четки, тоже взяться за меч и пойти с нами? Предположим, мы перебьем стражу. Предположим, мы спасем ее. Предположим, мы достанем лошадей, уедем под покровом ночи, украдем лодку и уплывем на ней до наступления дня. В лучшем случае мы на полдня опередим погоню, посланную за нами ярлом. Но в этой стране каждый человек слушается приказа ярла и дружина бросится по нашим следам, словно стая голодных псов. Ее поймают, и нас тоже. Разве это ей поможет? Это не поможет и нам.
Я предусмотрительный человек, Аудун, такую предусмотрительность некоторые называют трусостью. Я действую только тогда, когда твердо знаю, что мне будет сопутствовать удача. И никогда, если знаю, что удача не улыбнется мне. Вот и все. Я знаю, что спасти ее может только Бог. И знаю, что Бог этого не хочет. Но не знаю почему – потому ли, что в нем тоже нет сочувствия к людям, или потому, что у него есть свой, неведомый нам, жалким, умысел. Мне бы хотелось верить последнему. Но в любом случае, что бы я ни сделал, это ей не поможет. Поэтому я должен отказаться от мысли спасти ее.
Возможно, она – моя сестра, кто знает! Но если и нет, неужели по этой причине я не должен испытывать боль за нее и вообще за всех, кого ярл посылает на смерть? Неужели я должен помогать только тем немногим, кого можно считать моими сестрами? Но если я должен помочь всем, мне следует продвигаться осторожно, шаг за шагом, оглядываться и остерегаться, чтобы не споткнуться там, где споткнулись они. Тот, кто хочет выступить против ярла, должен держаться в тени и заявить о себе лишь тогда, когда будет готов ударить внезапно, как гроза в ясный день. Пойми, Аудун, я весь горю, но принуждаю себя к спокойствию. Мне кажется, будто я куда-то плыву, к какому-то водопаду, который вот-вот подхватит меня. Этот водопад гораздо сильнее, чем я. Меня несет вперед, я не хочу и вместе с тем хочу… Должен… Вот так, Аудун. Но все, что горит во мне сейчас, весь жар и ненависть – к ярлу, к его дружине и ко всем принесенным ими несчастьям – все это я должен сдерживать силой воли. Ты понимаешь?
Он замолчал, по-моему, он плакал, говорил он тихо, ведь в этом городе ярла и стены имели уши.
– Нынче ночью я думал: если бы страна норвежцев была счастливой страной, мы с этой женщиной могли бы встретиться как брат и сестра. В детстве могли бы вместе играть, в юности – вместе молиться и поддерживать друг друга. Но не теперь. Теперь мне придется смотреть, как ей отрубят голову, иначе кто-нибудь из людей ярла заметит, что меня нет на месте казни, побежит и доложит об этом ярлу. Мне, сыну конунга, придется заставить себя спокойно смотреть, как казнят мою сестру! Аудун, я сын конунга! Понимаешь ли ты ту ненависть… – Голос его окреп и зазвучал громче, но он взял себя в руки, заставил успокоиться и долго молчал, он даже охрип от ненависти и скрытого жара. – Я, сын конунга, должен заставить себя смотреть, как моей сестре отрубят голову!. Но, Аудун, мой день придет…
Он назвал себя сыном конунга, это были опасные слова. Первый раз он произнес эти слова, ясно сознавая их смысл. В нем не было сомнения, страха или радости, он просто заявил об этом, принял на себя эту ношу и понес ее дальше. Ему не нравилась эта ноша, но он понимал, что избран нести ее. Не без гордости, но с глубокой печалью сказал он эти слова, что переполняли его сердце и стали его судьбой, и других тоже.
Тут пришел Бернард.
***
Надо было собраться и идти, над городом серели предрассветные сумерки, но дождь был не такой сильный, как ночью. Мы плотнее закутались в рясы, Бернард взял факел, но когда мы вышли в монастырский двор, было уже достаточно светло, и он погасил его. Мы шли вдоль озера к горе, вдали трубил герольд. Он созывал людей на место казни. Из волоковых окон поднимались дымки. Это работницы раздували спавший в углях огонь прежде, чем натянуть на себя платье, закутаться в фуфайки и выйти под холодный осенний дождь, чтобы увидеть, как умрет женщина. Жителей города оповестили, что они должны собраться на место казни, где женщина, пытавшаяся отравить ярла, понесет заслуженное наказание. И люди собирались, не без охоты, раздували тлевшие под золой угли и шли.
Последняя встреча Катарины с дневным светом должна была состояться к северо-востоку от горы, на небольшой площади. Там уже толпились люди, молодые, старые и даже малые дети, сонно висевшие на руках у матерей. Ивар и его родители, державшие трактир у причалов, объявили людям, что когда все будет кончено, их ждет в трактире доброе пиво. У хозяина трактира был еще один сын, его звали Гуннар, он добровольно предлагал свою помощь при совершении казни. Это его называли Вешальщик. Оба сына были ловкие и работящие парни. Их мать сбежала домой еще до появления Катарины, она должна была все приготовить в трактире к приему гостей. Мы увидели Хагбарда Монетчика.
Он направился к нам с Малышом на плечах. Малыш был не в духе – ему хотелось спать. Отец утешал его и обещал дать медовую палочку, если он будет хорошо вести себя. Малыш немного подобрел, но все еще был угрюм, отец, как всегда, оживленно болтал и говорил сыну нежные слова. Он поправил на нем башмаки, наклонился ко мне и тихо спросил:
– Нынче вечером?
– Да, – также тихо ответил я.
Пришел Серк из Рьодара и с ним еще несколько воинов, они принесли большую колоду. Бросив ее на землю и отдышавшись, они стали искать углубления в земле, чтобы колода стояла прочно и не шаталась. Площадка была наклонная и скользкая от дождя. Серк обругал одного из своих подручных за то, что тот не догадался прихватить с собой лопату. Какой-то старик, который не мог ходить без посторонней помощи и опирался на сына, вытащил старый ржавый нож и спросил, не сгодится ли он. Серк взял нож и вырезал кусок дерна, получилось углубление, теперь колода стояла надежно. На нее было удобно положить голову тому, кто должен был стоять перед ней на коленях последний раз в жизни. Все было готово.
Пришел и мой добрый отец Эйнар Мудрый, в последние дни мы с ним почти не виделись. Мы оба решили, что будет лучше, если никто не узнает о нашем родстве. Тем не менее он подошел и поклонился нам, но ведь мы были священники, а он – простой прихожанин. Отец обращался ко мне, как к чужому, опасаясь, что кто-нибудь посторонний услышит наш разговор. Сперва мы поговорили о погоде, зима была уже на носу, потом он сказал несколько добрых слов о справедливости ярла и выразил радость, что виновная понесет наказание. Когда он наклонился, чтобы потуже затянуть ремни своих башмаков, его губы коснулись моего уха:
– Нынче вечером? – спросил он.
Я молча кивнул. Нынче вечером уходил торговый корабль, который должен был доставить нас в Конунгахеллу. Кормчий был другом Бернарда, он собирался пройти фьорд в темноте.
Эйнар Мудрый сказал, что накануне вечером истолковал сон Гуннару Вешальщику, тому парню, который должен был помочь отрубить голову приговоренной к смерти монахине. У Гуннара на душе было тревожно. Ему приснилось, что его окружила стая рыб, у одной из них были длинные волосы. Гуннар схватил ее за волосы, и она утащила его на дно.
– Я так истолковал этот сон, – сказал Эйнар. – Кто-то с длинными волосами утащит тебя в глубину.
Он коротко и холодно засмеялся, повернулся спиной к ветру и стал снова тем мудрым и сильным человеком, который умел справляться с любыми обстоятельствами. Герольды затрубили опять.
Люди с уважением говорили о ярле, который решил отрубить женщине голову вместо того, чтобы повесить ее. Воров и разбойников обычно вешали, если только никто из воинов не выражал желания поработать мечом. Во время своего похода в Йорсалир ярл видел, как в других странах казнят важных преступников, и понял, что человек с петлей на шее выглядел не так внушительно, как, положивший голову на плаху. Поскольку Катарина была женщина, он явил ей свою доброту. Серк из Рьодара снова подошел к колоде и проверил, крепко ли она стоит на месте. Колода стояла крепко.
Тогда явились они, первым шел преподобный Бьярни, личный священник ярла, которому был обещан отдельный алтарь в церкви святого Лавранца в Тунсберге, где бы он молился за душу ярла, когда того самого уже не будет в живых. Преподобный Бьярни читал на ходу молитвы и время от времени оборачивался к Катарине, идущей позади него. Волосы у нее были распущены, подхваченные ветром, они окутывали ее, словно плащ, Рыжеватые, когда-то красивые, теперь они поблекли, но серый рассвет, дождь и ветер как будто вернули им прежнюю красоту. Катарина шла выпрямившись, с поднятой головой, но глаза у нее были опущены, одета она была легко. Ходили слухи, будто ярл приказал сорвать с нее одежду, как только ее поднимут из подземелья, – нагая, словно только что явившаяся из лона матери, она должна была пройти по улицам Тунсберга. Но в этих слухах была не правда, а лишь тайные желания людей. Ярл был слишком умен, чтобы не делать того, в чем не было необходимости, – как монахиню, Катарину должны были оградить от бесстыдства. При виде одетой Катарины толпа выразила свое недовольство. Преподобный Бьярни запел псалмы. Бернард наклонился ко мне и прошептал:
– Она заслужила лучшего пения…
Нас отделяло от Катарины всего несколько шагов, я наблюдал за ней. Она подняла голову, глаза ее смотрели вдаль, на вершины гор, на хлопья тумана, летящие над Тунсбергом. На щеках у нее виднелись следы слез, теперь она не плакала. Сложив руки и погрузившись в себя, она молилась, губы ее не шевелились. Она не была связана. Волосы ее развевались на ветру, как плащ.
Тогда пришел Гаут. Он протиснулся через толпу и подбежал к ней. Один из воинов хотел отшвырнуть его и схватил за руку. Но Гаут вырвался и спросил у преподобного Бьярни:
– Можно мне поговорить с ней?
Вокруг них сгрудились люди, один воин обнажил меч, другой крикнул, чтобы все отступили.
– Прогоните этого человека! – крикнул он.
Но что-то в Гауте подействовало даже на преподобного Бьярни. Он отстранил воинов и спросил у Гаута, что ему надо.
– Я хочу, чтобы она простила, – громко ответил Гаут. Все слышали его слова, потом он обратился к Катарине:
– Сестра, я почти не знаю тебя. О тебе ходит столько слухов, но ведь люди часто лгут, я не знаю, что ты совершила, а чего не совершала, читать в твоем сердце может только Бог. Но я был у ярла и сказал ему: Ты должен простить ее! Он этого не сделал. У него нет мужества, необходимого, чтобы прощать. А ты можешь простить его?
Они стояли друг против друга – женщина, идущая на встречу с Богом, и однорукий Гаут. Он обнял ее своей единственной рукой, они склонили головы и вместе молились. Немало осталось глаз, которые не увлажнились бы слезой, но шел дождь и потому даже у мужчин были мокрые лица. Гаут и Катарина молились недолго. Она первая подняла голову и тихо сказала:
– Я всем прощаю, даже ярлу, если это может тебя обрадовать.
Он осенил ее крестным знамением.
Потом она поцеловала его, это было так красиво, наверное, Гаута в первый раз поцеловала женщина, а Катарина в последний раз поцеловала мужчину. Он снова обнял ее и прошел с ней несколько шагов. Наконец они остановились у плахи, там он склонил голову и отошел назад.
Преподобный Бьярн пел псалмы, но его голоса было почти не слышно. Властным жестом Катарина отослала его прочь. Гуннар Вешальщик, который должен был помогать во время казни, связал ей волосы веревкой. Она даже помогала ему – его непривычные к этой работе руки делали ей больно. Потом Катарина опустилась на колени, она молилась, я тоже, мне казалось, что мы вместе произносим одни и те же слова. Гуннар легонько потянул ее за волосы, на мгновение она как будто воспротивилась. Он потянул сильнее, тогда она наклонилась вперед и положила голову на колоду. Гуннар тоже встал на колени, иначе он не мог держать ее волосы. Теперь к Катарине подошел Серк из Рьодара в Мере. Недавно в Тунсберге был убит брат Серка, и говорили, что Серк добровольно взял на себя эту работу, ибо пребывал в мрачном расположении духа. Он поправил голову Катарины, лежавшую на плахе. Из древесины торчал сучок, и Серк немного отодвинул ее голову в сторону, чтобы сучок не царапал ей щеку. Тело Катарины вздрогнуло и напряглось, Гуннар крепко держал ее за волосы. Она затихла.
Теперь преподобный Бьярни должен был читать молитвы, и опять его голоса было почти не слышно. В тихом чтении не было толку, к тому же нельзя было заставлять Катарину долго ждать в таком положении. Серк из Рьодара схватил топор – недавно наточенный, блестящий боевой топор, который какой-то добрый горожанин угодливо держал наготове. Топорище было удобное и не скользило в руке. Серк поднял топор и прицелился. Гуннар, державший волосы Катарины, дрогнул и слишком сильно натянул их. Серку пришлось опустить топор, наклониться и снова поправить голову Катарины. Он что-то сердито сказал Гуннару, и парень покраснел, получив выговор на глазах у толпы. Колода оказалась низка, Катарине было неудобно и шея у нее напряглась, а это могло помешать Серку, он был слишком высок. Серк пошире расставил ноги, нашел удобное положение и снова поднял топор.
Потом он опустил топор и осторожно, чтобы не поранить, прикоснулся острием к шее Катарины. Катарина не издала ни звука. Серк снова поднял топор и в промежутке между двумя порывами ветра изо всей силы опустил его на шею Катарины.
Потеряв опору, Гуннар опрокинулся на спину, и кровь казненной женщины залила его одежду.
Так умерла Катарина, монахиня святой церкви, возможно, дочь конунга, возлюбленная священника Симона.
Когда настала ночь, наш корабль вышел из Тунсберга.

Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































