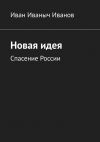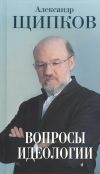Текст книги "Политический миф. Теоретическое исследование"

Автор книги: Кристофер Флад
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Характерный пример
Для иллюстрации сказанного выше обратимся к статье Джона Дея, где рассказывается о политических мифах, сопровождавших подъем африканского национализма в Южной Родезии (ныне Зимбабве) в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Основные источники Дея – репортажи журналистов и официальные документы того периода. Дей использует термин «миф» в более широком смысле, нежели автор этой книги. В его понимании, этот термин приложим не только к политическим повествованиям. Автор рассматриваемой статьи считает возможным «называть мифами фантазии, представленные не только в повествовательной, но и в обобщающей форме» (1975: 22). Я не стану рассматривать здесь все функции, которые, по мнению Дея, мифы выполняли внутри заинтересованных социальных групп. Я остановлюсь только на тех моментах, когда поведение, которое Дей считает чисто иррациональным, можно с таким же, если не большим, успехом, увидеть и в ином свете.
Дей, в 1964 г. преподававший в Родезийском университете, полагает, что правившие в ту пору страной европейцы верили: подавляющее большинство африканцев приняли европейское владычество. С конца XIX в. до середины 1950-х гг. акции протеста были слабыми и эпизодическими; однако в середине 1950-х, как утверждает Дей, «убеждение в том, что африканцы безропотно согласны с господством европейцев (между прочим, и прежде бывшее непозволительным упрощением проблемы), сделалось мифом» (53). Африканские националисты, со своей стороны, пустили в массы множество преувеличенных сообщений, призванных показать, что европейские власти несут с собой зло, осознанное и заранее рассчитанное. Дей считает, что эти и другие мифы той поры искажали действительность. Искажения он относит на счет «эмоционального накала, основанного на фундаментальных разногласиях внутри общества, из-за чего в обоих противоборствующих лагерях родились мифы, обладавшие значительной силой воздействия» (52). Таким образом, продолжает Дей, рассказы о происходящих событиях приобрели функцию психологической защиты. «Мифы были не просто сказками, удобным для политических лидеров орудием манипулирования массами; они служили для обработки в нужном ключе политической информации, важной как для самих мифотворцев, так и для публики, которой они предназначались» (65).
Могло быть и так. Но сообщение Дея может быть истолковано и по-другому. По словам самого Дея, Южная Родезия представляла собой общество, основанное на строгой сегрегации, где «европейцы по большей части видели африканцев лишь как работников, которые имеют более низкий социальный статус и которым можно мало платить. Представители двух рас жили, в сущности, изолированно друг от друга» (65). Дей рассматривает сегрегацию исключительно как фон для самообмана обеих сторон и намеренного ухода от сложностей реального положения дел, поэтому он не принимает во внимание тот факт, что на ситуацию могло повлиять простое невежество. Между тем тот же Дей подчеркивает, что содержательного диалога между сторонами не было. Отсутствие свободного и прямого общения, несомненно, оказалось самой питательной почвой для всякого рода слухов, анекдотов, недостоверных сообщений, рожденных спецслужбами, разного рода поставщиками информации, журналистами; каждый из них рассматривает ситуацию под своим, особенным углом зрения и исходит из собственных убеждений. Сам Джон Дей говорит: «Вот пример типичного поведения европейца: официальный представитель службы развития территорий пожаловался, что африканцы, прослушав в субботу выступления представителей Конгресса [Африканского национального конгресса [29]29
Африканский национальный конгресс – политическая организация, отстаивавшая права африканского коренного населения и боровшаяся против политики апартеида.
[Закрыть]], в понедельник и во вторник разговаривали с ними сквозь зубы, а к четвергу уже забыли о своих агитаторах» (54).
Дей замечает: «Европейцы уверовали в то, что африканцы в большинстве своем сочетают политическое невежество с эмоциональной неустойчивостью; поэтому, даже если они не интересуются всерьез политикой, все равно могут легко быть захвачены риторикой бессовестных демагогов» (54). Иначе говоря, европейцы были убеждены в том, что большинство населения в душе не поддерживало национализм, оно всего лишь было совращено с пути истинного кучкой ниспровергателей, которых подпитывали иностранные политики левого толка. Возможно, это и заблуждение, вызванное идеологическими причинами; и все же его не стоит рассматривать исключительно как самообман. Этот взгляд можно объяснить с точки зрения ситуационных эффектов. Коль скоро одна расовая группировка властвовала над другой на протяжении многих десятилетий, не встречая организованного сопротивления, и «африканцы из Южной Родезии традиционно покорялись своим властителям из Европы» (64), нет ничего иррационального в том, что господствующая группа заключила, что нынешняя ситуация аналогична той, что имела место ранее, когда наблюдались только временные волнения, тем более, как указывает Дей, не было точных данных об уровне общественной поддержки действий Африканского национального конгресса (АНК). А если одна расовая группа привыкла доминировать на общественной сцене и видеть покорность со стороны другой расовой группы, опять-таки нет ничего иррационального в выводе о том, что большинство относительно довольно существующим положением вещей и что группы играют именно те социальные роли, которые им предписаны природой. Европейцы считали, что делают благое дело, управляя страной, и плохо знали африканцев (а может быть, даже не считали последних достойными пристального изучения); поэтому вовсе не была иррациональной уверенность в том, что африканцы не страдают от гнета. Лидеры АНК активно занимались агитацией, страну посещали британские лейбористы; следовательно, у властей были достаточные основания опасаться разрушительных тенденций, берущих начало как внутри страны, так и вне ее пределов. Дей признает, что националисты стремились обратить население в свою веру; поэтому не представляется иррациональной линия властей на запугивание, особенно если учесть укорененные в умах европейцев предубеждения и взгляды.
Почти те же аргументы можно представить и в защиту африканских националистов. Принимая во внимание отсутствие тесного контакта между социальными группами, едва ли следует считать более рациональным взгляд националистов на европейских правителей как на «заблуждающихся, плененных предрассудками политиков» (64), изображаемых Джоном Деем, а не как на расчетливых злодеев и корыстных эксплуататоров, какими их рисуют африканские националисты. Вероятно, эмоциональный накал отчасти обусловил повышенную степень доверия к самым резким и недоказанным утверждениям. Но в условиях, когда активисты националистического движения сталкиваются с крайне жестким отношением властей, когда их арестовывают, ссылают, когда политические партии подвергаются систематическим репрессиям, нельзя усмотреть что-либо иррациональное в возникновении предубеждений против европейского руководства.
В среде африканских националистов зародились и другие мифы. В начале 1960-х гг. они тешили себя иллюзиями о скором приходе большинства к власти, поскольку европейская администрация уступит нажиму; а если власти будут сопротивляться, произойдет стихийная революция. Националисты предсказывали неминуемый успех вопреки очевидным свидетельствам, доказывающим неблагоприятный характер ситуации. Впрочем, вес оптимистическим прогнозам придавали несомненные успехи, достигнутые в тот период в соседних Северной Родезии [30]30
Ныне Республика Замбия.
[Закрыть] и Ньясаленде [31]31
Ныне Республика Малави.
[Закрыть]. Дей отмечает, что «в 1964 г., когда прочно удерживающий власть [правящий европейский] Родезийский фронт запретил деятельность двух националистических партий в Южной Родезии, обрекая африканцев на политическую пассивность, Северная Родезия и Ньясаленд находились уже на пороге независимости и готовились сформировать национальные правительства местного большинства» (59). Дей указывает на этот контраст как на доказательство того, что националисты Южной Родезии искали утешения в самообмане.
Однако Дей впадает в существенную ошибку, применяя к представлениям, существовавшим в эпоху колониальной борьбы, позднейшие знания об ее итогах. Не касаясь здесь возможности сознательного манипулирования со стороны лидеров националистов, отметим, что иррациональный элемент мог присутствовать постольку, поскольку людям хотелось верить в успех вопреки всякой вероятности. Но неужели было что-то иррациональное в том, что националисты Южной Родезии видели в событиях в Северной Родезии и Ньясаленде свидетельство возможности победы националистического движения? История показала, что националисты Южной Родезии заблуждались, проводимая ими аналогия была неправомерной, но это еще не значит, что их позиция строилась на иррациональной основе.
Кроме этого, националисты твердо верили в единство всех африканцев в стране. Тот факт, что на деле в националистическом движении наблюдался глубокий раскол, приводит Дея к следующему неверному выводу: «Члены одной африканской националистической партии, признавая существование другой, обвиняли ее членов в том, что они работают исключительно для себя, в интересах своего племени или европейского империализма. Члены противоборствующих партий рассматривали своих противников не как законную группу, действующую в интересах нации, а как группу себялюбцев, опасных для нации» (62). Признавая известный эгоцентризм и позерство некоторых националистических лидеров, нельзя не отметить следующее. Предположим, члены группировки А считают абсолютной истиной свои представления о том, что такое националистическое движение и какими способами оно может достигнуть своих целей, тогда как группировки Б, В и Г отказываются разделять взгляды группировки А и разрабатывают свои стратегии. В этой ситуации группировка А неизбежно будет воспринимать группировки Б, В и Г как источники угрозы для единства движения и его конечного успеха – как он видится группировке А. Можно, конечно, сказать, что такая позиция неверна, поскольку она базируется на необоснованном убеждении в том, что группировка А обладает монополией на истину. Но, если и признать неправомерность утверждения о том, что в специфических условиях Южной Родезии у националистического движения коренного населения существовал только один путь, все же подобное заблуждение нельзя считать самообманом, вызванным эмоциональным возбуждением. Оно является продуктом сложного переплетения психологических процессов (как ни банально это звучит). Мы можем сказать, что такое мнение неверно, оно основано на ложных посылках, в случае Южной Родезии оно оказалось губительным, но иррационально ли оно?
Было бы слишком просто объяснять веру в ложные интерпретации политических событий в терминах иррационального, не пытаясь проанализировать причины, в силу которых люди, непосредственно вовлеченные в эти события, считали свои мысли и действия разумными. По несколько другому поводу Джон Томпсон замечал: «Точный анализ политической пропаганды должен быть основан на системной реконструкции условий, в которых эта пропаганда велась и воспринималась, и ее отношений с широким социальным контекстом» (1991: 29). Такой подход проще провозгласить, чем претворить в жизнь, но он указывает верное направление аналитической работы.
Глава 5
Вопросы формы
Цель этой главы состоит в том, чтобы доказать: внимание к речевым характеристикам теоретических споров и мифологического повествования является необходимым условием анализа продуктов, которые производит и воспроизводит идеология. Начнем же мы с обсуждения определений. Эта проблема уже была поднята в теоретической литературе.
Проблема определения (1)
Некоторые ученые считают повествовательную форму существенной характеристикой политического мифа. Некоторые, но отнюдь не все. К числу оппонентов подобной точки зрения принадлежит, в частности, Альфред Сови. Он определяет мифы наших дней как «главным образом, безыскусные изложения имевших место событий, которые видоизменяются по мере все более глубокого изучения предмета» (1965: 8) и как «широко распространенные представления, которые при ближайшем рассмотрении отмирают или, по меньшей мере, существенно преобразуются» (10). Согласно воззрениям Сови, миф – это широко распространенное и устойчивое верование народных масс, которое не меняется даже тогда, когда специалисты представляют относящиеся к нему события в совершенно ином свете. Иными словами, для Сови миф сводится к идеям (или к их изложению), и форма их выражения для него несущественна. Из приводимых им примеров становится ясно, что то, что он понимает под мифом, может быть представлено в повествовательной форме. Так, Сови утверждает, что описываемые им мифы являются модернизированными и лишенными сакральности отголосками священных мифов, бытовавших в древних или малоразвитых обществах. Но сутью мифа остается верование, абстрагированное от повествовательной формы, в которую оно облечено.
Эта концепция мифа представлена в различных вариациях (напр., Эдельман 1975; Герлинг 1993). Эти работы отличаются значительными достоинствами в прочих отношениях, но все они рассматривают «миф» (безотносительно к повествовательной форме) как едва ли не синоним «идеологического верования», причем прилагательное «идеологический» понимается чрезвычайно широко, т. е. как «иллюзорный» или «искаженный». Понятно, что нельзя целиком полагаться на словоупотребление, но подобная интерпретация слова «миф» стала вполне обиходной. Однако аналитика такое понимание либо лишает четкости представления о различных гранях идеологической коммуникации, либо заставляет более точно определять разные формы идеологического повествования.
Форма сказания принимается, пусть и неявно, как данность в работах Сореля и Кассирера, посвященных мифологическому повествованию. В том, что касается форм, суждения Сореля довольно туманны, хотя и небезынтересны. В качестве примеров мифов он использует христианские ожидания апокалипсиса и конца тысячелетия, надежды Лютера и Кальвина на религиозный расцвет Европы, взгляд наполеоновских солдат на самих себя как на эпических героев, чьи жизни посвящены прославлению Франции, и романтическое представление Мадзини о единстве Италии. Отсюда явствует, что Сорель понимает миф как эсхатологическое пророчество. Мифу он противопоставляет «утопию», которую понимает как проект будущего, построенный на рациональной основе (критическое рассмотрение данных терминов см. в: Холперн 1961; Стенли 1976; Левитас 1990: 59–82). Миф повествует о том, что случится, когда придет время, тогда как утопия предписывает, что должно случиться. В глазах Сореля мифы – это «группы образов» (1961: 42), где «люди, участвующие в великих социальных потрясениях, представляют свои действия как часть битвы, в которой их ожидает триумф» (41–42). Миф о всеобщей революционной забастовке представляется как «система образов, созданных исключительно интуицией, еще до какого-либо рационального анализа, и все же способных пробудить спектр чувств как единую массу, которая проявится в войне, объявленной социализмом современному обществу» (122–123).
В этой интерпретации миф предстает как единое, нерасчленимое целое, поскольку «миф есть целостность, которая одна лишь имеет значение', его части могут интересовать нас постольку, поскольку в них выражается основная идея» (126; курсив Сореля). Важен драматизм действия, яркость образов, а не детали. О деталях не стоит и говорить, поскольку миф есть также «очерк будущего, которое настанет в некое неопределенное время» (124). Переход от капитализма к социализму должен «рассматриваться как катастрофа, развитие которой не поддается никакому описанию» (148). Таким образом, как уверяет Сорель, мифы неподвластны анализу, поскольку они взывают не к силе рассудка, а к неопределимому стремлению к спасению.
Утопии же, в понимании Сореля, являются теоретическими конструкциями. Идеи Просвещения, теории либеральных экономистов, аргументы социалистов – сторонников парламентской демократии – все это утопии. Следовательно, они не могут служить инструментами для претворения в жизнь радикальных политических планов. Утопии – продукты интеллектуальной деятельности, «труда теоретиков, рассмотревших и обсудивших известные факты и пожелавших построить модель, с которой можно сравнить существующее положение в обществе и таким образом оценить долю добра и зла в нем» (50). Утопия – это не инструмент социальных трансформаций, поскольку ее структура позволяет легко расчленить ее и приспособить к нужным целям. В то же время некоторые элементы утопии могут быть приспособлены к нуждам существующего общества. Именно в этой области можно найти объяснение тому факту (отмечаемому Сорелем), что многие теоретики-утописты сделали успешную карьеру в политике.
Представленная Сорелем интерпретация мифа частью зависит от нашего отношения к интуиционистской философии Анри Бергсона [32]32
Анри Бергсон (1859–1941) – французский философ.
[Закрыть], которого Сорель охотно цитирует в своей работе (см. 46–48,123,127,128). Терри Иглтон указывает, что Сорель понимает миф как «предрефлективный, предповествовательный образ» (1991: 187). Тем не менее, такой образ способствует идее всеобщей забастовки. Сорель полагает, что мифы являются повествованиями постольку, поскольку они представляют схематичный проект будущих исторических событий, хотя при этом они могут свестись к нескольким ключевым словам и лозунгам.
Как и Сорель, Кассирер не фокусирует своего внимания непосредственно на повествовательной форме. Его подход состоит в том, что он определяет так называемое «мифическое мышление», или «мифическое воображение» как тип сознания, проявляющегося в самых разных формах. Как правило, используя термин «миф», Кассирер, по всей видимости, обращается к мифологическим повествованиям; порой это становится очевидным (см., напр. 1946: 23–24). Однако его изначальный интерес к специфической форме мышления, нашедшей воплощение в мифе, заставляет его в большей степени сосредоточиваться на идеях и на образе мышления, в рамках которого они кристаллизуются. Когда Кассирер обращает внимание на лексическое оформление идей и на использование неологизмов в идеологических целях (283), он не предлагает нам ничего нового для рассмотрения политических текстов как собственно текстов.
Но даже при этом очевидно, что Кассирер, как и Сорель, видит принципиальное различие между мифологическим и теоретическим повествованием, имеющим отношение к политической сфере. Вторая часть работы Кассирера «Миф о государстве» носит красноречивое название «Борьба против мифа в истории политической теории». В начале Кассирер обращается к Древней Греции: «Греческая философия впервые обратилась к рациональной теории государства. Как и в других областях знания, греки были здесь пионерами. Мифологическую концепцию истории первым поставил под сомнение Фукидид. Одним из его первых, принципиальных положений было исключение понятия «сказочного» (53). «Логос» Сократа, т. е. рациональный, систематический поиск самопознания может служить моделью для разрешения фундаментальных проблем этики (60). В политическом плане «логика и диалектика Платона учат нас классифицировать и систематизировать наши представления и мысли, приходить к построению истинных иерархий» (77). Следовательно, Кассирер, искушенный философ, преклоняет колена перед теоретическими построениями предшественников, тогда как Сорель, интеллектуал до мозга костей, молится совсем иным богам.
Проблема определения (2)
В отличие от Сореля и Кассирера, некоторые теоретики заявили о своем толковании политического мифа как повествования. Например, Генри Тьюдор в своей работе «Политический миф» определяет последний как «историю, драматизированный рассказ о событиях» (1972: 16). Помимо признания единства политического мифа со священным мифом как повествовательных конструкций, взгляд Тьюдора на политический миф привлекает наше внимание к сложной связи между повествовательной формой мифа и передачей идеологических верований. Тьюдор утверждает, что «в любом цивилизованном обществе, построенном на разумных основаниях, мифы вплетены в ткань общей идеологии, базирующейся на поддерживающих друг друга воззрениях» (127). Тьюдор приводит одно-два определения идеологии, причем весьма туманных, но ясно, что мифу и теории он отводит роли, взаимно дополняющие друг друга, поскольку «миф придает теоретической установке конкретное воплощение и место во времени, которого иначе это воплощение не имело бы; а теоретическое обоснование придает мифу научную респектабельность и вневременную значимость» (126). В такой интерпретации миф и теория, естественно, мирно сосуществуют и усиливают друг друга.
Джордж Иджертон, сторонник модели Тьюдора, замечает, что любая значительная идеология рассматривает исторические и эсхатологические стороны мифа. Подобно Тьюдору, Иджертон подчеркивает отношение мифа к породившей его теории:
Историю можно использовать в драматической, конкретной, персонифицированной, поучительной форме – в противоположность теоретическим абстракциям или умозаключениям, применяемым в философии истории. Влияние мифа, его сила являются производными от мастерства, с которым миф рассказывается, передается, и от его социальной востребованности. Успешно функционирующий миф делает общественным достоянием самые широкие и абстрактные представления, используемые связанной с ним идеологией (1983: 501).
В этом подходе мы встречаемся с потенциально плодотворной системой аргументов, обращающих особое внимание исследователя на специфику политических повествований как собственно текстов. Но ни Тьюдор, ни Иджертон не представили четких схем, пригодных для описания политических мифов как текстов, бытующих в устной или письменной форме. Этот упрек можно отнести и к другим авторам, разрабатывавшим данную тематику. Обобщения, яркие примеры, безусловно, ценны сами по себе, но их недостаточно для того, чтобы определить те специфические свойства рассказа, предлагаемого аудитории в определенных обстоятельствах, которые позволили бы ему выполнить возложенную на него идеологическую роль.
Дэн Ниммо и Джеймс Коме в книге «Подсознательная политика» пошли дальше Тьюдора. Их концепция базируется на воззрениях литературного критика Кеннета Бурка. Вслед за Бурком они определяют миф как драматическое действо, содержащее ряд ключевых элементов: «действие; его участник (или участники); применяемые ими средства; арена действия – время, место, обстоятельства; цели участников, движущие ими мотивы» (1980: 16). Но далее Ниммо и Коме не развивают предложенную модель, т. е. не применяют ее систематически к мифологическим текстам. Приводимое ими определение мифа как «драматического целого, рассказа, который явно или скрыто содержит все пять составляющих описанного Бурком драматического повествования, имеет начало, середину и конец» (17–18), они как будто сами оспаривают, заявляя далее, что определение мифа как повествования о событиях, облеченного в драматическую форму, является чересчур узким.
В нашем понимании миф драматичен по форме, но не обязательно представляет собой отчет о событиях, повествование. Современные мифы о первых лицах государств, о силе или слабости правительств, о политическом героизме могут и не включать в себя масштабных описаний так называемого политизированного общества. Скорее можно ожидать от них драматизированных представлений политического сегодня, лишь косвенно связанных с глобальными представлениями об историко-политическом мироустройстве (25).
Это определение позволяет нам воспринимать миф не только как рассказ. Ниммо и Коме ссылаются на многих предшественников, в том числе на Харольда Лэссуэлла и Эйбрахама Каплана, авторов концепции политического мифа как системы фундаментальных политических символов и перспектив, Джорджа Вудкока (политический миф есть фикция, основанная на устремлениях определенной политической силы) и Мюррея Эдельмана (политический миф есть не подвергаемое сомнениям верование, распространенное среди членов значительной общественной группы). В результате миф предстает как «символический образ политической реальности» (25). Такое определение позволяет Ниммо и Комсу чрезвычайно расширить содержание понятия «политический миф», сделать его применимым к любым ненаучным воззрениям и верованиям. Такая трактовка распространяется на идеологию в целом, ибо идеология есть «собрание мифов», и ее составляют «передаваемые из уст в уста образы и сюжеты, привязывающие людей к мифологической карте политического мира, которая будет служить им ориентиром в их представлениях о прошлом, настоящем и будущем» (83). Она включает также понятия о политических вопросах, тенденциях, общественном мнении (88–89). Здесь же мы можем найти распространенные политические суждения и предрассудки (145–147). Следовательно, данная модель представляет множество возможностей для интерпретации.
Ниммо и Коме не одиноки в своей трактовке мифа как повествования, причем в очень широком понимании. В книге «Американский миф, американская реальность» Джеймс Робертсон говорит, что «мифы – это рассказы; это выводы, извлеченные из рассказов; это представления о вещах «какие они суть» в глазах людей, принадлежащих к тому или иному обществу; это образцы, к которым прибегают люди, желая осознать окружающий мир и его влияние на них» (1980: XV). Подобным же образом утверждает свое кредо и Джон Дей в своем исследовании, посвященном политическому мифу Южной Родезии: «В настоящей статье слово «миф» употребляется в том значении, которое придается ему Тьюдором, причем я согласен считать «мифами» и те тексты, которые имеют форму не повествования, а обобщения» (1975: 52). И здесь «миф» становится всеобъемлющим и в то же время туманным термином, содержание которого не имеет определенных границ.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?