Текст книги "Оттаявшее время, или Искушение свободой"
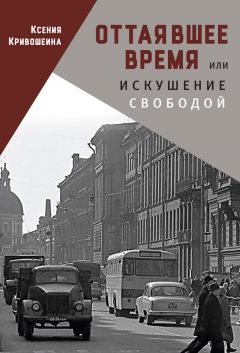
Автор книги: Ксения Кривошеина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
О моей бабушке
Итак, бабушка моя Софья Владимировна Акимова (Ершова), будущая жена Ивана Васильевича Ершова и мать Игоря (моего отца) родилась в 1887 году на Кавказе в городе Тифлисе. На своей левой руке безымянного пальца я ношу фамильное кольцо с вензелем из трёх букв «С.В.А» (имя, отчество, фамилия бабушки), это то малое, что сохранилось у меня от семьи. И ещё я всю жизнь обращалась к своей бабушке только на «Вы». Отношения наши были всегда тёплыми и увлекательными.
Это была дворянская и достаточно патриархальная семья. Очевидно, как говорили наши деды и прадеды, Акимовы произошли от армянской фамилии Екимян, (в переводе «врач»). Её дед со стороны отца – Николай Захарьевич Акимов, а со стороны её матери
– Антон Соломонович Корганов, хорошо говорили на грузинском языке и прекрасно владели русским. Семья Коргановых была богата, так как владела большими нефтяными месторождениямии, и очень родовита.
Вот что пишет бабушка в своих воспоминаниях.
«Мой отец, Владимир Николаевич Акимов, получил образование в Петербурге, в Николаевском кавалерийском училище, вышел в отставку в чине генерала. Мать – Мария Антоновна Корганова – окончила Институт благородных девиц в Тифлисе. Была на божным и церковным человеком. Помимо русского и армянского языков, и отец, и мать свободно говорили по-французски, немецки и понимали грузинский. Не приходится удивляться тому, что в Тифлисе, бывшей столице Кавказского края, резиденции царского наместника, графа Воронцова-Дашкова, интеллигенция говорила преимущественно на русском, грузинском и французском языках. Несмотря на это, моя мать сочла нужным взять нам (трём сёстрам) учителя армянского языка.
Отзвуки далеко ушедших лет детства и ранней юности прежде всего возвращают меня к матери. Часто, ребёнком трёх-четырёх лет, сидя на её коленях у пианино, я слушала и чуть подпевала детские песенки из сборника «Гусельки». Особенно «Осенняя песенка» разливалась в моей душе нежной скорбью, глаза заволакивало, и по щекам текли тихие и тёплые слёзы. Спасибо маме за них. Она уже тогда поняла силу воздействия песни на мою детскую душу. В нашей семье музыкальностью обладали отец, его сестра Жозефина и брат Михаил. Однако никто из них не стал в этой области профессионалом. Отец, особенно в кругу семьи, был необычайно застенчивым и неразговорчивым человеком. Наблюдая как бы со стороны за ростом и развитием детей, он всецело доверил наше воспитание и образование матери, своё явное и ничем не прикрытое волнение за нас отец проявлял только, когда мы заболевали.
На моей памяти отец пятнадцать лет кряду нёс доверенную ему почётную должность директора «Оперного Казенного Театра» в Тифлисе. Он был увлечён своей работой, а по роду своей военной службы и занимаемой им должности в театре он часто отлучался из дома.
Годы нашего детства в моей памяти ассоциируются с особенным по строгости воспитанием. У нас был прописанный режим воспитания, дома и в учёбе, за которым следила наша мать. В отличие от сестёр я росла настоящей «букой». Застенчивость и нелюдимость, очевидно унаследованные от отца, проявлялись в неприветливости к новым для меня людям. Лишь куклы были тогда для меня родными. Этот мир детских фантазий протянулся до одиннадцати лет, когда летом, в усадьбе моего деда Николая, меня подвели к детской кроватке, стоявшей возле постели моей матери и показали мне «живую куклу». Это была только что появившаяся на свет моя сестра Ирина. Обомлев от удивления, я стремглав кинулась в детскую комнату за одной из любимых мною кукол и положила её рядом со спящей крошкой! На этом мир кукол для меня кончился».
Забегая вперёд, хочу сказать, что в 1916 году семья моей бабушки разделилась.
Трое сестёр: Нина (старшая), Софья (средняя) и младшая Ирина вместе с их матерью Марией Антоновной выехали в путешествие по Европе. Их отец Владимир Николаевич Акимов остался в Тифлисе. Роковые события 1917 года, потрясшие Россию, разделили семью навсегда. К этому времени бабушка уже состояла в браке с Иваном Ершовым и родила сына (моего отца). Её мать и две сестры решили остаться в Швейцарии, а Софья вернулась к Ивану Ершову в Петроград. «Скоро всё закончится, мы опять увидимся, я так хочу обнять маленького Игоря. Твои сёстры хорошо учатся, и мы скоро вернёмся домой…» – так писала моя прабабушка. Им суждено будет увидеться только в 1922–24 году, когда Софье с сыном будет разрешено посетить с гостевым визитом Женеву. Это была последняя встреча с матерью и сёстрами, и по тем временам казалось, что навсегда.
В 1964 году в Ленинграде моя бабушка (Софья Владимировна) впервые после сорокалетнего перерыва увидела свою младшую сестру Ирину. Она приехала с приятельницей как турист на три дня. В моей памяти отпечаталась маленькая, прямо держащаяся, как бы «засушенная», с голубыми волосами швейцарка. Ничего ни русского, ни армянского в ней не осталось, она была эталоном швейцарского благополучия и на меня пахнуло «гербарием» веков. Мы встретили её в нашей квартире с анфиладой комнат, на ул. Гороховой. Бывшая квартира Ершова в 1959 году превратилась постепенно в огромную комуналку. Из каждой комнаты сразу высунулись любопытные носы: было всем на удивление посмотреть на «голубую старушку» из Швейцарии.
Почему-то я запомнила, что бабушка решила принять сестру достойно и шикарно. Как только открылась входная дверь, мне было приказано поставить на проигрыватель пластинку с записью деда, так что тётя Ирина вошла под звуки Вагнера и голос Ершова. Бабушка занимала в «своей квартире» 3 комнаты, а на большой кухне стояло семь деревянных столиков с аккуратными замками на каждом из них, три газовых плиты и кастрюли, на некоторых тоже красовались медные замочки.
«Голубая старушка» шла по коридору под музыку Вагнера и по-русски, с довольно сильным акцентом, выговаривала бабушке: «Слушай, Софи, как ты можешь жить в этой стране! Воды горячей в гостинице нет, я не могу принять ванну. Краны не отвинчиваются, уборная забита газетной бумагой, а туалетной бумаги нет на месте. Еда жирная, салатов не подают…» и так далее. Потом тётя Ирина перешла на французский, продолжая жаловаться с прежним азартом на «сервис» гостиницы «Октябрьская». Любопытные носы соседей стали быстро скрываться, заслышав чужую речь.
Я была поражена, что сёстры не кинулись друг к другу в объятия, не заплакали, в общем, не произошло того, что мы обычно наблюдаем в кино или по телевидению в передаче «Ищу тебя». После стольких десятилетий! Бабушка моя была смущена, отец почти возмущён, мама стала суетиться за приготовлением чая. Переписка между сёстрами, с перерывами во времени, по совершенно определённым обстоятельствам тех лет, худо-бедно продолжалась. Но вот встречи бабушка совершенно не могла вообразить, а я впервые увидела своих заграничных родственников. Во мне это, как ни странно, не пробудило любопытства, и казалось, что я у них тоже вызывала, скорее, чувство страха (а вдруг начну просить о подарках, джинсах, пластинках). Но я почему-то не просила, моя двоюродная бабушка мне не понравилась и никакого желания посетить Швейцарию в то время у меня не возникло. В то время я, моё поколение и страна переживали интереснейшее время.
Но хочу вернуться к рассказу о моей бабушке, вот что она пишет о своей юности.
«По сохранившимся у меня печатным программам «Музыкальных утр» (с 1896 по 1899 гг.), организованных моей первой преподавательницей по фортепьяно Жозефиной Антоновной Фирсовой, на которых значится и моя фамилия, я заключаю, что нотной грамоте меня начали обучать с семи лет. Более того, первые выступления на публике состоялись в этом же возрасте. Но, как ни странно, никаких ассоциаций или особенных воспоминаний у меня в памяти не сохранилось. Помню только, что выучивание наизусть заданных пьес всегда мне давалось с трудом, а читка с листа, (с первого раза!) была свободной, будто она родилась вместе со мной. Это осталось на всю жизнь. Я могла взять ноты незнакомого и даже трудного произведения и без всякой репетиции сразу его играть. В домашней обстановке с моей тётей Жозефиной и с троюродной сестрой Соней М.Б. мы много играли в «четыре руки». Я узнала классические симфонии западных великих композиторов. В те годы лучшего и более увлекательного досуга я не знала.
В 1899 году, в возрасте 12 лет, я впервые услышала оперный спектакль. Это был «Евгений Онегин» Чайковского. До сих пор я помню бурный успех баритона Л.Г. Яковлева, певшего в тот вечер роль Евгения Онегина. Помниться, он бисировал шесть раз к ряду арию Онегина «Увы, сомнения нет…». Яковлев в те годы пользовался блестящим успехом. Тогда же в моей детской голове запечатлелся образ Татьяны в исполнении умной и задушевной певицы Пасхаловой. Этот спектакль был первым толчком к страсти к сцене и перевоплощению. На первом же детском маскараде я была в костюме Татьяны из первого акта. Причём этот костюм я придумала сама.
Теперь в свободное от учебных занятий время я стала предаваться мечте о театре. Подстерегая время ухода родителей из дома, получив с согласия матери несколько длинных юбок из её гардероба, я становилась хозяйкой самой большой комнаты нашего дома, обращая её своей фантазией в театр. От моей природной застенчивости не оставалось и следа, я ощущала огромную радость разливаться полным детским голосом, не стесняя себя в движениях и жестах.
Моя тётушка Лиза Акимова, наблюдая в то время за моей страстью к пению и театру, горячо поддержала меня. Вскоре я получила от неё мой первый «взрослый» подарок – клавираусцуг «Евгения Онегина». Не прошло и недели, как я под собственный аккомпанемент пропевала всё «письмо Татьяны»!
Когда мне исполнилось пятнадцать лет, моя мама повела меня послушать в оперу замечательную певицу Надежду Амвросиевну Папаян. Она тогда была в расцвете своей славы, и её исполнение в партии Виолетты осталось неизгладимым в моей памяти. Мои родители дружили с Надеждой Амвросиевной, приглашали в гости, и однажды мне довелось самой сесть за рояль и аккомпанировать ей. Для меня подростка это было особенно волнующее событие, и я старалась изо всех сил. Исполняемый ею тогда романс ценности музыкальной не представлял. Искренность же передачи певицы была незабываемой. Глядя в ноты нового для меня произведения, я слушала, как зачарованная, пение Надежды Амвросиевны. Легкость, непринуждённость и словесная выразительность поразили меня. Я подумала тогда: поёт так, как будто говорит. И сразу же я задала себе вопрос, как добиться такой свободы и правды в вокальной речи.
Ведь неестественность «пропеваемого слова», монолога или диалога, неправдоподобна уже в самой её сути и по форме. На протяжении всей своей музыкальной жизни я вспоминала эту счастливую встречу.
Позже, в 1905 году, в Петербурге, я вместе с мамой пришла поздравить Надежду Амвросиевну в гостиницу «Астория», с подписанием ею договора с парижской «Grande Opéra». Несколькими днями позже она выехала к своим родителям в Астрахань, где её постигла трагическая участь: её убили ворвавшиеся в дом грабители. Эта смерть была большим потрясением для всех многочисленных обожателей её таланта.
К шестнадцати годам я сдружилась со своими двоюродными братьями гимназистами Михаилом и Евгением Цовьяновыми. Михаил – виолончелист, впоследствии профессионал-музыкант, Евгений – любитель игры на скрипке. Семьи наши хорошо друг друга знали и не препятствовали нашим музыкальным встречам по субботам и воскресеньям. Сочетание разных по тембру музыкальных инструментов особенно было увлекательно для всех нас. Это был домашний, но вполне профессиональный камерный ансамбль. В это же время я впервые испытала чувство сердечного увлечения – чувство, которое называют первой любовью, – к Михаилу (Мишелю, как мы его все звали). Наши чувства были взаимны и связаны даже клятвой, а увлечение музыкой, которое поднимало нас на романтические и волнующие высоты, придавало им особенный небесный восторг. К сожалению, наши родители, догадываясь о серьёзности наших мыслей, постарались не допустить соединения наших сердец под венцом, объяснив нам, что мы состоим в близком (двоюродном) родстве.
В 1904 году, после окончания гимназии, я была принята в музыкальное училище по классу фортепьяно. Но, проучившись полтора года, я совершенно не ощутила в себе призвания к сольному исполнительству. Тогда же в Тифлисе мне довелось услышать в роли Каварадосси одного из выдающихся певцов своего времени Николая Николаевича Фигнера. Во втором акте оперы своей игрой и голосом он довёл мои нервы до крайнего предела. Всё нарастающие стоны Каварадосси вывели меня из равновесия настолько, что я, не дождавшись конца акта, словно без памяти выскочила из театра прямо на улицу.
Несмотря на то, что мы свободно пользовались директорской ложей, моя мать считала необходимым, чтобы я посещала и драматический театр. Она всегда мне говорила, что именно в драме можно почерпнуть настоящую правду и мастерство для будущей профессии оперной певицы: «Культура оперных артистов-певцов ещё сильно отстаёт от драматических актёров, мастерство же последних немало зависит от их интеллектуального непрерывного обогащения» – говорила она. На всю жизнь я усвоила этот урок и когда впервые на сцене я увидела и услышала Ивана Ершова, мне были понятны корни и пути построения его сценической драматургии образа.
Русско-японская война и вслед за тем вспыхнувшая в Петербурге первая русская революция нарушили привычную мирную жизнь на Кавказе. Это время совпало с окончанием мною гимназии и с необходимостью продолжить музыкальное образование. Несмотря на моё настойчивое желание учиться пению, мама смогла убедить меня в необходимости сперва овладеть игрой на рояле: «Только при этом условии ты будешь чувствовать себя свободной от палочки дирижёра, от концертмейстера и от суфлёра!» – говорила она».
О моих детстве и юности
Насколько я не любила свои школьные годы, настолько я с нежностью вспоминаю своё детство. Кроме бабушки, с которой у меня, начиная с десяти лет, встречи были не каждодневными, а еженедельными, со мной все моё детство провозилась нянечка.
С бабушкой всё было иначе, я обращалась к ней на «Вы», она всегда с большим вкусом, по моде, одевалась, была надушена, много и часто водила меня в Мариинский и Малый оперный на спектакли, в филармонию, а больше всего я любила присутствовать на её уроках вокала. Забившись в угол мягкого дивана, утонув в горе подушек, я часами могла слушать, как распевались ученики и репетировались арии. Репертуар я изучала вместе с ними и часто подпевала про себя, с увлечением представляя себя на их месте. Забавнее всего проходили уроки пения с моим папой. Это был хороший пример того, как родителям не удаётся научить своих собственных детей специальности. Каждое занятие кончалось скандалом.
Так вот, у меня была нянечка. Она досталась мне «по наследству» от папы, которого она вынянчила. Сейчас уже нет таких нянь, их класс вымер, а это были особые женщины.
Родная сестра моей няни одевала бабушку для сцены и заведовала её театральным гардеробом. Я помню, что её звали Дуду. Обе сестры приехали из Новгородской деревни Крестцы на заработки в 1909 году в Петербург. Крестцы славились вышивкой, которая так и называлась «крестецкой строчкой». Дуду и моя нянечка были мастерицами в шитье и вышивке. Всё детство нянюшка меня обшивала, особенно она любила шить костюмчики для моих кукол из розового целлулоида. Кукол в те послевоенные времена у меня было три, но все с большим гардеробом. Нянечка была доброты неземной, всё мне прощала и совершенно не занималась тем, что называется воспитанием. Она была малограмотная, но сама выучилась писать и читать. Набожность и церковность няни сыграли большую роль в моём сердечном и душевном воспитании. Помню, как она почти машинально, но постоянно молилась, казалось, между делом… Моим первым учителем была она, и уже в три года я разбирала по складам предложения.
С личной жизнью ей не повезло. Первый раз она вышла замуж в тридцать два года, и муж её умер в первую брачную ночь. Второй оказался пьяницей и бил её. Стерпеть она этого не смогла и ушла от него. Детей у неё не было, а любовь к ним была большая. Так она и попала в нашу семью, вначале выходила, вынянчила моего отца (её Гуленьку), а потом уж и меня. Жила она вместе с нами и была совершенно родным человеком.
Прогулки с няней были каждодневными. Почти каждый день мы ходили в Александровский сад (напротив Адмиралтейства) или доходили до Михайловского и Летнего. Весной мы собирали подснежники в большие белые букеты. Осенью – жёлтые и красные листья, а в маленькую корзиночку шли жёлуди. Зимой – санки, катание с ледяных горок, бух… и всё лицо жжет, нянечка меня бранит, выбивает из валеночек снег.
Я была упрямым ребёнком и иногда донимала свою добрую нянюшку. Наделаю проказ за день, а перед тем, как должны придти домой мама и отец, целую и милую няню, и умоляю ничего им не рассказывать. Наказаний от родителей не получалось, да, видно, и не за что было.
Но однажды мои фантазии превзошли себя!
Как я уже говорила, у меня было три куклы, одну из них звали Ира, был Петрушка, который надевался на пальцы, я представляла им разные сцены, и разговаривала за него, и ещё был большой медведь. Почему-то я его не любила. Он был страшно облезлый, внутри его что-то сухо трещало. Однажды мама и папа, как обычно, поутру ушли. Я осталась в квартире с нянечкой, которая занималась хозяйством на кухне.
В своей комнате я разговорилась со своей любимой куклой Ирой и… не знаю, – то ли она подала мне идею, а может быть, запахи, шедшие из кухни. Только я потихоньку пробралась в столовую и стащила из буфета огромный кухонный нож с костяной ручкой. Я знала, что в комнате у нас всегда была электрическая плита (с металлическими спиральками), которую включали для подогрева температуры в холодные дни. Потом я взяла медведя, положила его на пол и разрезала на куски, затем поставила детскую игрушечную сковородку на плиту, вставила штепсель в розетку, разложила куски медвежатины на сковородке. Мишка запылал довольно быстро. Нянечка прибежала из кухни с кувшином воды, так как запах горелого быстро распространился по всей квартире.
Она плеснула на моё «блюдо» и оно завоняло и задымилось ещё больше. Опилки из медведя плавали по всему паркету, я рыдала с оправданиями, что хотела приготовить ужин для папы и мамы. Но где-то внутри себя я была рада, что расправилась с ненавистным мне скрипучем медведем. Скрыть это происшествие от родителей не удалось. Меня наказали жестоко, отняли все книжки на несколько дней. Нянюшка переживала больше меня за то, что не получилось утаить мою шалость от родителей. Она чуть не плакала от жалости ко мне, целовала и успокаивала.
Мама моя – красавица, драматическая актриса – полжизни проработала в ТЮЗе (начинала у Брянцева), а приехала она в Ленинград в 1935 году с Камчатки, наполовину нанайка, а вторая половина украинской крови. Все в её семье были охотники и золотоискатели, сама она унаследовала от своей матери, Марии Курковой, удивительный дар шитья, вязания, вышивки, прекрасно готовила, любила людей и животных. Так что, детство своё я проводила не только на ершовском рояле, но и за кулисами ТЮЗа, в окружении живых сказок. Мама обладала на редкость стойким и сильным характером, она похоронила двух малолетних детей (мою младшую сестру и брата), это горе было сильнейшим потрясением для неё. Когда отец привёз маму из больницы, её волосы, прежде иссиня-чёрные, были совершенно седыми. Мне было пять лет, и помню, как я испугалась: в первый момент я не узнала её и заплакала.
Школу образца пятидесятых годов, и особенно её учителей, я ненавидела. Видимо, это было «взаимной любовью», но я всё-таки как-то умудрялась переходить из класса в класс. Мне было неинтересно учиться, читала я всё подряд и запоем, а интереснее всего мне было дома, с музыкой и живописью, в общении с родителями и их друзьями. Меня всю жизнь тянуло к взрослым разговорам, я всем сердцем и душой чувствовала, и почти осознавала эту особенность нашего домашнего «оазиса».
От ранних школьных воспоминаний у меня остались в памяти стоп-кадры, как мы весело вместе с нашей классной руководительницей срывали со стен портреты Сталина и сваливали их в кучу в центре актового зала.
Помню, как лет в тринадцать я пришла на школьный вечер не в белом переднике и в красном пионерском галстуке, а в хорошеньком и очень простом ситцевом платьице розового цвета. На следующий день моих родителей вызвали в школу на проработку. Не то чтобы я стремилась выделиться специально из серой массы униформы и столь же программной серости учебников, но почему-то я всегда вызывала чувство раздражения у учителей, потом у педагогов в институте, позднее – у чиновников-партийцев и законопослушных граждан.
В тот же ранний период начальной школы я переболела сразу всеми детскими болезнями и настолько ослабла, что волосы мои стали выпадать пуками. Родителям пришлось меня обрить наголо, дабы их дочка не походила на плешивую кошку. Я помню, какой шок это вызвало в школе. Это было воспринято, как вызов! Общественному спокойствию был нанесён удар, будто я нарочно устроила себе такую причёску (хотя в то время панки и скинхеды ещё не народились).
Однажды вернувшись домой из школы (шёл 1955–1956 г.), я застала у нас двух незнакомых мне людей. Муж и жена оказались друзьями отца. Из разговоров во время ужина я поняла, что они были реабилитированы и только что приехали в Ленинград после ссылки из города Бугульма. Он просидел двадцать лет, в ссылке женился. Посадили его совсем юношей в тридцать шестом году, причин было много: собирались вместе, говорили об искусстве и религии, а ещё он был в силу своего происхождения записан в третью «Бархатную книгу». Я запомнила его моложавость и светящиеся глаза, несмотря на проведённые годы в лагерях; было чувство, что жизнь его только начинается. В тридцатые годы они вместе с моим отцом учились в Академии Художеств, но А.Б. так и не удалось закончить образование.
Мой отец был рад гостям, растерян и суетился вокруг стола угощая друзей и подливая в рюмочки водки. Из разговоров я поняла, что папа и мама «пропишут» своих друзей в нашей квартире для улаживания всяческих паспортно-квартирных формальностей, для спокойного начала их новой жизни.
Сейчас уже не помню точно, в этот или в другой день его товарищ принёс нам прочитать в самиздате Твардовского «Тёркин на том свете». Отец читал маме вслух целые куски, много смеялся, было общее чувство радости. Окончив чтение, он подошёл к печке-колонке, которая стояла у нас в ванной, и сжёг листик за листиком всю поэму. Я отчётливо помню своё состояние неловкости за отца, стыд перед его другом и почему-то я заплакала, глядя на сгорающие листики.
Уже с тринадцати лет я стала рисовать, и отец меня в этом очень поддержал. В 1947 году он закончил Академию художеств им. Репина, дипломной работой его были замечательно исполненные иллюстрации к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». (Впоследствии они были напечатаны в его полном собрании сочинений) Он успел поучиться у И.Я. Билибина, всегда вспоминал его с огромной благодарностью. Рисовальщик и живописец папа был прекрасный, а главное, он был наделён даром творческим, а не просто реалистический копировщик натуры. Видимо то, что он был ещё хорошим актёром и певцом, помогло ему в будущем преображать и развивать своё ремесло художника и не останавливаться на достигнутом. Учился он всю жизнь и меня учил этому. К концу пятидесятых годов он из правоверных соцреалистов, рисовавших «сухой кистью» рабочих, сталеваров, колхозниц и даже Сталина, превратился в абстракциониста. В нём произошёл серьёзный перелом, и он, что называется, опять «засел за тетради». Я помню, как он брал меня с собой в Эрмитаж (на третий этаж), где вновь после долгого перерыва открыли залы с Пикассо, Сезанном, Матиссом, Гогеном и импрессионистами.
«Третий этаж» был настоящим событием в жизни страны! Ещё один глоток свободы, люди приходили отдышаться в этих залах, поспорить – иногда до крика и оскорблений в адрес выставленных «невинных» полотен. Папа приводил меня сюда каждую неделю, объяснял, молчал, подолгу сидел в залах, делая для себя зарисовки и записи в маленьком альбоме.
Первое и неизгладимое впечатление – для меня это был Матисс (весь!) и Ван Гог – его «Сиреневый куст». Видимо, всё увиденное на «третьем этаже» было так красиво, так необыкновенно, свободно и правдиво, что меня стало туда тянуть как магнитом. Если бабушка окунула меня в звуки музыки и театра, то отец открыл мне мир современной живописи, музея, библиотеки. Я ходила в Эрмитаж чуть ли не по три раза в неделю, сидела и заворожено смотрела, ну, и невольно слушала высказывания нелицеприятных посетителей, в двубортных шевиотовых костюмах, по поводу всего «безобразия понавешенного» в этих залах.
Редкий зритель был внимателен к этим произведениям, но таких посетителей становилось всё больше и больше. Хрущёвская оттепель давала о себе знать, страх постепенно отступал, было ощущение, что прорвалась плотина и уж теперь ничем этот поток не остановить. Люди возвращались из лагерей и ссылок, ощущение лёгкости, счастья общения и новой жизни витало в воздухе.
В нашем доме всегда было полно друзей, которые приводили в свою очередь своих. Читали Ахматову, Мандельштама, первый самиздат. Среда и атмосфера дома, дружеские и доверительные отношения между мной, отцом и матерью, открытость ко всему новому, любопытство – хотелось объять и узнать всё, – заложили во мне крепкий фундамент на всю жизнь. Дом был всегда полон гостей, помню, что мы никогда не садились за стол только семьёй. За столом были весёлые и интересные разговоры, споры, пение под гитару или чтение стихов.
Мой единственный (единокровный) брат Алёша жил с нами с тринадцати своих лет, он был старше меня на полтора года. Между нами образовалась нежная дружба, и я очень любила своего столь неожиданно приобретенного брата. До этого времени Алексей жил в Москве у своих дедушки и бабушки (его родная мать виделась с ним крайне редко). Он вошёл в нашу гостеприимную семью и мама моя с радостью приняла его как родного сына. Родители позволяли нам устраивать вечеринки, и уже лет с четырнадцати-пятнадцати лет мы приглашали своих друзей, могли слушать музыку и новые записи с Эллой Фицжеральд и Луи Армстронгом. Папа частенько присоединялся к нашим молодёжным посиделкам, любил потанцевать буги-вуги, поболтать, выпить стаканчик сухого вина. Для многих, кто приходил к нам в те годы, память об этом общении, атмосфера дома сыграли большую воспитательную роль в сознании и понимании происходящего в стране. Правда, отец не забывал мне говорить: «Всё, что ты слышишь в доме, ты не должна повторять ни на улице, ни в школе». Подсознательно я понимала, что эта двойственность, в которой мы жили, осталась нам в наследство от страшных сталинских лет. Папин урок я усвоила крепко и на всю жизнь.
* * *
В конце 50-х годов в Ленинграде появился англичанин, звали его Эрик Эсторик. Он был коллекционер живописи и имел большую галерею в Лондоне. Что его привело в те годы в СССР, не знаю, но он побывал и в Москве. Совсем не так давно Оскар Рабин в Париже вспоминал Эсторика и говорил мне, что его галерея существует до сих пор. Видимо, рассказы о новоиспечённом «русском авангарде», хрущёвской оттепели докатились тогда и до Лондона.
Конечно, по приезде в Ленинград иностранный отдел Союза художников дал Эсторику адреса вполне официальных и апробированных художников. Но «неиспорченный» телефон подсказал ему список тех художников, которые работали как бы «за шкаф», чьи картины не могли быть выставлены в стенах ЛОСХа. Среди них были такие как П. Кондратьев, В. Матюх, А. Каплан, И. Ершов… и наверняка другие, о которых мы не знали. Все посещения держались в тайне, но какая тайна могла быть от следующих по пятам за англичанином лиц из КГБ.
Помню, что именно Анатолий Львович Каплан привёл к нам Эрика Эсторика. После первого посещения Ленинграда он приезжал ещё два раза. Влюбился в литографии А. Каплана, его серию иллюстраций к Шолом Алейхему, сумел вывезти их и выставить в Лондоне.
Благодаря этому Анатолий Львович приобрёл известность и возможность лечить свою единственную больную дочь Любочку. С моим отцом их связывала старая дружба и «халтура»: для заработка они писали официальные портреты «сухой кистью» и панно для украшения парадов. Они работали в «две руки» – Анатолий Львович писал костюм персонажа, а папа лица. Прекрасно помню наши посещения дома Капланов, и потрясающе вкусную еврейскую кухню – фаршированную щуку и сладости, которую готовила его добрейшая жена.
Эсторик был огромного роста, толстый, с чёрной клочковатой бородой и сигарой; он походил на персонаж сказки «Синяя борода». Простота взаимообщения облегчалась тем, что мой отец и Эрик хорошо говорили по-немецки.
Как-то сразу образовались в нашей квартире таинственность, радость и страх. Помню, как мама готовила нечто типично русское (чем удивишь миллионера?), а толстяк с удовольствием лопал щи с грибами, блины с селёдкой и запивал всё стопкой водки. Мне он казался милым, но уж очень из неизвестности – «оттуда», почти как изображали в журнале «Крокодил» карикатуры на капиталистов.
Отец был в большом эмоциональном возбуждении и показывал свои работы с каким-то остервенением. Начал с живописи, потом, устилая весь пол в комнате (она же заменяла мастерскую), замелькали кипы чёрно-белых рисунков, гуашей, акварелей. Англичанин купил много папиных работ. Отец был счастлив, и не только потому, что Эсторик хорошо заплатил, но это было для него настоящим первым признанием со стороны коллекционера, да ещё иностранца. Благодаря папе Эрик смог познакомиться с ещё несколькими художниками, которые начинали в то время работать в области эксперимента.
Но после отъезда Эсторика ощущение радости и праздника в доме смешалось с состоянием страха.
Не знаю, почему я выглянула в один из вечеров в окно, – на улице под нашими окнами я увидела серого цвета «Победу», рядом с ней, прислонившись спиной и внимательно наблюдая за нашими окнами, стоял мужчина. На следующий день история повторилась. Внутри меня что-то захолонуло. Отец и мама сидели у нас на кухне. Ох уж эти кухни шестидесятых годов! Это было излюбленное место посиделок наших друзей, сколько выпито и сколько доверено их стенам.
«В следующий раз мы "его" (англичанина) пригласим с кем-нибудь из наших знакомых… всё равно с кем, соберем компанию, а они ведь свидетели. Мало ли что нам ещё предстоит в связи с ним», сказал отец. Я услышала это совершенно случайно, но сколько вопросов я задала себе сразу же! Потом он перешёл на шёпот, заговорил о том, что он постоянно чувствует за собой слежку, что он видел странного вида людей, толкавшихся у нас в подъезде. После второго приезда Эсторика отец впал в тяжелейшую депрессию. Его преследовали ночные кошмары, к нему вернулся нервный тик с подёргиванием головой.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































