Текст книги "Оттаявшее время, или Искушение свободой"
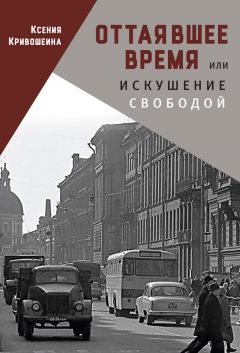
Автор книги: Ксения Кривошеина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В июле месяце я сообщила отцу, что готова принять предложение Ирины. Он обрадовался, как ребёнок, которому подарили долгожданную игрушку.
Для оформления бумаг на поездку я должна была получить «характеристику» в Союзе художников (кажется, её давал партком). Я волновалась, во-первых, в КПСС я не состояла и была неактивным членом ЛОСХа, а после Болгарии на меня накатали «телегу», и это у них осело; и потом, они могли задать мне различные вопросы, на которые я не смогла бы «хорошо» ответить. В их глазах моя поездка в гости к незнакомой даме, не родственнице, выглядела странно. Ехала я не к тётям, а к малознакомой подруге отца (тётя Ирина к этому времени скончалась, а тётя Нина была не в состоянии в девяносто девять лет приглашать). Но самое главное, моя просьба об оформлении шла почти следом после пятимесячного, скандального отсутствия отца, с разговорами, сплетнями и анонимками в его адрес со стороны Наталии Юрьевны, она писала во все инстанции, особенно после того, как он начал развод. В глазах парткома всё это выглядело вопиющим нахальством, и я чувствовала себя неловко.
Я попёрла на это заседание с самыми плохими предчувствиями, прокрутив в голове все возможные вопросы и ответы. Комиссия состояла из десятка художников, активных профсоюзников и партийцев. Меня вызвали в порядке очереди «на ковёр», зачитали мою просьбу и как-то стыдливо и враждебно молчали. Нарушил эту странную тишину председатель, он задал один только вопрос, как чувствует себя моя бабушка. Помню, что я пролепетала, что ей девяносто девять лет и что её разбил паралич после отъезда отца. «Да, конечно, Вы должны поехать и поддержать Вашу родственницу. Кто за, кто против, товарищи? Подымите руки!» Весь этот «детский сад» проголосовал «за». Бессловесная реакция этих людей и положительная рекомендация на поездку для ОВИРА меня поразила. Тем более, что исходило это всё от людей, которые шутить не умели и отвечали за свои подписи служебными местами и положением. Шёл 1979 год и те, кто помнит это время, конечно, поднимут брови от удивления. Могли не рекомендовать и даже отказать в поездке к отцу и матери, не то что к отдалённой знакомой.
Собрала я все необходимые бумажки и пошла их отнести в районный ОВИР, где меня необыкновенно ласково встретила пышная блондинка, которая некоторое время назад выдавала мне анкеты. «А я вашего папу знаю, очень интересный мужчина» – довольно игриво заявила она, принимая от меня комплект заполненных бланков.
Ого, подумала я, неужели и здесь мой папа проявил свой шарм, но когда же он успел? «Я всё передам в городской ОВИР, а уж Вас оттуда известят открыткой».
В полутёмном коридоре сидели малочисленные граждане ожидающие своей очереди на приём к «блондинке». Все они сразу вытянулись на своих жестких стульях и в глазах у них возник один молчаливый вопрос «ну, как там?» Мне было не по себе, я быстро вышла на улицу и закурила. Я должна была пройтись, меня охватила вдруг такая душевная тоска, будто во мне что-то оторвалось и обратно уж не воротишь. Может быть, это предчувствие надвигающейся беды, перемены жизни стало в тот момент так реально, что будто кто прошептал над ухом мне «вернись и забери свои бумаги назад». Но, видимо, в тот период жизни перевесило состояние безразличия.
Я решила, что если меня пустят в Швейцарию, то я поеду, а откажут – и то хорошо.
Вещий сон
Пройдёт много лет, и найдутся историки и психологи, которые сумеют определить феномен, начавшийся с русским человеком в середине шестидесятых годов. В журналах «Молодая гвардия», «Октябрь», «Новый мир» и просто отдельными книгами появились первые писатели-«деревенщики». Их произведения были встречены с нескрываемым энтузиазмом и восторгом. Изголодавшаяся по живому слову интеллигенция, инженерия, физики-лирики, художники и просто читающий люд восприняли это явление как кислородный глоток. Разочарованность в ближайшие годы построить «социализм в одной отдельно взятой стране», отчаяние полуголодного народа, как в деревнях, так и в городах, «догнать и перегнать Америку» и невозможность реализовать себя в этой стройке привели к странному явлению – советский человек потянулся из города в деревню. Василь Быков, Белов, Шукшин, Астафьев – породили целое движение, «вхождение в народ» или бег интеллигенции в природу. Тогда это было своеобразным утопическим и психоаналитическим проявлением «совка», достигшем сейчас, в двадцать первом веке, масштабов глобальных. Совинтеллигенция находила настоящую цель в жизни, скупая по дешёвке дома в деревнях, строя и восстанавливая их, парясь, как «мужики», в бане, копая огороды, доя коров, разводя кроликов, соля, маринуя и «закручивая банки» на зиму, а потом храня выкопанную картошку на своих городских балконах. Чем дальше от города покупался дом, тем романтичнее было пребывание в нём, хотя частенько там не было даже электричества, а добираться в глухомань приходилось на попутках и с пьяными в дребодан шоферюгами. Русскому поколению, родившемуся после конца СССР, трудно себе вообразить ту степень зависимости и закабалённости их родителей от профкомов, КПСС, ОВИРОВ, ЖЭК-ов (прописки), окружающих стукачей и просто завистников. Страх, впитанный с молоком матери, сейчас даёт свои плоды, русский человек с трудом приучается мыслить самостоятельно, а порой, и не хочет думать, ведь за него думали в течение восьмидесяти лет.
Стоял разгар лета, и я решила не ждать в городе извещения из ОВИРа о поездке, а продолжить свои поиски покупки деревенского дома. Моя мечта скрыться в деревенском углу была по тем временам, как видим, не оригинальна. Я планировала, что после возвращения из моего «турне» (если таковое состоится?) мы с Иваном могли бы обосноваться в такой деревне. Отец, который вечно что-то строил и не достраивал, продал свой дом-башню на реке Мсте, но в деревне рядом с красивым названием Морозовичи жила дорогая моему сердцу женщина. Звали эту простую, из раскулаченных старообрядцев, новгородскую крестьянку Мария Михайловна. Ей было под шестьдесят, и именно она оказалась моей крёстной матерью.
В её небольшом доме было уютно, чисто, много икон, спасённых при разорении местной церкви, которую продолжали разбирать на кирпичи местные пьяницы и колхозники. Маша в колхозе не состояла, удалось ей избежать этой подневольности из-за мужа, он работал шофёром грузовика в соседнем райотделении. Когда мы с ней познакомились, она была овдовевшей; единственная дочь вышла замуж и уехала в Новгород. Наше давнее знакомство началось ещё со времён папиного строительства и деревенского романа, который Маше был известен в подробностях и о котором она старалась не вспоминать при нашем ежевечернем чаепитии у самовара. Она была набожна и очень строга, сумела сохранить в душе то, что называется страх Божий. Не было в ней ханженства и нравоучения, но сердечное отношение к развалившейся нашей семье вызывало в ней чувство обиды на моего отца. «Срам какой, неужто Иваныч грех на душу возьмёт, разведётся с Лидой (моя мама). Бога он не боится». Изработанность выносливого от природа тела не убила в ней молодости душевной. В свои шестьдесят лет она могла часами косить, копать огород, доить корову и ходить за скотиной. Корову подарила ей я, радости Машиной не было границ, назвала она её Дочей. Вот уж, как ни старались Советы убить крестьянство, а оно и через асфальт, будто травка, прорастало. Так и в Маше малая радость, которую я могла ей доставить через покупку скотины, кроликов, свиньи вырастала в праздник. Как она за ними ходила, вела с ними разговоры, чистила клетки, мыла щётками поросят; каждому было присвоено имя.
Пенсию Маша не получала, только дочь посылала ей кое-какие денежные переводы, но и это было нерегулярно. Наша встреча и настоящая семейная дружба стала ещё сильнее после моего крещения.
Мы приехали к Маше с Иваном и окунулись в покой и уют Морозовичей. Дом стоял прямо на реке, а Мста с одного берега высокая, а другой берег пониже. Лес вокруг – с настоящими борами, не хоженный, а в тех местах, как известно, ни татаро-монголов, ни немцев не было, и совсем рядом курганные сопки, захоронения. В деревне было с десяток домов, в них только старушки, к двум из них приезжали на лето родственники. Один из таких домиков, что был рядом с Машиным, я и наладилась приобрести.
Конечно, я рассказала Марии Михайловне о своём намечаемом путешествии и даже попросила ее, в случае, если я поеду в августе, приютить на лето Ивана и мою маму. Для неё слова Швейцария – Женева были в равной степени не представляемым кусочком на планете, как и Ленинград – Москва. Она жила без телевизора, единственным источником цивилизации была радиоточка, которая вещала не всегда, а когда было электричество. В деревню раз в две недели и только летом привозили кино, на которое сходилось из соседних деревень трезвое население, состоящее из старушек и женщин с детьми. Редкие мужчины предпочитали ждать открытия Сельпо, в котором на протяжении десятилетий был всё тот же набор консервов, соли, сахара, слипшихся леденцов, хлеба и водки. Как-то, прислушавшись к разговорам в очереди перед открытием деревенского магазина, я поняла, что великий русский язык состоит только из матерщины. Детки, которые возились в пыли, ожидая пока их папы купят бутылку водки, а им – комок слипшихся леденцов в кульке из толстой серой бумаги, тоже изъяснялись не на языке Пушкина. Моя Маша всё это осуждала, в магазин ходила, но в очереди с разговорами не простаивала, а в кино, тем паче, ей было ходить «заказано». Соблазну и искушению греховному она себя старалась не подвергать. Во многом мне она напоминала мою нянечку, а то, что Маша стала моей крёстной матерью, связывало нас троих особенно.
К моей поездке за границу она отнеслась как бы равнодушно, но почему-то стала отговаривать покупать дом. Причём, все доводы, ею приводимые, и отговорки были для меня не убедительными, а чаще всего она возвращалась к своим любимым животным и что с ними будет, если она вдруг умрёт. Я совершенно не могла понять, почему именно разговоры о болезни и смерти стали так её волновать. Может быть, она больна, скрывает от меня что-то, не хочет зря волновать перед поездкой? В общем, я стала задаваться вопросами. Однажды вечером, сидя после ужина за самоваром, она как-то странно на меня посмотрела и сказала: «Молиться твоему Ангелу-Хранителю буду. Надо чтоб помог он тебе из кругов тёмных выйти. Если не я, то кто за тебя ещё помолиться».
А и вправду, помолиться обо мне было некому! Только сама я в ночи неумело просила Пресвятую Богородицу простить и защитить меня. Чувство настоящей веры, благодати Божией и церковность пришли ко мне гораздо позже.
Но прошло ещё несколько дней после нашего вечернего чаепития, и мне приснился сон, значения которого я совершенно не могла понять и, видимо, от того, что он был «вещим», он мне запомнился, а толкование его пришло позже. Прежде, чем рассказать сон, хочу сказать, что со дня моего крещения я носила, не снимая, простой медный крестильный крестик, подарок Маши. А сон был такой. Будто сижу я у окошка в машиной избе, на столе кипит самовар, и чай мы пить собрались. За столом сидят Маша, мой отец и я. За окошком раскрытым виднеется садик, с тремя яблонями, огород, и по всему понятно, что стоит тёплый летний вечер. А на маленькой лужайке перед окном будто холмик травяной возвышается. Тут Маша мне и говорит: «Ксенюшка, ты свой крест сними и брось под холмик». Я покорно цепочку отстегнула и бросила крестик за окно. Гляжу, а цепочка с крестом моим как бы ожила и змейкой поползла по холмику вверх. Медленно ползёт, а я неотрывно на неё смотрю и со страхом думаю – только бы она, когда до вершины доберётся, не стала бы по другой стороне холма спускаться. И, что ещё страшнее, если упадёт со склона, не удержится, тогда «конец». А чему конец? Во сне я не осознавала, но чувствовала, что тогда несчастье приключится. И стала во сне горячо молиться! Посмотрела я на Машу, вижу, она с улыбкой на отца моего смотрит, а он как бы безразличен к происходящему, занят чем-то совсем другим, вроде мастерит за столом что-то. Присмотрелась я и увидела, что в руках у него рыболовная снасть, он её чинит, дырки в ней латает, страшно торопится успеть, всё за окошко поглядывает на мой крестик ползущий и приговаривает: «раз-два, раз-два…» Цепочка моя до вершины холмика добралась, и одним концом свесилась по отлогости на другую сторону… сейчас сорвётся, я глаза зажмурила от страха. Слышу, как Маша мне говорит: «Не бойся, посмотри». Мне вдруг так спокойно стало на душе, глянула я за окошко и вижу, что застыл мой крестик с цепочкой на противоположной отлогости, будто врос, а трава на этом склоне совсем другого цвета. Весь страх у меня прошёл и голос Машин, будто издалека: «Не успеют, не упадёшь, не заманят…».
С этим я и проснулась. Сон был настолько постановочным, что мог бы сойти за реальный бред или галлюциноз, что-то он означал. Я не успела рассказать его Маше, так как в это утро местный почтальон на велосипеде привёз мне толстый конверт. Моя мама из Ленинграда пересылала мне в Морозовичи почту. Я разорвала пакет, из-под газет и писем вылезла жёлтенькая казённая открытка со словами «вам надлежит зайти… имея при себе… и т. д… в центральный ОВИР». Назначенная в повестке дата была завтра.
Я быстро собралась, попросила Машу «попасти» Ивана до приезда моей мамы и сказала, что буду держать её в курсе событий. Мы с ней прощались ненадолго, осенью я должна была вернуться и оформить покупку дома. И уже в поезде, подъезжая к Ленинграду, я подумала, как жаль, что Маша не узнала о моём сне, она бы мне его растолковала.
* * *
К назначенному часу я пришла в городской ОВИР. Мне нужно было заплатить двести пять рублей (огромные деньги) за паспорт. Впервые я оказалась в стенах центрального отделения кромешного ада для многих отъезжающих за границу. Меня поразило количество людей, спускающихся и подымающихся по центральной лестнице, а когда я вошла в большой полукруглый зал, то увидела, что свободного стула не найти. Даже вдоль стен люди сидели на корточках, это почти напоминало «феномен Казанского вокзала». Граждане пытались отвлечься чтением газет и книг, но мысли и слух были далеко. Стоило посмотреть на выражение лиц, объёмные папки с бумагами в руках и нервное посматривание на аппарат под потолком, выкрикивавший фамилии по спискам. Человек срывался с места и исчезал за одной из многочисленных дверей и загородок. Советская толпа в метро, на улице, в присутственных местах имеет особую температуру, она не похожа ни на одну в мире. А в ожидании вердикта от Окуловых, Кащеевых, Шамановых и прочих чиновниц ОВИРа эта спрессованная, молчаливая и напряжённая толпа была достойным сюжетом для документалистов.
То были годы массового оформления выездов в Израиль, начавшихся в начале семидесятых, после «самолётного дела» Э. Кузнецова. Сколько унижений, бессонных ночей и преждевременных смертей стояло за отъезжающими на свою историческую родину. Инспекторы ОВИРа получали особое садистское удовольствие (так было приказано) хамить, отказывать, презирать и, что самое странное, в душе завидовать всем, кто приходил к ним оформляться. Этими «овирными блондинками» с эсэсовскими сердцами особого различия в обращении к малочисленной категории «в гости», – не делалось. Интересно, брали ли они тогда взятки?
Через полтора часа ожидания я получила заграничный паспорт. Мне объяснили, что визу для поездки нужно получать в Москве, так как в Ленинграде нет швейцарского консульства.
Не буду описывать, как я ездила в Москву за визой на сорок дней, что соответствовало приглашению Ирины Бриннер. Толпы у дверей консульства не было, я была почти одна, но когда я получила транзитную визу немецкую, то у железных ворот уже теснилась кучка поволжских немцев. По возвращении в Ленинград я встретилась с отцом, пришлось поехать к нему в Парголово. Стоял хороший летний день, и уже подходя к горе, я услышала лай его собаки. Пока я поднималась по лестнице, собака рвалась на своей длинной цепи и, видимо, меня не узнала, хотя зимой позволяла даже себя гладить. Отец выскочил мне навстречу в своих неизменных валенках. Он во все сезоны ходил по дому только в них. Настроение у него было скорее добродушное, хотя я никогда за ранее не знала, на какое состояние его души можно было наткнуться. Мы прошли в дом, где было чисто убрано, но никаких следов его жены и дочери я не заметила. На мольберте стоял только что начатый холст.
Он был рад моему приезду, а так как я уезжала через неделю, то мне хотелось узнать подробнее о тёте Нине и Ирине Бриннер.
Отец надавал мне списки телефонов и фамилий: «Это всё хорошие друзья, они тебе помогут. А вообще, советую тебе завести тетрадку и писать всё, что с тобой происходит изо дня в день, как дневник. Я когда жил там, всё время вёл такой дневник, а теперь вот перечитываю и обрабатываю свои записи…». Он осёкся заметив мой странный взгляд. Неужто «дневник» из интимного превратился в отчётность о проделанной работе, подумала я. Интересно, как отца восприняли все эти «старые» русские? Видимо, он настолько очаровал их, что сумел подружиться. Хотя по всему было видно, и этого он не мог от меня скрыть, как он ностальгически вспоминал о Женеве, о новых знакомствах, и с какой любовью говорил о тёте Нине. Перед самым прощанием он сказал мне о Ирине: «Ты не удивляйся, если она тебе начнёт рассказывать о наших отношениях. Она замечательный человек, и я думаю, что наша дружба может перерасти в нечто серьёзное…».
Огни большого города
Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана,
Где б найти такую б…ь,
Что б на Брежнева сменять»
(Стишок, сочинённый к обмену Владимира Буковского на чилийского коммуниста Л. Корвалана в 1976 году.)
В 1979-ом обменяли Э. Кузнецова, А. Гинсбурга, Винса и Морозова на двух советских шпионов.
Ко всему набору «изменников Родины» и длинному списку изгоев из художников, писателей, поэтов (Бродского), побегушников (Нуриева, Барышникова)… не забудем добавить высылку А. Солженицына в 1974 г.
В течении пятнадцати «застойных» брежневских лет целый пласт новой постсталинской интеллигенции, не желавшей идти в «одном строю», были всяческими способами выдворены из страны Советов.
Новая история России, бесклассовая, обезличивающая – стала писаться с 1917 года. Она записала в свой «бухгалтерский» отчёт миллионы жизней, положенных на стройках «Беломорканалов», советских концлагерей, расстрелы, гражданские войны в России и Украине. Та часть русских, которым удалось бежать, быть высланными, спасти свои жизни в начале двадцатых годов, оказалась в эмиграции. Русских было много в Париже, Женеве, Лондоне, Берлине. Быть в эмиграции трудно, не всегда богато и не всегда успешно. Если первая волна русских бежала от пули, вторая от петли, третья волна была диссидентской, то четвёртая эмиграция (восьмидесятых-девяностых годов) уже была чисто экономической. После падения СССР возможность свободно выехать, работать, учиться и вернуться в страну свело феномен эмиграции на миграцию. В наше время о таком не мечталось, человек уезжал, как умирал! Была в те застойные годы ещё одна странная категория эмигрантов, их называли «советские жёны». В основном, они отправлялись в Африку или арабские страны, реже встречались в Европе. Многие из этих женщин оказывались на крючке у КГБ, приходилось отрабатывать «сладкую жизнь».
Для меня, уезжающей «в гости», многое было неведомо об эмиграции. Конечно, бабушка часто рассказывала о своих сёстрах, но их переписка была очень не регулярной, а турвизит тёти Ирины тему не развил. Много я знала из передач радио «Свобода» и прочих «голосов», книги «сам-и-тамиздатские» читала, но по-настоящему история эмиграции была для меня неизвестна. Рассказы отца о «женевских русских», из его детства, интересные и глубокие беседы с тётей Ниной – были мне в диковинку. Ехала я бездумно, глупо и бесцельно под воздействием каких-то жизненных внешних обстоятельств, сложившихся помимо меня. А встреча с тётей Ниной (двоюродной бабушкой) меня волновала, и, может, именно это по-настоящему было важно.
* * *
Поезд Москва – Берн уже катил по своим рельсам и помню, что я решила пойти в вагон-ресторан. Съела что-то совсем несъедобно-отбивное, выпила пива и закурила. Вокруг меня сидели за столиками довольно мрачные люди, говорили мало, пили много, трудно было по ним понять, кто они. Сизый от густой прокуренности полумрак «ресторана» создавал обстановку вокзальной столовой. Я расплатилась и пошла в свой вагон, по еле освещённому коридору мне навстречу шёл проводник. Его сильно раскачивало, наверняка, не от скоростных оборотов колёс. Никаких весёлых мыслей это передвижение в ночи у меня не вызывало. Мне предстояло в Женеве, наверняка, выслушивать любовные излияния незнакомой мне дамы к моему отцу. Заранее я решила, что буду себя вести с ней просто, и, если она мне понравится, то по возможности откровенно, а если не придётся по душе, то сохраню дистанцию. Я помнила отцовские наставления и советы: в случае трудностей идти в советское консульство и спрашивать каких-то «петю, колю, сашу». Для себя я решила пойти в консульство и отметиться (так полагалось), но не одна, а с Ириной Бриннер. Ну, а трудностей просто не создавать, и «советов» от «пети-коли» не надо будет получать.
Я забралась на верхнюю полку своего пенала-купе. Со мной ехала женщина средних лет с мальчиком лет одиннадцати, они должны были сойти в Германии. Довольно быстро я заснула. Проснулась от того, что мы стоим и, видимо, уже давно. Соседка моя говорит «Это меняют колёса. Часа на два, а заодно и документы смотрят. Мы в Бресте». Скоро в наше купе довольно бесцеремонно, сильно постучав, вошёл проводник, женщина в форме и молодой военный. Паспорта наши отобрали, пошныряли глазами по стенам, потолку, заглянули под нижние полки, приказали выйти из купе. Я вдруг поймала себя на мысли, что чего-то боюсь, этот пограничный досмотр вызывал ложное чувство твоей собственной преступной деятельности.
Будто ты и вправду везёшь контрабандное золото, банки чёрной икры или кого-то незаконно укрываешь под полкой. Чувство подопытного лабораторного кролика перед вскрытием без наркоза меня не покидает до сих пор, когда я прохожу границу въезда-выезда из России. А тогда тем более! Из коридорного окна я видела, как кого-то снимали с поезда с чемоданами, а когда состав тронулся, пожилая полная женщина, вся взлохмаченная, бежала по перрону с растерзанной огромной сумкой, развалившимся тюком, чемоданом, чтобы успеть на ходу вспрыгнуть в вагон. Ей никто не помог, и поезд набрал скорость…
Мы продолжили свой нарушенный сон. Днём проехали Польшу. Поля, поля, редкие, одинокие пахари на лошадке, иногда на сотни километров отдельный трактор, бедность, обшарпанность мелькавших за окном станций. Следующей ночью мы должны были пересечь границу с Германией. Всё почти сценарно повторилось. Основательный ночной стук в дверь и морда чёрной овчарки сунулась сразу под нижнюю полку. Мальчонка от страха вскрикнул и кинулся к матери. «Всем встать! Выйти!» Мы с моей соседкой в ночных рубашках, прикрываясь простынями стояли перед немецкими пограничниками. Это был Берлин, Восточная зона. Женщина в форме подняла наши матрацы, посветила карманным фонариком вглубь под потолком, собака нас обнюхала и по команде: «Можете ложиться!» мы покорно залезли на свои полки. Нас закрыли на ключ, и выйти в коридор было невозможно, мы проезжали по Западной зоне Берлина. В темноте купе, при свете ночника, я приподняла жёсткую шторку окна и с верхней полки стала смотреть в мелькавшие тени за стеклом. Я различила, что по началу мы ехали вдоль высокой бетонной стены, с металлической сеткой и проволокой наверху. Минут через пятнадцать этого мрачного пути стали попадаться будки со слабым электрическим освещением, рядом люди в форме и собаки. Потом опять стена, а ещё через несколько минут из черноты мы вырвались в полосу света. Поезд резко прибавил скорость. А за бетонной границей и колючей проволокой замелькали тысячи живых светлячков.
Они двигались, сливались в живые потоки, их разводило в разные стороны. Что это? Неужели это ночной Берлин?! Ночь, а он не спит в мрачной летаргии своего соседа, сверкает неоновым светом. Два города: слепой и зрячий. Можно было различить кафе, гуляющие парочки, сотни машин… Это видение длилось несколько минут, потом поезд опять окунулся в вязкую темноту и я опустила штору. Встреча с Западом навсегда останется для меня именно через это ночное мгновение. Из своего угла, в тесном купе, закрытая на замок, я почувствовала что там, где был неоновый свет, идёт другая жизнь, к которой ни меня, ни мою соседку с мальчиком пускать нельзя. Ещё я не могла определить какая эта жизнь и не умела сказать о ней слово – «свободная», но, странно, мне стало спокойно и хорошо на душе. Будто ласковый голос Маши я услышала в ночи и самой мне стало казаться, что несёт меня судьба к чему-то нежданному и незнакомому.
Утренний пейзаж за окном разительно отличался от русских, поросших бурьяном, полей и полупаханных польских просторов. Мы катили по Западной Германии. Соседка и мальчик повеселели, угощали меня бутербродами, мы пили чай. Скоро им сходить, как я поняла, они были поволжские немцы и ехали навестить родственников. Я неотрывно смотрела в окно и мне нравилось всё. Какая ухоженность земельных угодий в геометрической мандриановой разбивке, разноцветные кусочки земли. На одном что-то цветёт ярко жёлтое, на другом вспахано кирпично-красное, а к горизонту – изумрудно-зелёное поле… Километры разнообразились игрушечными домиками с подстриженными газонами, садиками, цветниками. Мелькавший за окном мир был незнаком, и природа другая; эта первая встреча с любовно ухоженной землёй осела в моём сознании навсегда. Чувства гнёта и давления постепенно оставляли меня, тяжесть и напряжение последних лет отдалялись с каждым километром, они будто пресеклись границей, мой прежний мир был позади…
Я прибыла в Берн и должна была сменить поезд на Женеву. Отец мне очень толково всё объяснил, и у меня не было страха затеряться, более того, на худой конец, я могла хоть и плохо, но обратиться по-немецки за помощью. Довольно быстро я нашла нужный поезд, закинула свой чемоданчик наверх в сетку и покатила в Женеву. Три часа я ехала вдоль огромного озера, с заснеженными Альпами на горизонте, и мне было очень хорошо. В голове моей была абсолютно счастливая пустота! Единственная беспокойная мысль – это предстоящее знакомство с Ириной, но и оно подменялось волнующей меня встречей с тётей Ниной. А вот и Женева. Я сошла с поезда и поплелась через переходы Женевского вокзала к его центру. Было условленно, что встретимся мы с Ириной Бриннер у выхода из вокзала, ближе к стоянке такси.
Мне всё показалось тогда огромным, шумящим, мелькающим и… вкусно пахнущим. Первые запахи остались такими же запоминающимися, как и первые визуальные, и первые слуховые. Весёлая нарядная толпа с незнакомым языком, звуками, эскалаторами, витринами магазинов окружила меня, и я растерялась. Не смогла я найти выхода к такси, села на свой чемодан и стала оглядываться по сторонам. И вдруг вижу, как из центральной двери ко мне приближается дама, одетая во всё белое, лёгкое, развевающееся, с костылём в руке и ногой в массивном гипсе с каблуком. Ирина сломала ногу за неделю до моего приезда и я об этом не знала. Её театральное восклицание: «Ксения!» – рассеяло все мои сомнения. Передо мной стояла она!
Я подхватила чемодан, мы сели в такси, город промелькнул за несколько минут, пока Ирина расспрашивала меня о разных пустяках, первое смущение при знакомстве – и вот я уже у неё дома.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































