Текст книги "Звуковая дорожка"
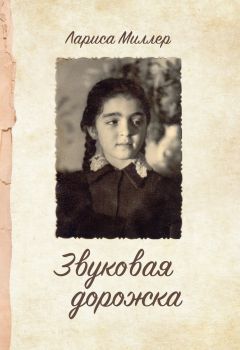
Автор книги: Лариса Миллер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Слова даны, чтоб вечно не хватало…
Нет, мы не плачем, мы не плачем.
И, будь мы хвостиком собачьим
Любой длины и толщины
С рождения оснащены,
Мы им бы весело виляли,
Безумно радуясь, что взяли
Нас погулять на белый свет,
Где можно взять волшебный след.
Нетленку пишут на коленке,
Слова даны, чтоб вечно не хватало
Нам слов сказать, куда душа летала
И что видала там, на высоте.
Слова даны, чтоб вечно о тщете
Мы помнили и ради сладкой пытки
Не оставляли тщетные попытки.
Нетленку пишут на коленке…
Четверг пока необитаем…
Меж делом, улучив момент,
В вагоне, прислонившись к стенке
Под нудный аккомпанемент
Колёсный, пишут на обрывке.
Ей не помеха толкотня.
Её творят, снимая сливки
С земного будничного дня.
Не договаривают все…
Четверг пока необитаем.
К нему мы только подлетаем,
И гаснет окон череда.
Это кончается среда.
И вот уже мы близко вроде
К чему-то, чего нет в природе.
Не вмещаю, Господи, не вмещаю…
Не договаривают все:
И старцы мудрые, и дети,
Речушка в средней полосе,
Ромашка в поле и в букете.
И скрытен день, и ночь темнит,
И утро тихой тайне радо.
Сама судьба секрет хранит.
Не договаривай. Не надо.
Поверь, возможны варианты…
Не вмещаю, Господи, не вмещаю.
Ты мне столько даришь. А я нищаю:
Не имею ёмкостей, нужной тары
Для даров твоих. Ожидаю кары
От тебя за то, что не стало мочи
Всё вместить. А дни мои всё короче
И летят стремительно, не давая
Разглядеть пленительный отблеск края
Небосвода дивного в час заката…
Виновата, Господи, виновата.
Одинокий лист безродный…
Поверь, возможны варианты,
Изменчивые дни – гаранты,
Того, что варианты есть,
Снежинки – крылышки, пуанты —
Парят и тают, их не счесть.
И мы из тающих, парящих,
Летящих, заживо горящих
В небесном и земном огне, —
Царящих и совсем пропащих
Невесть когда и где, зане
Мы не повязаны сюжетом,
Вольны мы и зимой и летом
Менять событий быстрый ход
И что-то добавлять при этом
И делать всё наоборот,
Менять ремарку «обречённо»
На «весело» и, облегчённо
Вздохнув, играть свой вариант,
Чтоб сам Всевышний увлечённо
Следил, шепча: «Какой талант!»
А ещё я забыла сказать…
Одинокий лист безродный
Проплывал по глади водной.
Лист течением несло…
Было пятое число,
Но оно уже кончалось…
Ветка голая качалась…
Как тебе на свете быть,
Бедный хомо? Дальше плыть,
Плыть во времени текучем.
Бедный, бедный, чем ты мучим?
Что бы ни было – плыви
С красным шариком в крови.
Не спугни. Не спугни. Подходи осторожно…
А ещё я забыла сказать,
Что свободно могу осязать
То мгновенье, которое будет,
Луч, который нас завтра разбудит,
День, который ещё не настал,
Дождь, который давно перестал,
Весть, что в окна вот-вот постучится,
И беду, что не скоро случится.
К юной деве Пан влеком…
Не спугни. Не спугни. Подходи осторожно,
Даже если собою владеть невозможно,
Когда маленький ангел на белых крылах —
Вот ещё один взмах и ещё один взмах —
К нам слетает с небес и садится меж нами,
Прикоснувшись к земле неземными крылами.
Я слежу за случившимся, веки смежив,
Чем жила я доселе, и чем ты был жив,
И моя, и твоя в мире сём принадлежность —
Всё неважно, когда есть безмерная нежность.
Мы не снегом – небесной осыпаны пылью.
Назови это сном. Назови это былью.
Я могу белых крыльев рукою коснуться.
Надо только привстать. Надо только проснуться.
Надо сделать лишь шаг различимый и внятный
В этой снежной ночи на земле необъятной.
А между тем, а между тем…
К юной деве Пан влеком
Страстью, что страшнее гнева.
Он бежал за ней, но дева
Обернулась тростником.
Сделал дудочку себе.
Точно лай его рыданье.
И за это обладанье
Благодарен будь судьбе.
Можешь ты в ладонях сжать
Тростниковой дудки тело.
Ты вздохнул – она запела.
Это ли не благодать?
Ты вздохнул – она поет,
Как холмами и долиной
Бродишь ты в тоске звериной
Дни и ночи напролет.
Нет, музыка вечна. Не вечны певцы…
А между тем, а между тем,
А между воспаленных тем
И жарких слов о том, об этом
Струится свет. И вечным светом
Озарены и ты и я,
Пропитанные злобой дня.
Сколько напора и силы, и страсти…
Нет, музыка вечна. Не вечны певцы.
Певцы отдают, к сожаленью, концы.
И тот, кем написана вечная фуга,
С земного сошёл, к сожалению, круга.
И тот, кто волшебно её исполнял,
Он тоже, – простите за грубость, – слинял.
Ушли тромбонисты, ударники – в нетях,
А музыка… Что ей до смертников этих?
В ночной тиши гуляет ветер…
Сколько напора и силы, и страсти
В малой пичуге невидимой масти,
Что распевает, над миром вися.
Слушает песню вселенная вся.
Слушает песню певца-одиночки,
Ту, что поют, уменьшаясь до точки,
Ту, что поют на дыханье одном,
На языке, для поющих родном,
Ту, что живет в голубом небосводе
И погибает в земном переводе.
И через влажный сад, сбивая дождь с ветвей…
В ночной тиши гуляет ветер…
Господь грядущий день наметил
Вчерне, чтоб набело вот-вот
Пересоздать, и будет светел
Через минуту небосвод,
И вспыхнет он полоской алой…
Возможно ль жить без идеала,
Без абсолюта, без того
Неоспоримого начала —
Для всей вселенной одного,
Без веры, будто в мире этом
Безумном, горестном, отпетом
Должно каким-то светлым днем,
Как в детстве, все сойтись с ответом,
Что дан в задачнике моем.
Боже мой, какое счастье!
И через влажный сад, сбивая дождь с ветвей,
Через шумящий сад, где вспархивает птица,
Бежать вперед, назад, вперед, левей, правей,
Вслепую, наугад, чтоб с кем-то объясниться…
Что, кроме бедных слов, останется в строках?
Твержу: «Затменье, бред, безумие, затменье…».
Сладчайшая из чаш была в моих руках,
И ливня, и ветров не прекращалось пенье.
Лишь тот меня поймет, кто околдован был,
В ком жив хотя бы слог той повести щемящей,
Кто помнит жар и лед, кто помнит, не забыл,
Как задохнуться мог среди листвы шумящей.
Что ни сутки, то круглая дата…
Боже мой, какое счастье!
Всё без моего участья —
Ливень, ветер и трава,
И счастливые слова,
Что в загадочном порядке
Появляются в тетрадке.
Я ещё одну минутку…
Что ни сутки, то круглая дата,
Годовщина не знаю чего:
То ли дождика, то ли заката,
То ли ветра, порыва его,
То ли чьей-то любви несуразной,
То ли чьих-то великих побед…
Суть не в этом. Ты, главное, празднуй,
Всех сзывая на званый обед.
Я ещё одну минутку
Попросить у вас хотела:
Я не все печали в шутку
Обратить пока успела,
И не всё, с чем шутки плохи,
Превратила в приключенья,
И не все сумела вздохи
Сделать вздохом облегченья.
II. Эссе о поэзии и поэтах
О, если б без слова…
«Стихи, мой друг, делают не из идей, а из слов», – изрек Малларме. Удивительно, что столь категоричное и прямолинейное определение поэзии принадлежит поэту. Здесь сомнительно все: и отрицание «не из идей» и утверждение «из слов», и глагол в активном залоге «делают». Поэту свойственно говорить о стихах: пишутся, не пишутся. Но не стану тратить много времени на опровержение подобной формулировки. Этим наверняка занимались до меня. Я же привела слова Малларме, чтобы, оттолкнувшись от него, изречь, правда, ни на чем не настаивая, свое: существуют стихи, созданные БЕЗ СЛОВ. Во всяком случае, слова в них погоды не делают.
Что счастие? Короткий миг и тесный,
Забвенье, сон и отдых от забот…
Очнёшься – вновь безумный, неизвестный
И за сердце хватающий полет…
(Александр Блок)
Здесь стиховая ткань будто молью изъедена – жидкая, дырявая, сквозная, вся светится. Слов как бы и нет – настолько они просты, чтобы не сказать банальны. Здесь царят ЗВУКИ тягучие А, Е, О, А, Е, создающие ощущение вакуума, пугающего пространства, в котором совершается бессрочный и бессмысленный полет. Таким стихам по дороге с воздушным потоком, с которым они сливаются и который озвучивают, не нарушая его непрерывного движения.
Впереди одна тревога
И тревога позади…
Посиди со мной немного,
Ради Бога, посиди!
(Сергей Клычков)
«Бессловесная» поэзия – полный антипод другой, в которой слова, обладающие особой энергией и мощью, ложатся не вдоль, а поперек воздушного потока, бросаются ему наперерез, перекрывая и перекраивая его, вызывая ветер, вихрь, бурю.
Без рук не обнять!
Сгинь, выспренных душ
Небыль!
Не вижу – и гладь,
Не слышу – и глушь:
Не был.
Круги на воде.
Ушам и очам —
Камень.
Не здесь – так нигде.
В пространство, как в чан,
Канул.
(Марина Цветаева)
Хотя и эти стихи сотворены из чего-то гораздо более сложного, чем слова – из особой ритмики, звукописи, из тез самых «задыханий», о которых писал Мандельштам, – но «бессловесными» их никак не назовешь – слишком значимо и напористо каждое слово. Сравните с невесомыми, почти бесплотными строчками Фета:
Холодно, ясно, бело,
Дрогнуло птицы крыло.
Солнца еще не видать,
А на душе благодать.
Четыре повествовательных предложения, начисто лишенные каких-либо изобразительных средств, стали поэзией. Почему? Потому, что есть рифма? Но заплести строки в косичку, зарифмовать кончики совсем не значит написать стихотворение. Определить, что здесь есть, гораздо сложнее, чем сказать чего нет. Нет слов, обладающих весом, цветом, плотностью, слов, столь выпуклых и телесных, что кажется, будто их можно взять в руки или хотя бы потрогать. Именно такое чувство возникает при чтении следующих двух четверостиший.
Париж в златых тельцах, в дельцах,
В дождях, как мщенье, долгожданных.
По улицам летит пыльца,
Разгневанно цветут каштаны.
Жара покрыла лошадей
И щелканье бичей глазурью
И, как горох на решете,
Дрожит в оконной амбразуре.
(Борис Пастернак)
Какой густой замес! Творится новая реальность, куда более насыщенная, концентрированная, экспрессивная, чем явь.
Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок.
(Борис Пастернак)
Здесь всё в избытке – тропы, эпитеты, аллитерации. А из чего сделаны такие строки:
Я слышу – история и человечество,
Я слышу – изгнание или отечество.
Я в книгах читаю – добро, лицемерие
Надежда, отчаяние, вера, неверие.
И вижу огромное, страшное, нежное
Насквозь ледяное, насквозь безнадежное.
И вижу беспамятство или мучение
Где все, навсегда, потеряло значение,
И вижу, вне времени и расстояния, —
Над бедной землей, неземное сияние.
(Георгий Иванов)
Перечисление, повторы, нищий словарь, никаких изысков… Да это и не стихи вовсе, а завывание ветра, протяжная песня без слов. Когда в таком почти бессловесном пространстве неожиданно вспыхивает слово, это воспринимается как чудо.
И опять, в романтическом Летнем Саду,
В голубой белизне петербургского мая,
По пустынным аллеям неслышно пройду,
Драгоценные плечи твои обнимая.
(Георгий Иванов)
Драгоценные – единственное здесь слово.
А вот еще образец поэзии, являющейся антиподом «бессловесной»:
Помесь прошлого с будущим, данная в камне, крупным
планом. Развитым торсом и конским крупом.
Либо простым грамматическим «был» и «буду»
в настоящем продолженном. Дать эту вещь, как груду
скушных подробностей, в голой избе на курьих ножках.
Плюс нас, со стороны на стульях.
(Иосиф Бродский)
Попробуй, читая или слушая эти стихи, хоть на секунду отвлечься, упусти хоть одно слово – немедленно потеряешь нить той сложной, искусной словесной паутины, которую выткал поэт-паук. А можно ли потерять нить в таких стихах?
Не мечтай о светлом чуде:
Воскресения не будет!
Ночь пришла, погаснул свет…
Мир исчезнул… мира нет…
(Сергей Клычков)
Читая эти строки, испытываешь удивление. Но удивляешься не мастерству, блеску или виртуозности поэта, а совсем другому – тому, что горсточка обыкновенных слов превратилась в стихи.
А что стихи? Обман? Благая весть? —
Дыханье, дуновенье, вдохновенье.
Как легкий ладан, голубая смесь
Благоуханья и – благоговенья.
(Игорь Чиннов)
Дыханье, дуновенье, вдохновенье – вот самые точные, несмотря на всю их размытость, определения. Песня без слов рождается, когда, благодаря вдохновению, ритм дыхания поэта совпадает с вибрацией воздуха. Приходится прибегать к «воздушному» словарю, потому что ничего более определенного о такой мнимости, как поэзия, тем более «бессловесная», не скажешь.
Нечто подобное есть, наверное, и в смежных искусствах. В живописи это картины Вейсберга, которые настолько призрачны, что почти не нарушают белизны холста. В кино – фильмы Отара Иоселиани, особенно его «Пастораль», где ничего не происходит и остается загадкой каким образом мастеру удается взять зрителя в плен. В музыке – сочинения Пярта. Когда их слушаешь, начинает казаться, что композитор пишет, не подозревая, что музыка существовала и до него, пишет, как первый на свете, как Адам или дитя, потрясенное возможностью извлекать звуки. И звуки эти настолько младенчески целомудренны и простодушны, что почти не нарушают тишины.
У поэта сложные отношения со словом. Он жить без него не может, души в нем не чает, но иногда от слова устает, враждует с ним, теряет в него веру. Тому много свидетельств. Вот лишь некоторые:
Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда!
(Александр Блок)
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои…
(Ф. Тютчев)
Тишина, ты – лучшее из всего, что слышал.
(Борис Пастернак)
Сказав это, поэт опять нарушает тишину и будет, если бог даст, нарушать ее и дальше. Но существуют стихи, которые тишины почти не нарушают, едва сквозь нее проступая, как лик Христа сквозь Плат Вероники.
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
(М. Ю. Лермонтов)
«О если б без слова / Сказаться душой было можно!» (А. Фет) Томление по «неслыханной простоте» и есть томление по разговору, который выше, тоньше, точнее, бесспорнее слов. То есть томление по разговору без слов. Писать без слов – легче легкого и сложнее сложного. Легко – потому что такая поэзия почти лишена метафор. Эпитеты – первые попавшиеся, да и вообще она – простая, как мычанье. Сложно – потому что эти «никакие» слова должны (простите за эксплуатацию образа) совпасть с движением воздушного потока, что почти невозможно. Каждое такое совпадение – счастливый случай. Ошибись хоть чуть-чуть: усиль звук, укороти или удлини строку, и все пропало – стих не взлетит. Это как с воздушным змеем: то ли леска коротка, то ли змей тяжеловат, то ли погода не вышла, но не летит. Зато если стихотворение взлетело, то летит вечно.
Слова? – Их не было. – Что ж было? —
Ни сон, ни явь. Вдали, вдали
Звенело, гасло, уходило
И отделялось от земли
(Александр Блок)
Сиянье им руководит. Георгий Иванов
Георгий Иванов обладал редкой способностью заглядывать за край бытия. Для него это было так же естественно, как заглянуть за шкаф или за печку. Подробности предметного мира не застили ему вечности. Более того, вечность для него – реальность большая, чем сама реальность. Он с ней накоротке: «…старое мое пальто / Закатом слева залито, / А справа тонет в звездах».
«Мы тешимся самообманами», – утверждает Георгий Иванов. Но самообман – это то, чего начисто лишена его поэзия. Она трезва, иронична, написана при беспощадном свете вечности, в ее присутствии и масштабе. Ею поверяется все:
Да, – и то, что зовется любовью,
Да, – и то, что надеждой звалось,
Да, – и то, что дымящейся кровью
На сияющий снег пролилось.
«Мы никогда не знали лучшего, чем праздной жизни пустяки», – говорит поэт, в стихах которого почти нет пустяков. Мир конкретный, осязаемый, зримый – редкий гость в его поэзии:
На юге Франции прекрасны
Альпийский холод, нежный зной.
Шипит суглинок желто-красный
Под аметистовой волной.
И дети, крабов собирая,
Смеясь медузам и волнам,
Подходят к самой двери рая,
Который только снится нам.
Но и эта столь не характерная для Иванова тщательно прописанная радужная картинка завершается строкой: «Сияет вечное страданье, / Крылами чаек трепеща». Даже лучезарный юг не способен заставить поэта забыть, что «души – им нельзя помочь, / Со стоном улетают прочь, / Со стоном в вечность улетают».
«Бесконечность, пропасть, эфир, пустота, бесконечность, пропасть», – как завороженный твердит поэт, сомнамбулически идя им навстречу.
Лунатик в пустоту глядит,
Сиянье им руководит,
Чернеет гибель снизу.
И даже угадать нельзя,
Куда он движется, скользя,
По лунному карнизу.
Его нельзя будить. Да и способен ли этот мир разбудить его? Что такое земная жизнь перед лицом вечности? Тщета и гиль. А раз так, то стоит ли искать для нее какие-то особые слова? Довольно и самых общих:
По улицам рассеянно мы бродим,
На женщин смотрим и в кафе сидим…
Над розовым морем вставала луна
Во льду зеленела бутылка вина…
И люди кричат, экипажи летят,
Сверкает огнями Конкорд…
И все же существует нечто, ради чего стоит оторваться от созерцания бездны.
Теперь бы чуточку беспечности,
Взглянуть на Павловск из окна.
А рассуждения о вечности…
Да и кому она нужна?
Россия. При воспоминании о ней взгляд теплеет, и появляются столь несвойственные Георгий Иванову детали и подробности, согретые живым дыханием:
За окном, шумя полозьями,
Пешеходами, трамваями,
Гаснул, как в туманном озере,
Петербург незабываемый.
Абажур зажегся матово
В голубой овальной комнате.
Нежно гладя пса лохматого,
Предсказала мне Ахматова:
«Этот вечер вы запомните».
Его отношения с Россией удивительно похожи на отношения с вечностью: та же зачарованность, та же обреченность и та же усталость.
Я хотел бы улыбнуться,
Отдохнуть, домой вернуться…
Я хотел бы так немного,
То, что есть почти у всех,
Но, что мне просить у Бога,
И бессмыслица, и грех.
Подобно тому, как поэт на все лады перебирает синонимы вечности, он на все лады перебирает синонимы России: Павловск, Царское, Нева, петербургская вьюга, Павловск, Царское, Россия, Россия. Он приговорен к ней так же, как к бездне.
Мне больше не страшно. Мне томно.
Я медленно в пропасть лечу
И вашей России не помню
И помнить ее не хочу.
И не отзываются дрожью
Банальной и сладкой тоски
Поля с колосящейся рожью,
Березки, дымки, огоньки…
Вопреки утверждению поэта всё стихотворение – плач по России. Многократно повторенное «о» (больше, томно, пропасть, помню) звучат, как жалоба и протяжный стон, а нежные и горестные звуки последних двух строк, «березки, дымки, огоньки» с уменьшительно-ласкательным суффиксом – есть (которое по счету!) признание в любви.
Итак, позади Россия – недосягаемая и туманная. Впереди – бездна, неизбежная и туманная. А в настоящем —
Туман. Передо мной дорога,
По ней привычно я бреду.
От будущего я немного,
Точнее – ничего не жду.
Казалось бы, полная безысходность и нечем дышать. Но в том-то и секрет поэзии Георгий Иванова, что вся она, как ни парадоксально это звучит, из света и воздуха. Причем, воздуха грозового, богатого озоном. Простите за плохую физику, но стихи Иванова созданы из полярно заряженных частиц, что ведет к разряду, яркой вспышке, преображающей и очищающей все стиховое пространство. Его поэзия существует «там, где боль сливается со счастьем», «на границе счастья и беды», «сиянья и гибели».
Белая лошадь бредет без упряжки.
Белая лошадь, куда ты бредешь?
Солнце сияет. Платки и рубашки
Треплет в саду предвесенняя дрожь.
Я, что когда-то с Россией простился
(Ночью навстречу полярной заре,
Не оглянулся, не перекрестился
И не заметил, как вдруг очутился
В этой глухой европейской дыре.
Хоть поскучать бы… Но я не скучаю.
Жизнь потерял, а покой берегу.
Письма от мертвых друзей получаю
И, прочитав, с облегчением жгу
На голубом предвесеннем снегу.
Откуда катарсис? Первая строфа – сплошной свет: солнце, белая лошадь, платки и рубашки, которые тоже почему-то кажутся белыми. Но свет этот – тревожный. Предвесенняя дрожь и невесть куда бредущая лошадь без упряжи внушают тревогу. И она неслучайна. Вторая строфа – безысходность и полный провал из яркого света в глухую дыру (даром что европейскую). Что же дальше? Да ничего: апатия и тоска: «хоть поскучать бы… Но я не скучаю». И вдруг – сплошные разряды и вспышки, возникающие от столкновения разнозаряженных частиц: «Жизнь потерял, а покой берегу. / Письма от мертвых друзей получаю…» И все это завершается коротким, но мощным взрывом не то отчаяния, не то веселья: «И, прочитав, с облегчением жгу / На голубом предвесеннем снегу». С облегчением? Да, с облегчением. Откуда оно? Да с отчаяния. Отчаяние все может. Оно даже способно стать источником света, причиной веселья и ликования:
За бессмыслицу! За неудачи!
За потерю всего дорогого!
И за то, что могло быть иначе,
И за то – что не надо другого!
Надо только, чтоб отчаяние было безмерным. Когда оно переходит все границы, становится отчаянно весело:
Невероятно до смешного:
Был целый мир и нет его…
Вдруг – ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова
Ну, абсолютно ничего!
<…>
Здесь в лесах даже розы цветут,
Даже пальмы растут, – вот умора!
Но как странно – во Франции, тут,
Я нигде не встречал мухомора.
Отчаяние Георгия Иванова особое. Он так с ним сроднился, что оно стало привычным, как дом родной.
За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть отчего прийти в отчаянье
И мы в отчаянье пришли.
В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней,
По снегу русскому, домой.
Магическая поэзия, где даже тьма фосфоресцирует, а конец оказывается не тупиком, а дверью, «распахнутой в восторг развоплощенья». Чего стоят эти ударные «ах» и «о», звучащие как восклицание потрясенной души, уже почти свободной, но еще цепляющейся за земную жизнь и свою бренную оболочку (произнесите «развоплощенье» и вы зацепитесь, споткнетесь за эти сдвоенные «зв» и «пл»).
Удивительная поэзия, где «погибшее счастье летит», страданье сияет, «смерть, как парус, шумит за кормой…» и «полною грудью поется, когда уже не о чем петь». Поэзия, в которой безысходность и музыка – синонимы.
Я не стал не лучше и не хуже.
Под ногами тот же прах земной,
Только расстоянье стало уже
Между вечной музыкой и мной.
Жду, когда исчезнет расстоянье,
Жду, когда исчезнут все слова,
И душа провалится в сиянье
Катастрофы или торжества.
1994
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































