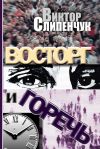Текст книги "Горечь сердца (сборник)"

Автор книги: Лариса Склярук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава десятая
Стоял март. Таяло. Атака захлебнулась. Занять немецкие позиции не удалось. Отступили. Вернулись в свои окопы, чувствуя, что вскоре придётся оставить и их. Санитары пытались оказывать помощь, выносить раненых с поля. Но было слишком светло. До наступления темноты это было совершенно невозможно. Как только на поле начиналось движение, с немецкой стороны скороговоркой строчил пулемёт. Пулемётчики пристрелялись. Пули ложились ровно и точно. Санитары отползали назад, под прикрытие брустверов. Раненые стонали, кричали, звали.
Чтобы очистить проходы в мелких окопах и дать живым понадёжней укрыться, трупы выбросили за бруствер. И они лежали бесприютно и страшно. Каждый старался не смотреть на них, не видеть, не задумываться.
Согнувшись, Фёдор шнырял по траншеям, разыскивая Ивана. Искал, но не находил. Расспросы ни к чему не приводили. Никто не видел его ни живым, ни мёртвым.
– Брось шлындать. Там он, в леске, – раздражённо сказал санитар. Фёдор долго смотрел в ту сторону, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь среди густых голых сплетённых ветвей. Грыз веточку, наполняя рот горечью. Неожиданно его начала бить дрожь. Перешла в озноб. А на небе чистом, синем – ни облачка. Воробьи бойкие по проталинам скачут. И так захотелось Фёдору подальше от этого места очутиться. И сидеть тихо-тихо. В чаще где-нибудь.
Слюну горькую сквозь зубы протолкнул, полез из окопа, перевалил через бруствер. Прополз сквозь отверстие в заграждении из туго сплетённой колючей проволоки, что тянулась вдоль окопов. Пополз по влажной скользкой мазне, состоящей из снега и земли.
– Куда ты? – приглушённо выдохнул вслед санитар. – Дождись темноты. Эх, подстрелят ведь…
Фёдор с силой втянул в себя воздух, пополз дальше. Местность вокруг была фантастически, пугающе мрачной. Всё вокруг было растоптано и смято. Усеяно изуродованными трупами. Разбросаны, растянуты уже ненужные белые бинты, пропитанные свежей кровью. Повсюду валялись груды гильз, патронов, картечных осколков, цинковых коробок из-под патронов. На кустах висели окровавленные клочья мяса.
Спина Фёдора покрылась потом. Ладони заледенели. Несколько раз, когда начинал строчить пулемёт, он, обмирая от страха, вдавливался лицом в талую грязь. Но пулемётные очереди его не доставали, проходили выше. Перебитые пулями ветви сыпались на спину.
Ивана он нашёл. Тот был уже мёртв. Значит, приполз зря. Помочь уже было нечем. Белое лицо друга было совершенно нетронуто, лишь слегка искривлено гримасой. Голубые глаза безразлично смотрели в небо. Руки, чёрные, выпачканные землёй, судорожно зажимали кровавую рану на животе. Кровь на заскорузлой, забрызганной грязью шинели уже подсохла и побурела.
Грязной рукой Фёдор провёл по лицу Ивана. Закрыл голубые стеклянные глаза. Какая дистанция вырастает сразу между живым и мёртвым, какое отчуждение…
Столько погибших уже прошло перед глазами Фёдора, что воспринималось это почти равнодушно. Не изумляло, не заставляло страдать. Словно огромное число убитых не мог человек вместить в своей душе, не мог осилить. Притуплённые нервы отказывались реагировать. А тут, перед телом Ивана, мысли пошли вразброд, душа захолонула. Захлестнул ужас одиночества.
Сидел, тоскуя, прислонившись спиной к тёмному стволу бука. Скорбные мысли блуждали. Кисло пахло мокрой глиной. Шумно и мерзко каркали жирные вороны. Гулко перекатывались редкие орудийные выстрелы. Откуда-то доносились хриплые стоны умирающего.
Поменявший направление ветер вбил в ноздри тошнотный запах гниения и тлена. Фёдор повернул голову. В нескольких метрах от него лежал раздувшийся труп лошади, а под ним гниющий труп кавалериста. Был ли это русский или немец, Фёдор не видел. Тело кавалериста было скрыто тушей коня. Но лицо его, вернее, то, что от него осталось, было ему хорошо видно. Синее гниющее лицо оскалилось неправдоподобно белыми крупными молодыми зубами. Прикрыть этот оскал уже было нечем. Губ не было. В пустых глазницах копошились трупные черви.
Сквозь подкатившее к горлу отвращение, сквозь удушающий страх Фёдор испытывал какое-то первобытное, властное любопытство к таинству смерти. Глаза как магнитом притягивались к шевелящимся глазницам. Невыносимый смрад распада заполнял лёгкие, ложился на губы, язык. Судорожно вздохнув, передёрнулся, сглотнул комок, стоящий в горле, перевёл взгляд на Ивана и, словно извиняясь перед бывшим другом, поправил ему полу шинели.
Тяжело всплыла мысль. Сколько жизней исчезло сегодня… Зачем? Но где-то внутри вместе с печалью и горечью жила эгоистичная радость, что убит не он, и странная, не обоснованная ничем уверенность, что с ним такое произойти не может.
Он пополз назад, в спасительный окоп. Немцы не умолкая били по окопам из тяжёлых орудий. Наши молчали. Снарядов не было.
Встал, побежал, вот он и окоп. Ещё только шаг, – сквозь прорубленное и ещё не отремонтированное проволочное заграждение. Ему показалось, что его ударило комом земли по правой руке. Не сильно. Но ноги почему-то остановили бег, словно наткнулись на невидимое препятствие. Чуть свернув голову, Фёдор взглянул на ушибленную кисть. Её не было. Вместо неё из комка смятого мяса и скрученных жил струёй била кровь. Фёдор схватил здоровой рукой повреждённую выше запястья. Одномоментно пронеслось в голове: «Ну вот, произошло, и слава Богу. И, кажется, не так это страшно».
В несуществующей ладони родилась жестокая, невыносимая боль. Она помчалась по руке вверх в плечо, сдавила горло, ударила в мозг. В глазах почернело. Фёдор упал как подкошенный.
Очнулся в полевом лазарете. Сквозь серую парусину виделся свет. Резко, навязчиво пахло йодоформом, приторно-кисло – испарениями пота, крови, гнойными бинтами.
Затем был полумрак вокзального зала в Харькове. Поезда с ранеными подходили к вокзалу один за другим. Сотни раненых вплотную лежали на полу, на замаранных тюфяках, набитых соломой. Каждый кусочек грязного пола, каждый уголок был занят. Между ранеными бродили смертельно усталые врач, фельдшер и две сестры милосердия в измятых передниках. Стоны, хрипы, зубовный скрежет. Землисто-серые лица раненых с умоляющими скорбными глазами.
Фёдор сидел на полу у стены. Поддерживал здоровой рукой раненую. Качал, словно ребёнка. Марля влипла в культю. Перед глазами плыл туман. Все казались ему тенями. Таинственными, призрачными. Вот из тумана появился врач. Лицо исхудалое, вытянутое. Огромный лоб с залысинами. Глубокие морщины по углам губ. Потянул руку Фёдора к себе. Фёдор дёрнул головой и провалился в забытьё, как в бездонную пропасть.
Он вынырнул из забытья в серых рассветных сумерках. Обвёл палату недоуменным взглядом. За окном шёл дождь. Фёдор лежал, прислушиваясь к однообразному падению капель. Не заметил, как задремал. Проснулся от криков. Повёл вокруг себя мутным взглядом.
– Это из перевязочной, – объяснил голос с соседней койки. Фёдор замер, прислушиваясь, но не к внешним звукам, а к своим внутренним ощущениям. Вынырнет ли из сна вместе с ним и боль в его несуществующей руке. Но боль была отдалённая, ноющая, и Фёдор почувствовал себя почти счастливым.
– Что молчишь, братец? Говорить не можешь? – вновь раздалось с соседней кровати.
– Да нет, отчего же.
Познакомились. Сергей Михайлов, вольноопределяющийся[19]19
Вольноопределяющийся — военнослужащий Российской Императорской армии, поступивший на службу добровольно.
[Закрыть], бывший студент.
– Если бы знал всё это – да дня бы единого войной не дышал. Сбёг бы. Дезертиром и то лучше. Оно, конечно, без руки тяжко. Как работу справлять? Но зато жив. И ты не горюй. Подумаешь, одного глаза нет, но второй то есть. Да радоваться мы должны, что с такого ада живыми вырвались.
– Сукин ты сын. Горлодёр необразованный. Нет патриотизма в тебе. Для тебя Россия – звук пустой. Палечник несчастный.
– Шут его знает, что за патриотизма такая. Ну рви пуп, ежли хошь. Муха и та помирать не хочет. Ты на неё замахиваешься, а она удирать. Кто хочет, пусть воюет. И я за деревней на кулачки горазд. Да только ничего мне у немца не надо. Дать бы ему, по-хорошему, широкой лопатой по одному месту, да и домой в деревню. Да и не палечник я вовсе. Палечник-то левую ладонь из окопа высовывает. Авось попадут. А мне правую напрочь оторвало.
Они помолчали, но тоска по человеческому пониманию, участию толкала к душевному разговору. Фёдор продолжил:
– И в атаку страшно, и умирать страшно, и жестокость людская страшна. Не знаешь, что страшнее. Ты мне вот все уши о равенстве продудел, а я случай тебе расскажу. Под Перемышлем это было, солдатня с семьёй жидовской расправилась. Отца, мать убили, а дети остались. Стоят, к стене прислонившись, белые словно смерть. Трое их было. Девочка лет восьми. Мальчонка чуть помладше, и младенец у него на руках. Девочка чистая, кудрявенькая. Схватили да в кусты поволокли, на ходу платье на ней рвут. Пробовал отбить. Да куда там – озверели, зубы мне вышибли. Ещё счастливо отделался. Девочка кричит, как ножом сердце режет, а они, мужики здоровые, все в смех. Девчонка вскоре замолчала. Видать, померла под первым ещё, а может, придушили невзначай. Руки-то здоровущие, а она дитё нежное. Да может, так оно и лучше. Они-то дела свои всё равно закончили. Не глядели, жива ли.
А мальчонка, братик ейный, у стены стоит, трясётся весь. Я ему сдуру кусок хлеба протягиваю, – ну, чтоб успокоить аль отвлечь. Тоже придёт в голову глупость такая… А он как глянет на меня! Глаза огромные, к себе младенца прижимает. Такого ужаса в глазах я никогда более не видел. Да как заверещит – и бежать бросился, да туда, в кусты побег, где сестрёнка была. Ну, штыком его и прикололи. С младенцем вместе. И всё мысли дрянные в башку лезут. От войны они таки сделались али сразу-то зверями родились? Это ты как объяснишь?
Михайлов подтянул повыше подушку, сел, облокотившись о спинку кровати. Заговорил тоном профессора, читающего лекцию, чувствуя, что несёт свет в народные массы:
– Кроме всего плохого, что несёт война, кроме безнравственности, жестокости, уничтожения, смерти, война ещё и меняет человеческую личность. Меняет чудовищно. Человечество мгновенно скатилось к состоянию кровавого варварства. Одичание достигло предела. Сознание безнаказанности опьяняет. Плевать на мораль, совесть…
Фёдор слышал и не слышал. Слишком холодны были слова для его смятенной обожжённой души. Вздохнул несколько раз глубоко, судорожно, словно пытаясь таким способом освободиться, отогнать от себя гнетущие воспоминания, произнёс вялым усталым голосом:
– Ну они-то тоже сегодня живы, а завтра будут трупами разлагаться.
– Пытаешься оправдать. Насилие рождает насилие. Но жители-то в войне невиновны.
– Невиновны, – повторил Фёдор и замолчал, у него подёргивалась щека. Потом вновь вскинулся, заговорил лихорадочно, избавляясь от мучившей его мысли, – невозможно стало её в себе перебаливать:
– У всех дорога от рождения к смерти идёт. Но у каждого разная. И такая у некоторых скорая, что держись. Не успел родиться, свет посмотреть, как уже уходи, и дверь захлопнулась навсегда. А сердце всё щипет и щипет, и дети эти несчастные всё перед глазами стоят…
Глава одиннадцатая
«В первых строках моего письма я кланяюсь дорогим родителям моим – папаше Антипу Дорофеичу и мамаше Ульяне Афанасьевне – от многолюбящего сына. А также шлю поклон моим сестрицам Вассе и Домне. Желаю вам от Господа Бога доброго здоровья. Кланяюсь также всем родным и знакомым, соседям и соседушкам.
Был я в бою, но, слава Богу, остался жив, но выпал мне тяжёлый жребий. Мне раздробило правую руку. Нахожусь на излечении в лазарете и прошу папашу забрать меня, так как здоровье моё плохо и самому мне до дома не добраться. А письмо вам пишет сестричка, милосердная сестра…»
Скучный серый сентябрьский день клонился к концу. Небо затягивало клочковатыми свинцовыми облаками. От протопленной печи исходило ласковое блаженство. Пахло свежим хлебом, обжитым теплом.
Разложив письмо на столе, осторожно разгладив его складки пальцем, Васса читала, медленно, тщательно складывая слоги, наслаждаясь одновременно и смыслом письма, и процессом чтения. Закорючки, завитушки, а поди ж ты, всё рассказывают!
Ульяна сидела на лавке у печи, устало опустив руки на колени и покачивая головой. В глазах Ульяны стояли слёзы, но не те беспросветные, что были ещё вчера, когда каждый миг терзал её страхом за сына, а тёплые, счастливые. Родное лицо, по которому истосковалась её материнская душа, вставало перед ней, ослепляя своей яркостью. В воспоминании сын был таким, каким она видела его последний раз – молодым и весёлым. Суровые складки лица женщины разглаживались успокоенностью. И вместе с радостью теснились привычные женские заботы: «Пирогов напеку, какие любит. С капустой и грибами».
…Фёдор ожидал отца, сидя на каменных ступенях лестницы перед входом. Мимо него пробегали сестры милосердия, проходили санитары. Все кивали ему как знакомому и как бы спрашивали без слов: «Ждёшь?»
«Жду», – так же кивком головы отвечал Фёдор. Пальцы его, прокуренные, жёлтые от табака, мелко дрожали, держа цигарку. Нелёгкие мысли тревожили душу. То он печалился – и как это отец один тянет хозяйство? – то задумывался о своей дальнейшей судьбе. Не станет ли он слишком большой ношей для семьи, обузой? Не перенести ему тогда обидного для его самолюбия снисхождения.
Налетавший порывами ветер крутил сор, обрывки газет. Солнце временами появлялось в разрывах густых облаков, наполняя сердце осенней печалью о прошедшем лете. Постукивая колёсами, из-за угла появился мерин, впряжённый в телегу. Антип Дорофеич шёл рядом. Увидев сына, сидящего на краю лестницы, остановил мерина.
При появлении отца Фёдор неспешно поднялся. Поправил здоровой рукой подвязанную. Ничто в облике солдата не напоминало того юношу, что всего год назад рвался на фронт. Это был другой, неизвестный Антипу человек. Землисто-зелёный, со скорбными морщинами у губ и усталыми глазами. От худобы он казался одновременно и мальчиком, и старцем. Ушёл парнишкой, а теперь борода щетинится, морщины на лбу.
Антип Дорофеич содрогнулся от той массы страданий, что перенёс сын. Отцовское сердце облилось слезами. Вспомнилось его восторженное молодечество – ненужное, глупое и сейчас кажущееся особенно нелепым. Вспомнилось брошенное весело: «К севу вернусь».
В окна госпиталя на отца и сына напряжённо, тревожно глядели раненые. Все молодые, искалеченные, все в одинаковых коричневых халатах.
Глава двенадцатая
Снег в переулке казался синим. Избы словно утопли в снегу, помельчали. Зимой в деревне не погуляешь. Девушки выпросили у вдовы Анфисы баню на вечерок. Чисто вымыли пол. Хорошо протопили. Сели куделю[20]20
Кудель — очищенное от костры волокно льна, конопли или шерсти.
[Закрыть] чесать, песни петь да парней ожидать. Бродят парни по селу с одной посиделки на другую.
К шестнадцати годам Васса, что называется, расцвела. Высокая, статная, сильная. Лицо белое, гладкое. Миндалевидные серые глаза, крупный алый рот, волосы цвета спелой ржи и гордый изгиб шеи. Щёки рдели, что кумач. Это они с Таисьей додумались перед посиделками щеки бадягой[21]21
Бадяга — пресноводная губка. Растёртая в порошок, применяется в медицинских целях.
[Закрыть] намазать, чтоб краше быть.
Обожжённые щёки огнём горели, но ловкие пальцы проворно щипали кудель. Бежала из-под пальцев ссученная нить. Быстро крутилось веретено на конце ниточки.
Но вот под окном раздались шорохи. В стекло легонько стукнули. Собаки залаяли громко, по-особенному по-зимнему.
– Ой, девчата, это ж парни пришли. Сейчас вскочат, лучину тушить почнут. Не поддавайтесь, – крикнула Таисья полным весёлого ожидания голосом.
В избу ввалилась гурьба шумных кавалеров. Девки притворно шарахнулись. Хохотали над чем попало. В возне и суматохе образовались пары для будущих свадеб.
Семён подсел к Вассе. Она стрельнула глазами вбок, но промолчала, не отодвинулась, лишь усерднее нить потянула.
Росточку Сёмка был невысокого, но черты лица его были довольно приятные, с этаким отпечатком деревенской простоты. Сёмка обнял Вассу за талию, васильковые глаза его помутнели от желания, на лбу выступили капельки пота. Тяжело дыша, зашептал на ухо:
– Пойдём, пойдём в сарай, поиграем.
– Ишь чего захотел, – сверкнула глазами девушка и оттолкнула обнимающую её руку.
– Женюсь на тебе, ей-богу, женюсь. А хоть завтра сватов пришлю, – сладострастно посулил, засуетился Сёмка, засопел, пытаясь вновь притянуть к себе девушку. От него неопрятно пахнуло немытым телом, старой заношенной одеждой, махрой.
– Завтра, – насмешливо протянула Васса. – Да тятенька небось и не отдаст за тебя, за бедного. Он говорит, все бедные – дурные и ленивые. Тятька твой лодырь беззаботный, детей делать умеет, а кормить – так нет. Да и мать твоя дура непутёвая. На огороде летом всё сохнет, а она – нет чтоб к пруду сходить, воды принести, полить. Стоит жалится: дождя нет. И огород у вас весь в бурьяне. Так что убери руки, а то как дам в лоб – кувыркнёшься!
Возня в бане затихла, все прислушались. Потом звонко захохотала Таисья, за ней и все остальные. Лицо Семёна вытянулось, побледнело, губы сжались и даже посинели. Такая злость его взяла, что, забыв о притворстве, о ласковости, обнажая мелкую свою низость, он плеснул в Вассу грязными словами:
– Чего бережёшься то? Небось не мыло, не смылится.
…В последних числах декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, отстояв службу, Антип Дорофеич степенно вышел из церкви. Надел шапку. Принаряженные Ульяна и дочери в цветастых шалях, в ботиночках высоких шнурованных, на каблучках, прошли вперёд, раздавая милостыню нищим на паперти.
Подошёл Панков Емельян Иванович. Маленький, сухонький. Лицо благостное, сияющее. Глаза притворно простодушные. В плисовом коротком пиджачке, волосы, стриженные в кружок, коровьим маслом намазаны.
– Чего тебе, Емелька? – спросил Антип.
– Надобно мне поговорить с вами, Антип Дорофеич, – просительно сказал Емельян и шапку сдёрнул поспешно, почтение показывая. Антип удивлённо взглянул, повторил, недоумевая: – Чего тебе?
– Вот какое дело, Антип Дорофеич, – Емельян помолчал, потом вскинул на Антипа голубые, не без хитрецы, глаза и, вновь прикрыв их, сказал: – Малец-то мой, Сёмка, по вашей Васке сохнет. Хочу сватов заслать, – и вновь глазами-то на Антипа – зырк. Антип даже опешил от такой наглости. Самый бедный, захудалый мужик в селе, пьяница, губошлёп и лодырь, живёт в гадкой, грязной, убогой избе, – а к нему в родственники набивается. Ерник сермяжный.
– Не присылай, – сказал твёрдо, – откажу.
– Это почему ж такое, Антип Дорофеич? Чем это мой Сёмка вам не угодил?
Но Антип Дорофеич не собирался снисходить до объяснений. Размеренным твёрдым шагом хозяйственного, знающего себе цену мужика он пошёл прочь. Но Емельян не отставал, он поспешил следом, и вновь раздался его голос, в который он влил столько елея, что невозможно было слышать его без подступающей к горлу тошноты.
– Ан не ошибиться бы вам, Антип Дорофееич. Времена-то иные настают.
Антип не оглянулся.
В воздухе плыло торжественное гудение медного колокола, долго дрожало в воздухе, постепенно замирая вдали, где-то в полях.
Глава тринадцатая
В конце августа теплынь стояла, словно летом. Базарная площадь кипела народом. На огромном её просторе сновали взад и вперёд пёстрые толпы.
На пыльном базарном выгоне весело и шумно. Пахло пылью, дёгтем, едким конским навозом, сеном. Фыркали лошади, мычали коровы, жалобно блеяли овцы, волы равнодушно и сонно жевали сено.
Васса на ярмарку принарядилась. Кофточка светлая с рукавами широкими, на запястье стянутыми. Юбка пышная цветастая. Лента красная вокруг головы завязана, и бусы в три ряда.
Стоя возле телеги, Васса переминалась с ноги на ногу, расплетала и заплетала косу. Ей было томительно и скучно. Хотелось побродить среди лотков, палаток, будок, навесов, что расставлены на площади. Да одной боязно было. А отец с братом всё ходили, лошадей смотрели, ни на одной выбор свой не могли остановить. Походят, посмотрят, поторгуются, да в сторону отойдут советоваться. Барышники вокруг них вьются, словно пчёлы над цветами. За полы пиджаков хватают. Праздные зрители, советчики непрошеные рядом толкутся.
А рынок шумит, гудит, пестрит разными красками. Васса совсем уж заждалась:
– Тятенька, а тятенька, ну когда же пойдём, мне б гребёнку купить да платок новый.
– Да замолчи ты, оглашенная. Сказано, пойдём после дела.
Наконец Фёдор сжалился над сестрой:
– Да отпусти ты её, тятя. Пусть с краю походит. Куды она денется.
– А затолкают. Там такие молодцы бродят…
– Да с краю, тятенька. Ситцев посмотрю да и вернусь.
Антип Дорофеич поскрёб бороду, кивнул головой, соглашаясь.
Васса двумя руками по ленте провела, бусы поправила и не спеша направилась к лоткам. И чего только здесь нет! Сукна и овчины, шапки и рукавицы, ярко расписанная деревянная посуда, шёлк китайский, сукна голландские, кармазинные[22]22
Кармазин – старинное тонкое сукно насыщенного красного цвета.
[Закрыть]. В огромных корзинах – яблоки и грибы. Веники свисают так, что прохожие их задевают головой. На столах тушки розовых поросят, битой птицы, колбасы, окорока. Девушка один прилавок оглядит, а уж следующий манит. Не заметила, как и в самую середину толпы попала. И хочет назад повернуть, да не получается. Давка, теснота. Все хлопочут, суетятся.
Вдруг откуда ни возьмись два парня появились. Один рыжеватый, с цепкими рысьими глазами, россыпью ржаных веснушек на белом примятом лице. У второго лицо простое, глуповатое, редкие белёсые волосы к потному лбу прилипли, мутные глаза в стороны разбегаются. Подгулявшие парни увидели Вассу – и к ней.
– Ишь какая ягодка свеженькая, да раскраснелась-то как… Дави её, Фомка, прижимай, – командовал рыжий резким голосом и слова говорил грубые, стыдные, похабные.
– Пустите, пустите, образины окаянные, охальники!
«Ой, совсем пропала», – билась мысль в голове Вассы.
Как вдруг она услышала спокойный, но решительный голос:
– Ты, девушку-то отпусти, не замай.
– Чаво-чаво? – откликнулся рыжий притворно-испуганным голосом.
– Отпусти, говорю, урод.
– А то что?
– А то голову тебе отмотаю.
Запыхавшаяся, отбивающаяся Васса на мгновение повернула голову в сторону говорившего и увидела высокого парня со смуглым удивительно приятным лицом. На гладкий загорелый лоб спадала прядь кудрявых волос. Карие глаза под чуть приспущенными веками взглянули на девушку приветливо и грустно.
Липкие руки рыжего отпустили Вассу, и он стал протискиваться к парню. Васса, расталкивая всех локтями, стремительно бросилась вон из толпы. С трудом переводя дыхание, добежала до телеги.
– Ты чего это словно на пожар спешила? Аль обидел кто? – подозрительно покосился Фёдор.
– Да нет, нет. Это я так… – неловко пробормотала Васса, приглаживая растрёпанные волосы, поправляя сбившиеся набок бусы.
…Между тем парни тоже выбрались из толпы. И тут оказалось, что рядом с высоким стоят друзья. Не настолько рыжий был пьян, чтобы не понять, что им сейчас здорово могут накостылять. И хотя белёсый приятель Фомка рвался в драку, размахивая руками и бормоча «подь сюды, в рыло дам», рыжий поразительно быстро поменял свои задиристость и нетерпеливость на доброжелательную покладистость. Так что дело закончилось миром и, как водится, в кабаке. Надо ж было винца выпить, чтоб знакомство закрепить.
Под низким потолком висели чад и гул. Грязные лампы скудно освещали лица. Звон посуды, вой, смех, пьяные споры. Пахло стоялой горечью кухонного чада с крепким потом лошадей.
Рыжий привычно зубами откупорил полуштоф красноголовки[23]23
Красноголовка – плохо очищенная дешёвая водка. Полуштоф – 0,61 литра. Стоил 40 копеек.
[Закрыть], налил стакан водки, перекрестился и, хитро прищурившись, дунул в стакан.
– Это чтоб беса отогнать, – объяснил он. Аккуратно выцедив стакан, тут же налил второй, засмеялся: – Это чтоб быстрее в голову ударило.
Лениво пожевал солёной капусты, ожидая, пока выпьют другие. Лицо его постепенно разглаживалось. Придвинулся к Никифору.
– Вижу, девка тебе понравилась, – с ехидной вежливостью сказал рыжий и рассыпал смех – дребезжащий, вязкий, и бородёнка его редкая, растрёпанная мелко задрожала. Никифор покосился недружелюбно, спросил сухо:
– А тебе она знакома?
– А то, – рыжий значительно помолчал. – Антипа Михеева из Ольховатки дочь. Ваской зовут, – и подмигнул пакостно и стыдно.
…Долго догорал закат. Заревой румянец мягко отступал перед лиловым сумраком. В зыбком мареве тонули горизонты. Лишь верхушки берёз ещё горели золотистым цветом. Над скошенным лугом витало увядание. В роще куковала кукушка.
– Ах, Таська, милая, если бы ты его видела… Ладный такой. Дюже хорош. А как звать – не знаю.
– Совсем ополоумела, дурёха, – сказала Таиска, укоризненно покачав головой.
– Кудри надо лбом вьются. Глаза внимательные и ласковые такие, смотрит, словно по щеке рукой гладит. Ах, кабы такой-то парень ко мне посватался… Прислонилась бы к нему, аж в дрожь бросает.
– Да, хорошо, – вздохнула Таисья. – Да чума их знает. В парнях-то все они хороши. А потом в такого долдона превратится, что спаси бог.
– «Неволя велит и сопливого любить», – грустно сказала Васса. – Так, подруженька милая, хоть помечтаем.
– Неволя… – насмешливо протянула Таисья. – А Сёмку смогла бы полюбить?
– Скажешь тоже…
Две девичьи головки, тёмная и светлая, склонились друг к другу, запели вполголоса:
Последний нонешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья.
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья.
Заплачут братья мои, сестры,
Заплачет мать и мой отец,
Ещё заплачет дорогая,
С которой шёл я под венец.
В тёмном небе засветились звёзды. Туманной полосой тянулся к горизонту млечный путь. С дороги пахло дёгтем и пылью.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?