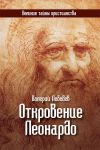Текст книги "Мастер Страшного суда. Иуда «Тайной вечери»"

Автор книги: Лео Перуц
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Прошу вас, не говорите мне об этих повозках! – воскликнула мадонна Лукреция. – Ужели именно помыслы о сражениях и кровопролитии так надолго отвратили вас от спокойного и мирного искусства живописи?
– Еще я бы хотел, – увлеченно продолжал Леонардо, – напомнить его высочеству о реке, об Адде: надо ею заняться, тогда она сможет нести корабли, приводить в движение мельницы, масляные прессы и иные машины, орошать поля, луга и сады. Я рассчитал, где необходимо соорудить водохранилища и дамбы, шлюзы и плотины, чтобы отрегулировать водоток. Все это улучшит земли и станет ежегодно приносить его высочеству шестьдесят тысяч дукатов доходу. Вы поднимаете брови, мадонна, вы качаете головой? По-вашему, сумма, которую я назвал, непомерно завышена? Думаете, в мои расчеты вкралась ошибка?
– Вы, мессир Леонардо, рассуждаете о многом, – сказала Лукреция. – Однако ж упорно избегаете единственного предмета, близкого сердцу его светлости и моему тоже. Я имею в виду роспись, которая вам заказана. Нашего Спасителя и Его учеников. Говорят, вы косо смотрите на свои кисти и беретесь за них через силу и с отвращением. Об этом, а не о масляных прессах и военных повозках я хочу от вас услышать.
Мессир Леонардо понял, что не сумел уйти от вопросов по поводу «Тайной вечери», которые вызывали у него только досаду. Но, будучи по натуре уравновешен, он не утратил спокойствия и сказал:
– Надобно вам знать, мадонна, что душа моя целиком устремлена к этой работе, а домыслы людей, мало разбирающихся в подобных вещах, так же далеки от истины, как мрак от света. И я просил досточтимого отца-настоятеля, молил его, как молят Самого Христа, чтобы он набрался терпения и перестал наконец что ни день жаловаться, терзать меня и торопить.
– Я думала, завершение такого благочестивого труда будет для вас радостью. Или работа над росписью отняла у вас силы и утомила…
– Мадонна! – перебил ее Леонардо. – Знайте же, что дело, которое столь мощно влечет меня, захватывает и пленяет, не может меня утомить. Таким создала меня природа.
– А отчего, – спросила герцогская возлюбленная, – отчего бы вам не поступить с этим старцем, как добрый сын поступает с отцом, отчего бы не исполнить его волю, а значит, и волю его светлости?
– Эта работа, – отвечал Леонардо, – ждет своего часа. Она будет завершена во славу Господа и во славу этого города, и никто не принудит меня допустить, чтобы она принесла мне нечестие.
– Стало быть, люди говорят правду, – удивилась Лукреция, – вам боязно сделать промах и навлечь на себя упреки? И у вас, у художника, которого называют первым мастером нашего времени, больное воображение: там, где другие видят в вашей работе чудо совершенства, вы непременно усматриваете недостатки, да?
– То, что вы, мадонна, – не знаю, от великой любезности или по доброте сердечной, – ставите мне в укор, не соответствует действительности. Но я бы хотел, пускай лишь отчасти, быть таким, каким вы меня видите. На самом же деле я связан с этой росписью, как любящий с любимой. А как вам известно, любимая, капризница и недотрога, частенько отталкивает от себя того, кто ухаживает за нею с пылкой страстью.
– Это шутки, и правды в них нет, – сказала герцогская возлюбленная, которая все, что имело касательство к любовным историям, принимала на свой счет. – Мессир Леонардо, вы знаете мою неизменную к вам расположенность. Но может статься, ваше упорное стремление уклониться от работы над этой росписью вызовет у его светлости недовольство и огорчение, а тогда вы едва ли надолго останетесь у герцога в фаворе.
Когда мессир Леонардо услыхал эти слова, странницы-мысли увлекли его прочь, он увидел себя, одинокого и сирого служителя искусства и наук, в чужедальних краях, без друзей и спутников, без крыши над головой.
– Быть может, – обронил он, – мне назначено жить отныне в скудости. Однако ж благодаря многообразию доброй природы я повсюду, где б ни был, нахожу новое и поучительное, а это, мадонна, и есть задача, которую возложил на меня Тот, кто приводит в движение все пребывающее в покое. И пусть мне придется вести свою жизнь в другой стране, среди людей чужого языка, я все равно не перестану помышлять о славе и пользе этого герцогства, храни его Господь.
И он склонился к руке Лукреции, будто пробил час расстаться навсегда.
В этот миг к мадонне Лукреции с глубоким поклоном подошел слуга Джомино и сообщил, что герцог желает ее видеть, ибо начальник тайной канцелярии свой доклад закончил. Мессир Леонардо хотел было уйти, но Джомино робким жестом остановил его.
– Простите, сударь… у меня и для вас известие, и мне очень нелегко передать его вам, ибо оно не из тех, что доставляют радость. Но вы ведь, наверное, не захотите, чтобы я, не желая вас огорчать, умолчал о деле, которое, быть может, весьма важно.
– Так, – сказал Леонардо, – значит, ты имеешь мне сообщить, что я навлек на себя немилость герцога и что бранит он меня крепкими и горькими словами.
Юноша энергично помотал головой:
– Нет, сударь, его светлость никогда этак о вас не говорил, поверьте, он произносит ваше имя с величайшим уважением. То же, что я имею сообщить, касается не вас, а одного из ваших друзей. Мессир ди Ланча называет этого человека Манчино и говорит, что не раз видел его в вашем обществе, но христианского имени его я не знаю.
– Этого никто не знает, – сказал Леонардо. – Так что же с Манчино?
– Нынче утром его нашли смертельно раненным в саду возле дома «У колодца», он лежал в луже крови; мессир ди Ланча говорит, что ему, скорей всего, раскроили лоб секирой. А надобно знать, сударь, дом и сад принадлежат тому самому Боччетте, который вам известен, и его светлость герцог приказал взять Боччетту под стражу и предпринять расследование, и, может быть, на сей раз ему…
– Где же находится Манчино? – спросил Леонардо.
– Простите, что я сразу не сказал, – извинился Джомино. – Его поместили в больницу шелкоткацкой гильдии, по словам мессира ди Ланча, там он и лежит, ожидая священника и соборования.
На третьем этаже больницы, под самыми стропилами, в каморке, где и коек уже не было, только охапки соломы, брошенные на пол и застланные ветхими грубыми простынями, мессир Леонардо отыскал Манчино. Тот лежал с закрытыми глазами, изрытое морщинами лицо горело в лихорадке, руки все время беспокойно двигались, одеяло он скинул, голова была обмотана повязкой. Двое его друзей, художник д’Оджоно и органный мастер Мартельи, находились подле раненого, и органный мастер, которому пришлось пригнуться, чтобы не задевать стропила, держал в руках кувшин с вином.
– Он не спит, только что пить просил, – сообщил д’Оджоно. – Да вот беда: давать можно лишь наполовину разбавленное вино, а оно ему не очень по вкусу.
– Плохо с ним, – прошептал Мартельи на ухо Леонардо, нагнувшись еще ниже. – Священник приходил, исповедовал его и соборовал. Хирург говорит, что, подоспей помощь вовремя, все, может, и обошлось бы. Но люди, которые его нашли, понятно, призвали всех святых и притащили из церкви святые дары, а хирурга позвать не догадались. Только здесь, в больнице, очистили рану и остановили кровь. Должно быть, он повздорил с Боччеттой, ведь нашли его поблизости от дома этого человека.
– Пить! – тихим голосом воскликнул Манчино, открыл глаза и глотнул из кувшинчика, который органный мастер поднес к его губам. Потом он увидел Леонардо, по лицу его скользнула улыбка, и он приподнял руку в знак приветствия. – Привет тебе, мой Леонардо! Большую радость ты мне доставил своим приходом и оказал великую честь, но лучше б ты обратил свой ум к вещам куда более важным, чем мое теперешнее состояние. Этот глупец – он вправду скорее глупец, чем негодяй, – аккурат когда я закончил мой визит и хотел вылезти в окно, опробовал на мне свой топорик и по дурости раскровенил мне лоб. Пустяк, от такого не умирают, но я все же почел за благо на часок-другой предать себя в руки хирурга.
Он опять попросил пить, сделал глоток и скривил губы. А потом продолжал, указывая на человека, лежащего рядом на соломе:
– Вот с ним худо. Собственный мул сбросил беднягу наземь и так отделал копытами, что, как говорит хирург, на ноги его никто уж не поставит. Мне-то куда больше повезло.
Лихорадка донимала его, мысли путались.
– Нет, из-за моей души вам биться незачем, эй, вы трое там, наверху, Отец, Сын и Дух Святой, оставьте ее, где она есть, и Ты, Пресвятая Троица, жди терпеливо, знаешь ведь, я от Тебя не сбегу, я всегда был добрым христианином, не из тех, что ходят по церквам воровать свечи. Трактирщик, чтоб тебя, зачем поишь меня вином, которое еще в погребе трижды разбавил и тем напрочь загубил для любого христианина!
Несколько времени Манчино лежал с закрытыми глазами и молчал, хрипло и тяжело дыша. Потом, когда дыхание успокоилось, он открыл глаза. Лихорадка отпустила, и из слов его было ясно, что он понимает, каково его состояние.
– Je m’en vais en pays lointain[22]22
Я ухожу в далекую страну (фр.).
[Закрыть], – сказал он и, прощаясь, протянул к друзьям руки. – Прошу вас, оплачьте со мною мои безвозвратно ушедшие дни, как ткацкий челнок проворно мелькнули мимо они. Если б мне было дано принять смерть у турок или у язычников, ради торжества христианской веры, Господь бы с охотою простил мне мою грешную жизнь и все святые и ангелы рая встретили бы мою душу ликующими псалмами и звуками виолы. А теперь я предстану пред судом Господним таков, как есть и был всю жизнь, – пьяница, игрок, бездельник, забияка, охотник до шлюх…
– Вершитель наших судеб знает, что ты совсем не такой, ты поэт, – сказал Леонардо и взял руку Манчино в свою. – Но скажи мне ради всего святого, зачем тебе понадобилось связываться с этим Боччеттой?
– Всему есть причина. Познай ее, и ты поймешь случившееся – не твои ли это слова, Леонардо? Я часто слышал их от тебя, – отвечал Манчино. – И разве мир не полон горечи и измены? Пришла тут ко мне одна, умоляла и плакала, не ведая, как помочь своему горю, и если б она могла умереть от стыда и боли, то умерла бы прямо у меня на глазах. Так вот, я взял у нее из рук деньги и, влезши в окно, отнес их обратно к Боччетте, но сделал я это воистину как неуклюжий медведь, поднял шум и разбудил его, а он вообразил, что я пришел воровать. Если же ты, Леонардо, ищешь Иуду, я знаю точь-в-точь такого, какой тебе надобен. Не ищи более! Я нашел тебе Иуду. Правда, он положил в кошелек не тридцать сребреников, а семнадцать дукатов.
Манчино закрыл глаза, хватая ртом воздух.
– Коли я правильно понял, – заметил художник д’Оджоно, – он говорит о немце, который хотел стребовать с Боччетты семнадцать дукатов. Этот немец побился со мной об заклад на один дукат против двух, что взыщет свои деньги с Боччетты не мытьем, так катаньем, ибо он не из тех, кого можно нагреть на семнадцать золотых. А нынче он мне сообщил, что честно-благородно выиграл заклад, Боччеттины семнадцать дукатов у него в кармане, и что завтра утром он явится ко мне за проспоренной суммой. Так что придется нынче обивать пороги, обойти три-четыре дома, где у меня должники, – попытаюсь добыть дукат, в кошельке-то моем не более двух карлинов наберется.
– Неплохо бы взглянуть на этого немца, которого Манчино зовет Иудой, – проговорил Леонардо. – И пусть он нам расскажет, как исхитрился получить с Боччетты свои денежки.
– Пить! – простонал Манчино.
– Об этом можно спросить самого Боччетту, – сказал органный мастер и, поднося к губам Манчино кувшин, другой рукой указал на дверь.
– Господи помилуй! И впрямь он! – воскликнул д’Оджоно.
На пороге стояли два городских стражника, а между ними – Боччетта, в обтерханном плаще и стоптанных башмаках, руки его были связаны за спиной, но глядел он спесиво – ни дать ни взять знатный вельможа, за которым неотлучно следуют двое слуг.
– Вот, сударь, мы ваше желание исполнили, – сказал один из стражников. – А теперь поторапливайтесь, говорите, что хотели, да покороче, чтоб не терять время впустую.
Боччетта узнал мессира Леонардо и поздоровался, как дворянин с дворянином. Затем увидал Манчино и подошел к соломенному одру, стражники вплотную за ним.
– Вы узнаете меня? – спросил он раненого. – Я пришел сюда ради спасения вашей души, не убоялся утомительной дороги, из христианского сострадания, дабы наставить вас на путь истины. Вспомните: убегая, вы рассыпали краденые золотые по полу, ровно чечевицу или фасоль, мне пришлось все углы облазить, насилу собрал. Но семнадцати дукатов там недостает, сколь я ни старался, они не нашлись, исчезли, а ведь деньги эти не мои, они принадлежат благочестивому служителю церкви, некоему досточтимому священнику, который дал их мне на сохранение, стало быть, эти монеты святые и освященные. Скажите, где вы их припрятали или закопали, я прошу вас об этом лишь ради спасения вашей души.
– Одеяло! – попросил Манчино, сотрясаемый ознобом, и, когда д’Оджоно укрыл его, он ответил Боччетте: – Ищите! Ищите со всем прилежанием, забудьте досаду, ползайте на карачках, старайтесь, надрывайте пуп, пока не найдете. Вы же знаете: у кого деньги, у того и честь.
– Ты не желаешь говорить? – завопил Боччетта, побелев от ярости и тщетно пытаясь высвободить связанные руки. – Ну так провались в преисподнюю, и пусть черти как следует повеселятся, глумясь над тобою, а я бы, я бы тебя…
– Избавьте его от этого мучителя! – крикнул д’Оджоно стражникам. – Зачем вы привели сюда этого мерзавца, его место в тюрьме!
– Да мы и шли в тюрьму, – сказал один из стражников, – только он по дороге всю душу нам вымотал, долдонит и долдонит: отведите меня к этому горемыке, чтобы он обрел прощение.
– Как вы меня назвали, молодой господин? – Боччетта обернулся к д’Оджоно. – Мерзавцем? И место мое в тюрьме, так вы сказали? Ну, мне-то все равно, поношения меня не трогают, а вот вам это обойдется в кругленькую сумму! Погодите, вот выйду на свободу и опять стану сам себе хозяин – вы мне за все заплатите! Мессир Леонардо, вы все слышали и будете свидетелем!
– Уведите его, – приказал Леонардо стражникам, – ибо суд, коий он ежедневно оскорбляет и осыпает насмешками, наконец поразил его своею дланью.
– Notre Seigneur se taist tout quoy…[23]23
Господь молчит… (фр.)
[Закрыть] – прошептал Манчино, и были это последние его слова, больше он не дал ответа ни на один вопрос. Слышались только тихие стоны, а потом хрип, который продолжался до того раннего вечернего часа, когда он испустил дух.
Глава 13
Дожидаясь в комнате у д’Оджоно Иоахима Бехайма, Леонардо рассматривал деревянный сундук, расписанный сценами брака в Кане Галилейской, и одобрительно отозвался об этом произведении, которое молодой художник закончил всего лишь накануне.
– Вижу, – сказал Леонардо, – что и при такой нудной и утомительной работе ты не упустил из виду самое главное, что властвует всею живописью, – перспективу. И рисунок хорош, и краски ты наносишь хорошо. И что опять-таки похвально, фигуры ты поставил так, что по их позам легко распознать нрав и помыслы. Этот вот наемник намерен пить, и только пить, он и на свадьбу пришел затем, чтоб напиться до бесчувствия. Отец невесты – человек добропорядочный, честный; всяк сразу видит, что его уста не произнесут неправды и, дав согласие жениху, он свое слово сдержит. А распорядитель пира – с первого взгляда заметно, как для него важно ублаготворить всех гостей.
– Ну а Христос? – спросил д’Оджоно, который не мог наслушаться похвал.
– Ты придал Ему благородные, возвышенные черты, и Богоматерь у тебя полна очарования и прелести. Не нравится мне только эта дорога вверх по холму, с тополями, что не способны дать тени. Если нет уверенности в изображении ландшафта, спроси природу и живую жизнь.
– Увы! – воскликнул д’Оджоно. – Я знаю и стыжусь, что этот злосчастный брак мне совершенно не удался. Никуда моя работа не годится, и я бы с радостью разбил сундук в щепки и пустил на дрова, но уже назавтра за ним придет заказчик!
– Работа вполне удалась. Это произведение мастера, – успокоил его Леонардо. – И светотень у тебя заслуживает только доброго слова.
Резчик Симони тем временем уже в третий раз живописал своему другу, органному мастеру Мартельи, сколь удивительный поворот приняли накануне все его обстоятельства.
– Ты знаешь, я по нескольку раз на дню хожу из мастерской через дорогу, в церковь Сант-Эусторджо, и вот вчера смотрю – она в совершенном отчаянии стоит на коленях в боковом приделе, перед тем Христом, что сработан просто из рук вон плохо, мальчишка, который держит мне долото, и то бы этак не напортачил. Одному богу известно, как давно она там стояла и плакала навзрыд, личико горестное, щеки залиты слезами, и, увидев ее, такую несчастную, я, сам не знаю как, наконец осмелился с нею заговорить. Ты не поверишь, но я привел ее к себе домой, сказал, что у меня тут старик отец, что он болен, прикован к постели и нуждается в уходе и что она сделает поистине доброе, христианское дело, коли присмотрит за ним ночью, а она взглянула на меня… может, узнала, я ведь часто с нею здоровался, а может, и нет… словом, верь или не верь, но только она пошла со мною, ей было вроде как безразлично, что с ней происходит, а ночью она плакала, я слышал… так вот, сегодня утром, когда я принес ей и отцу молоко с хлебом, она мне улыбнулась. Может быть, после всего, что ей довелось пережить… когда пройдет время и она привыкнет ко мне… Томмазо! Если бы я мог удержать ее, если бы она осталась – я полагал бы себя счастливейшим человеком во всем христианском мире. Ну сам посуди, какой из меня любовник – ноги короткие, грузный, руки в мозолях от долота и стамески. Нет, все мои надежды и планы попросту тщеславны, и ты, Томмазо, пожалуй, не ошибешься, если поставишь меня на одну доску с теми, кто силится из меди сделать золото. Ведь она по-прежнему только о нем и помышляет.
– Я помню его, – сказал Мартельи. – И вполне могу понять, что она полюбила его. Он молод, высок ростом, горделив лицом…
Дверь отворилась, и человек, о котором у них шла речь, Иоахим Бехайм, вошел в комнату. Он был в дорожной одежде, в сапогах для верховой езды – кажется, вот сию минуту сядет на коня и покинет город.
Увидев Леонардо, он тотчас шагнул к нему и поклонился.
– Я давно желал свести с вами знакомство и насладиться вашим обществом, – почтительно произнес он. – Некоторое время назад случай столкнул нас на старом дворе герцогского замка, в тот день, когда я продал его высочеству пару коней, варварийца и сицилийца. Быть может, сударь, вы вспомните меня.
– Как же, как же! – сказал Леонардо, но перед глазами у него возник только образ варварийца.
– С тех пор, – продолжал Бехайм, – я часто слышал ваше имя. Произносили его с благоговением и похвалою и рассказывали о вас вещи небудничного толка.
Еще один поклон, а затем он поздоровался с д’Оджоно и остальными двумя.
– Я, – сказал Леонардо, – тоже весьма желал вас увидеть, тем паче что у меня, признаться, есть к вам дело.
– Почту за честь служить вам, – с отменной учтивостью отвечал Бехайм. – Приказывайте, сударь.
– Вы очень любезны, – сказал Леонардо. – Я прошу вас вот о чем: поведайте нам, как вы сумели получить с Боччетты, знаменитого на весь Милан вора и обманщика, свои деньги, семнадцать дукатов.
– В результате чего я позорно проиграл заклад и должен теперь расплачиваться, как мне это ни тяжело, – заметил д’Оджоно.
– Ведь куда лучше узнать все из первых рук, – пояснил резчик.
– Пустяки, тут и рассказывать не о чем. – Бехайм пододвинул стул и тоже сел. – Я этого Боччетту с самого начала предупредил, что по части денег меня не надуешь, а кто пробовал меня одурачить, неизменно очень об этом жалел, ибо в конце концов оставался в убытке.
– Нам, – сказал Леонардо, – весьма любопытно услышать вашу историю.
– Чтобы не слишком испытывать ваше терпение, начну с того, что здесь, в Милане, я повстречал девушку, которая необычайно мне понравилась. Не стану хвастать, но я привык без большого труда получать от женщин все, что хочу, так уж мне на роду написано, вот и она тоже стала моей. Ах, господа, я думал, что нашел в ней ту, кого искал всю жизнь. И красавица, и полна прелести, и стройна, и росту высокого, по горделивой и изящной походке за тысячу шагов узнаешь, а вдобавок послушна, и скромна, и до роскоши не охотница; она полюбила меня и на других даже не смотрела.
Умолкнув, Бехайм в глубокой задумчивости глядел прямо перед собой, потом сильно потер ладонью лоб, точно желая прогнать образ, который вновь соткался в памяти из собственных его слов. И продолжал:
– Стало быть, я искал ее и здесь, в Милане, нашел. Но однажды вечером, всего несколько дней назад, я пришел в трактир «Барашек» угоститься вином и потолковать с одним тамошним завсегдатаем, и там я узнал, что моя любимая – дочь Боччетты.
Он вскочил и в огромном возбуждении заметался по комнате. Потом снова упал на стул.
– Сколько тысяч людей в Милане, а ее отец именно Боччетта! Мне только этого и недоставало! Сами видите, судари мои, как жестоко судьба порой обходится с честным человеком.
– Иуда Искариот тоже, поди, называл себя честным человеком, а? – прошептал резчик на ухо органному мастеру.
– Не могу передать вам, какие мысли меня обуяли. Стыдно признаться, но я и теперь еще любил ее и был совершенно обескуражен, когда это уразумел. Меня терзала боль, безумная, чудовищная, невыносимая, я ни спать, ни есть не мог, но в конце концов решил ее обуздать и выбросить из себя.
– И это вам с легкостью удалось? – спросил резчик.
Бехайм помолчал немного, потом ответил:
– Нет, какая уж тут легкость! Мне пришлось сделать большое усилие, чтобы одолеть колдовскую власть, которую она все еще имела надо мною. Но я опамятовался, уяснил себе, что никак не могу жить с нею. Ведь жить с нею значит не только проводить с нею рядом ночь и, как говорится, сводить колокольню с церковкой, нет, это значит есть и пить вместе с нею, ходить вместе с нею в церковь, спать и бодрствовать, поверять ей мои заботы, делить с нею все радости, – с нею, дочерью Боччетты! Да будь в ней хоть райский сад – она не могла ни сделаться моей супругой, ни остаться моей любимой. Я слишком сильно любил ее, а этого моя гордость и честь не допускали.
– Да, – сказал Леонардо, думая о другом человеке, – его гордость и честь этого не допускали.
– Сам не знаю, кто мне пособил в этом деле, кто наставил на путь истинный, – может, ангел-хранитель, а может, Господь или Пресвятая Дева. Но когда я одолел эту любовь, все стало просто. – Бехайм опять помолчал. – Она пришла ко мне, как приходила каждый день, и на уме у нее были любовные игры, но я притворился, будто меня гнетут тяжкие заботы. Дескать, нехватка в деньгах, требуется ни много ни мало сорок дукатов, а я знать не знаю, где их взять, так что дело плохо. Она слегка испугалась, призадумалась, а потом сказала, чтобы я не тревожился из-за этих денег, она может их достать, есть один способ… Ну, я и поймал ее на слове… Поймите меня правильно, господа, вообще-то недостатка в деньгах я не испытываю, в венецианских кладовых у меня шелка да шерсти на восемь сотен цехинов, в любое время могу продать, и с барышом.
– Я полагал, – заметил Леонардо, – что вы живете с торговли лошадьми.
– Деньги можно заработать на любом товаре, – наставительно сказал Бехайм, – нынче на лошадях, завтра на подковных гвоздях, на крупах, а равно и на жемчугах или индийских пряностях. Я торгую всем, что приносит доход, то притираниями, ароматической водой и румянами из Леванта, то александрийскими коврами, а ежели вам вдруг известно, где можно задешево купить лен, сообщите мне, потому что в этом году хорошего урожая льна не ожидается.
– Слыхал? Всем подряд торгует, – шепнул резчик органному мастеру. – Будь его воля, он бы и кровью Христовой торговал.
– Вернемся, однако ж, к истории, которую вы желали услышать, – снова заговорил Бехайм, – наутро она пришла с деньгами, отсчитала мне сорок дукатов и, полагая, что выручила меня из беды, была в прекрасном настроении. Не стану утомлять вас, господа, в подробностях живописуя, что случилось потом, что я ей сказал и что она ответила. В общем, она созналась, что украла деньги у отца, ночью, когда он спал, и я сказал, что это поступок недостойный, нечестный и он мне совершенно не нравится, так как идет вразрез с христианскими заповедями и дочерней любовью, и теперь, показавши мне свое истинное лицо, она никак не может быть моею, я более не желаю ее видеть. Сперва она приняла мои слова за шутку, рассмеялась и сказала: «Хорошие же речи слышу я от мужчины, который уверяет, будто любит меня!» Но после, когда поняла, что я говорю серьезно, она принялась упрашивать, умоляла, плакала в безумном отчаянии, но я решил не слушать ее и не обращал внимания на ее жалобы. Из тех денег я отсчитал семнадцать дукатов, которые причитались мне по праву, и, как положено, дал ей расписку, и оставшуюся сумму тоже отдал, чтобы она вернула ее отцу, ведь я на чужое не зарюсь, а вот свое взыскать обязан. На прощание я протянул ей руку и сказал: «Иди и не возвращайся!» – а она вдруг вскипела и даже дерзнула выбранить меня, назвала дурным человеком. Но я вспомнил слова, которые у вас, – он обернулся к д’Оджоно и указал на сундук с изображением брака в Кане, – на этом браке произносит Спаситель: «Что Мне и Тебе, Жено!» – и выпроводил ее за дверь.
– Стало быть, вы продали великую любовь за бесценок, как дешевенький перстенек! – возмущенно укорил его Мартельи.
– Сударь! Я не знаю, кто вы такой и как понимать это пустословье, – оскорбился Бехайм. – Вы никак вздумали корить меня за то, что я вернул отчаявшемуся отцу его деньги и дочь?!
– О нет, никто вас не корит, – примирительно сказал Леонардо. – Вы хорошо провернули это дельце с Боччеттой…
– Правота была на моей стороне! – воскликнул Бехайм.
– Конечно-конечно. И я, – продолжал Леонардо, – окажу вам заслуженную честь, позабочусь, чтобы память о вас в Милане не исчезла. Ибо лицо такого человека достойно быть запечатленным для потомков.
И он вытащил из-за пояса свою тетрадь и серебряный карандаш.
– Я высоко ценю оказанную вами честь, – заверил Бехайм, сел поудобнее и разгладил свою темную холеную бородку.
– А ваша любовь к ней, – спросил у немца резчик, когда Леонардо приступил к наброску, – или то, что вам казалось любовью, вы полностью с нею покончили?
Бехайм пожал плечами.
– Это мое дело, а не ваше, – бросил он. – Впрочем, если хотите знать, то я все еще не забыл ее, она не из тех, кого так легко забыть. Но думаю, что перестану вспоминать о ней, как только отъеду от Милана миль на тридцать-сорок.
– И куда же вы направляетесь? – осведомился д’Оджоно.
– В Венецию, – отвечал Бехайм. – Задержусь там на четыре-пять дней и снова в дорогу – морем, в Константинополь.
– Я, – заметил резчик, – тоже охотно путешествую, но лишь в те края, где пасутся коровы. – Он намекал, что не настолько глуп, чтобы очертя голову устремляться в открытое море или в иные бурные водоемы.
– Опять к туркам? – воскликнул д’Оджоно. – Неужто вы не опасаетесь за свою жизнь, это же гнусные дикари, готовые почем зря пролить христианскую кровь!
– Турок, – объяснил ему Бехайм, – у себя дома и в своих землях вовсе не так страшен, как его малюют, ведь и черт у себя в аду тоже, верно, вполне хороший хозяин. Кстати, вы не забыли, что должны мне дукат? Придется вам его выложить, хотя бы затем, чтобы впредь больше уважать меня и мне подобных.
Д’Оджоно вздохнул и извлек из кармана горстку серебра. Бехайм принял деньги, пересчитал и, поблагодарив д’Оджоно, высыпал их в свой кошелек.
– Будьте добры, не прячьте кошелек, подержите его в руке! – с улыбкой попросил Леонардо, кивнув Бехайму, тот замер с кошельком в ладони, а Леонардо меж тем добавил к наброску еще несколько штрихов и завершил работу.
Бехайм встал и расправил члены, а потом обратился к Леонардо с просьбой показать ему рисунок.
Рассмотрев свой портрет, он остался очень доволен и не скупился на похвалы.
– Да, это я, сходство поистине велико. И ведь вы сумели сотворить такое за считаные минуты! Да, все, что я о вас слышал, отнюдь не преувеличение! Вы, сударь, вправду знаете толк в своем ремесле, кой-кому не мешало бы взять с вас пример.
Он перевернул страницу тетради и с удивлением прочитал заметки Леонардо. «Кристофано из Бергамо. Возьми оного на заметку, – было написано там. – У него как раз такая голова, какую ты намерен дать Филиппу. Поговори с ним о том, что его тревожит: о болезнях, опасности войны и растущем бремени налогов. Найдешь его в переулке Сант-Арканджело, где красивая подпорная арка, в доме „У двух голубков“, над лавкой ножовщика».
– Вы пишете на манер турок, справа налево… А кто такой этот Филипп, о голове коего вроде бы идет речь? – полюбопытствовал немец.
– Филипп, один из учеников Христа, – ответил Леонардо. – Он любил Спасителя великой любовью, и я хочу поместить его на переднем плане моей росписи, которая изображает Христа в окружении учеников за Тайною вечерей.
– Клянусь душою! – воскликнул Бехайм. – Чтобы написать этакую картину, вы, как видно, должны позаботиться о многих вещах, не считая красок да кистей!
И он вернул мессиру Леонардо его тетрадь. Потом сказал, что, к сожалению, обстоятельства не позволяют ему долее наслаждаться обществом собравшихся, ибо время торопит, мул уже под седлом. Взяв плащ и берет, он почтительно склонился перед мессиром Леонардо, взмахнул беретом, прощаясь с д’Оджоно и резчиком, бегло кивнул органному мастеру Мартельи, который снискал его неприязнь, и вышел вон.
– Ишь вышагивает, – с горечью проговорил д’Оджоно, погрозив ему вслед кулаком. – И ради этого человека Манчино пришлось умереть!
– Умереть! – сказал Леонардо. – Я называю это иначе. Он гордо воссоединился с Великим Целым и тем избавил себя от земного несовершенства. – Сунув тетрадь за пояс, он произнес еще несколько слов, в которых звучали радость и триумф: – Теперь у меня есть все необходимое. И, глядя на это произведение, люди поймут, что и небо, и земля, и Сам Господь, пославши мне этого человека, зримо явили мне свою помощь, пособили в трудах. Вот теперь я докажу тем, кто придет после нас, что и я жил на этой земле.
– И наконец-то, – сказал д’Оджоно, – вы исполните желание герцога, которому служите, и прибавите славы городу, которому принадлежите.
– Я, – отвечал Леонардо, – не служу ни герцогу, ни иному правителю и не принадлежу никакой стране или империи. Я служу лишь моей страсти видения, познания, упорядочения и созидания и принадлежу своему творчеству.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?