Текст книги "Александр I – старец Федор Кузьмич: Драма и судьба. Записки сентиментального созерцателя"
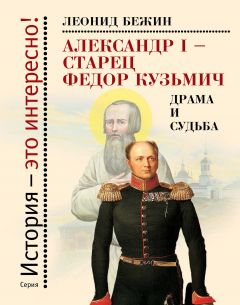
Автор книги: Леонид Бежин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава восьмая. Путевой дворец
Однако вернемся к нашему путешествию. День в поезде промелькнул быстро, за чаем и неспешными разговорами, и вот мы в Таганроге, ждем троллейбуса на привокзальной площади, чтобы добраться до гостиницы. В руках сумки и чемоданы, в карманах блокноты и записные книжки: достославная экспедиция! День пасмурный, небо облачное, низкое, белесое, с голубыми просветами; ветрено. Рядом с нами ждет толпа таких же, как мы, приезжих с сумками, огромными чемоданами, тюками и корзинами, накрытыми марлей. Собственно, города еще нет, виден только вокзал, пыльная площадь, ларьки, палатки, одним словом, то, что вселяет в приезжих некую необъяснимую и непередаваемую тоску, смешанную с экзистенциальным сомнением в собственном бытии. Тоску вызывает недоуменный вопрос: зачем я здесь, и я ли это?! Город же, подтверждающий факт вашего бытия и содержащий в себе ответ на вопрос «зачем?», словно бы отделен от вас невидимой стеной и отодвинут в неопределенное будущее, роковым и неотвратимым образом связанное с прибытием душного, скрипучего, неуклюжего южного троллейбуса, в который вас внесет наседающая толпа…
Так встретил нас Таганрог, представший в своем привокзально-палаточном обличье, и в то же время первым, сразу обозначившимся во мне чувством было: здесь! Именно здесь случилось то, что вот уже более полутора веков гипнотически воздействует на умы, вызывая столько домыслов, предположений, догадок, гипотез: император-то вовсе не умер, а в гроб вместо него… Именно, именно! Странно подумать, и эта странность объясняется конечно же не свойствами самого места, какими бы причудливыми они ни были, а неким сближением, таинственной связью: здесь, рядом с вами. Всего лишь несколько дней назад вы находились непростительно близко от дома, на беспечном отдалении от этих мест и вдруг оказались рядом… рядом настолько, что само место приобрело значение неустранимой жизненной данности: вы теперь здесь пре-бываете, можно даже сказать, живете.
«Таганрог – уездный город на берегу Азовского моря; на западе – Миусский лиман, на востоке – Донецкое гирло. Город – на мысу, с трех сторон – море, и в конце почти каждой улицы оно голубеет, зеленеет, как стекло бутылки, мутно-пыльное.
Невеселый городишко: пустыри-площади, товарные склады, пакгаузы и рассыпанные, как шашечки, низенькие, точно приплюснутые, домики с облупленною штукатуркою и вечно закрытыми ставнями; а кругом степь – тридцать лет скачи, никуда не доскачешь».
Так описан в романе Мережковского «Александр I» тот, прежний Таганрог, но почти такой же и Таганрог нынешний, только разросся во все стороны и дома стали выше, заслоняют, скрывают, прячут от глаз море…
Мы наскоро устроились в гостинице, оставили в номерах вещи и, охваченные нетерпеливой горячкой, устремились в город. Во-первых, нам нужен был центр, историческая часть города со старинной застройкой, церквями, особняками, а во-вторых – краеведческий музей, где же еще искать сведения о пребывавшем здесь императоре, как не в милом, добром, патриархальном краеведческом! Да, в краеведческом музее с фамильными портретами в тяжелых золоченых рамах, диванами и креслами, обитыми полосатым тиком, коврами и дорожками, устилающими дубовый паркет, висящими на стенах чубуками и кальянами и выставленными в витринах фарфоровыми сервизами, цветочницами в кринолинах и китайскими болванчиками. Одним словом, что-нибудь да найдется, и, вскочив на ходу в первый случайно подвернувшийся трамвай (не ждать же целый час следующего), мы по обычаю всех приезжих стали допытываться, расспрашивать, как доехать до краеведческого. Доехать-то просто, ответили нам, да вся беда в том, что закрыт ваш краеведческий. Давным-давно закрыт на ремонт, и неизвестно, когда откроется.
Признаться, мы приуныли, услышав такой ответ, и потянуло на нас сиротским холодком невезения. Холодком, от которого особенно зябко в чужом городе. Трамвай же ходко бежал по рельсам, безучастный к нашему унынию, и тут мы увидели из окон другой музей, о котором вовсе и не помышляли, – градостроительства и архитектуры. Музей, тоже безучастный к нашим устремлениям, как бегущий по рельсам трамвай; ну что там может быть связано с Александром! Он же тут не градостроительством занимался, а переживал духовную драму, драму самоотречения! Вырывался из пут! Но день клонился к вечеру, деваться было некуда, и мы решили на всякий случай зайти и спросить – а вдруг? Не повезло с одним музеем, повезет с другим: фортуна – особа капризная и изменчивая, и какой-нибудь дремлющий в кресле старичок-смотритель или сторож со связкой ключей, глядишь, посоветует, подскажет, наведет на след…
И мы зашли: здравствуйте… мы такие-то и такие-то… хотели бы узнать… Александр I… в Таганроге… какие-то вещи… Вдруг – я могу поручиться! – комнату озарило неким нездешним сиянием (отблески его легли на наши лица), и нам ответили: да, да, сохранились подлинные вещи Александра I из его путевого дворца. Вот, пожалуйста, они выставлены в соседнем зале нашего музея, словно вас-то и дожидаются.
Мы бросились в соседний зал: неужели?! Подлинные… из путевого дворца?!. Действительно, на музейных подиумах стояли замечательные, старинные, распространявшие вокруг себя некую благоуханную ауру, создавшие атмосферу изящества, благородства и тонкого вкуса, я бы даже сказал, звучавшие, музыкально согласованные друг с другом, насколько способны звучать в едином строе, вещи: лаковый овальный столик на выгнутых ножках, кресло с украшенными резьбой подлокотниками, секретер с откинутой крышкой, голубая ваза, подсвечники и прочие мелкие предметы, настольные безделушки. Мелкие, но ведь каким-то образом уцелели, не сгинули, и вот они теперь передо мной. Признаться, меня охватил зябкий, недоверчивый восторг: вещи Александра! Те самые, которые он брал в руки, – вот они… Я тоже могу прикоснуться, воспользоваться тем, что в зале нет смотрителя, и потрогать, погладить рукой – подлинные… Потрогать и ощутить его касание – с той, запредельной, зазеркальной стороны. Я протягиваю руку, и с той стороны – он. Протягиваю, и подушечки наших пальцев…
Одним словом, вещи в моем сознании приобрели образ человека, и из воздуха – тончайших эфирных нитей – соткалось, возникло, обозначилось: тонкие выпуклые губы, чуть затуманенный взгляд красивых голубых глаз… Впрочем, здесь он был уже не тот, что под Аустерлицем, – гораздо старше, ближе к портрету, написанному Мережковским (таким его видела дочь Софья): «Вот пухлые бритые щеки с ямочками, с двумя полосками золотистых бакенов, и мягкий, раздвоенный подбородок, и гладкий, плешивый лоб с остатками белокурых, вьющихся волос, начесанных кверху; и между нависшими бровями морщинка, не гневная, а только грустная, жалкая; и жалкие, грустные, детские прозрачно-голубые глаза; и на губах, прелестно очерченных, юных, улыбка не лукавая, а пленительно-нежная, тоже детская, беспомощная. И сутулые плечи, немного наклоненные вперед; и тучный, но все еще стройный стан, затянутый в узкий темно-зеленый кавалергардский мундир с серебряными погонами; и стройные, словно изваянные, ноги в лакированных ботфортах с острыми кончиками».
Да, портрет замечательный (как и весь роман в целом), скульптурно вылепленный, проработанный, описание очень точное. В выражении лица Александра и тогда оставалась эта немецкая мечтательность, шиллеровская сентиментальность и нечто неуловимо женственное, безвольное, ускользающе-скрытое, заставившее Пушкина сказать: «…слабый и лукавый…» Все-таки лукавый, хотя Мережковский это как будто отрицает («улыбка не лукавая», но ведь это – глазами дочери!). Пушкин, конечно, угадал, хотя и выразил свою догадку в форме беспощадной эпиграммы. Если же снять иронию и довериться психологии, действительно слабый и лукавый… Можно даже добавить: двойственный, вечно сомневающийся в себе и других, недоверчивый – целый набор черт, свидетельствующих не о достоинствах или недостатках, а о сложности душевного устройства. Эти вещи – тоже часть портрета. Прихотливо разбросанные в пространстве, они доносят нечто невыразимо александровское, свойственное только ему, его непередаваемой самости: овальный столик – могучую стать высокой фигуры; подлокотники кресла – напряжение сильных ладоней, накрывающих резных крылатых львов; подсвечники – очертания склоненной в задумчивости головы, но главное – чернильный прибор, который я пытался представить, рисуя в воображении картину: ночь… звезды… холод неизвестности… Александр уходит, и ему жаль расставаться с дорогими сердцу вещами, в них заключено тепло привычной жизни. Пытался представить, и вот он есть… Чернильный прибор с его письменного стола – фарфоровый, затейливого вида, явно из тех вещиц, к каким привыкают, привязываются, особенно такие люди, как Александр со свойственным ему культом письменных принадлежностей, любви к очиненным перьям. Я как бы вызвал из небытия, усилием воли материализовал этот чернильный прибор: сначала подумал, а затем увидел и словно бы узнал – тот самый… Это чувство узнавания распространилось и на другие вещи, существовавшие независимо от моего воображения, но словно бы знакомые мне, потому что я о них либо читал, либо слышал. Подсвечники, шевельнулась догадка, – те же… Не в них ли стояли свечи, которые Александр однажды зажег во время дождя, а затем забыл потушить, и слуга сказал ему: нехорошо, мол, дурное предзнаменование, свечи днем только над покойником горят. Сказал, и царю запомнилось: «Эти свечи у меня из головы не выходят».
Такими же знакомыми показались мне и вещи императрицы Елизаветы Алексеевны: столик для рукоделия, коврик с надписью «То свято место, где ты молилась»; зеркало, часы, конечно, не те, любимые Елизаветой с детства, подарок матери – фарфоровый пастушок со сломанной ручкой (о них упоминает Мережковский), но тоже принадлежавшие ей. Я столько прочел и могу представить, как она щурилась на свет, вдевая нитку в иголку; как протыкала иголкой туго натянутый шелк, прогоняя по нему стежки разноцветной вышивки; как опускалась на колени перед иконой и рассеянно крестилась, откидывая пряди волос со лба; как азартно подсаживалась к зеркалу, стараясь смотреть на себя так, чтобы не замечать своего же ответного взгляда, как нехотя догоняла и нетерпеливо опережала взглядом золоченые стрелки, вздыхая о том, что слишком уж быстро летит, или сетуя, до чего же медленно тянется упрямое время. Могу представить, словно все эти жесты, взгляды, сетования и вздохи запечатлелись в вещах, из которых складывается некий предметный портрет их хозяйки.
Портрет в чем-то неуловимо совпадал с описаниями современников. «Трудно передать всю прелесть Императрицы: черты лица ее чрезвычайно тонки и правильны, греческий профиль, большие голубые глаза, правильное овальное очертание лица и волосы прелестнейшего белокурого цвета. Фигура изящна и величественна, а походка чисто воздушная. Словом, Императрица, кажется, одна из самых красивых женщин в мире. Характер ея должен соответствовать этой прелестной наружности. По общему отзыву, она обладает весьма ровным и кротким характером» (секретарь саксонского посланника Н. Розенцвейг). Характер должен соответствовать наружности (прав посланник Розенцвейг!), а наружность – вещам…
Итак, нашим первым открытием были сохранившиеся вещи из путевого дворца, а сам дворец? Вернее, одноэтажный каменный дом, названный дворцом лишь потому, что там останавливался император? Он-то сохранился? Пощадило ли его окаянное время, прокатившееся кровавым колесом по старинным особнякам и усадьбам? Признаться, надежда была слабенькая, и я заранее готовил себе утешение: ладно, не дом, так место. Попытаемся разыскать хотя бы место, где стоял путевой дворец, а остальное восстановит воображение: окна, стены, крышу и все прочее. Воображение же у нас – замена счастию, да, да, не привычка, а – воображение…
Я спрашиваю у сотрудников музея: где? Совсем неподалеку, отвечают, в двух шагах, и не просто место, а тот самый дом, сохранившийся, уцелевший и даже ни разу не перестраивавшийся. Вот уж действительно чудо! Правда, внутри все изменилось, поскольку там сейчас детский противотуберкулезный санаторий, но чего же вы хотели! Это уж было бы слишком, чтобы остались в первозданном виде покои императора и императрицы, столовая, гостиная и прочие комнаты. Слишком, знаете ли, слишком, этого и желать нельзя!
Мы торопливо распрощались, напоследок еще раз оглядели музейные залы и отправились на улицу III Интернационала, где и находился царский дворец. Дворец Александра и Елизаветы Алексеевны, где ж ему еще находиться, как не на улице с таким названием! Интернационал! Хотя смотря что в это вкладывать: может быть, Александр и не был бы против. Он ведь тоже стремился нации объединить, правда на христианских началах…
Отправились мы всей нашей дружной компанией, впереди мой краснолицый, вечно хохочущий друг, с миловидной художницей, а сзади мы со знакомым драматическим писателем. Наконец вот он перед нами, этот дом. «Дом с красивым благородным фасадом, двумя слабо обозначенными выступами-ризалитами, замками над высокими окнами и карнизом, украшенным сухариками», – записал я наскоро, по первому впечатлению в книжечке, и теперь привожу не исправляя, как есть. Дом, где якобы умер… но на самом деле не умер, а ушел в никуда… одним словом, именно здесь все и происходило, здесь свершалась эта драма.
Именно, именно – представьте себе! – здесь, но только в другое время, когда вас еще не было, и вот теперь время прошло, а вы появились и пытаетесь внушить себе, что место важнее времени и невозможность оказаться в том загадочном пространстве, которое мы именуем тогда, оправдана вашим пребыванием здесь. Поэтому вы свидетель тех событий, какие происходили в этом доме, ведь вы же видите и дом, и окна, и украшенный сухариками карниз! Видите и стараетесь связать некоей воображаемой нитью, мысленно сблизить это с тем, что именно сюда 13 сентября 1825 года в сопровождении бывалого, испытанного служаки генерал-адъютанта Дибича и мудрого, опытного, осмотрительного лейб-медика баронета Виллие прибыл Александр, усталый, осунувшийся, в запыленном дорожном платье. Он обошел чисто убранные комнаты, стуча каблуками лакированных ботфортов по паркету, распахивая перед собой высокие белые двери, откидывая тяжелые портьеры на окнах и пробуя косточками сжатых в кулак пальцев тугую упругость диванов. Постоял у окна, глядя на теплое, солнечное, золотисто-янтарное море, изгиб залива, паруса рыбаков. Задумался о том, о чем обычно думает человек на новом месте, впрочем, не таком уж новом, поскольку он бывал здесь и раньше, и ему запомнилось: тихий, скучный, уютный, глухой уголок. Лучше и не найдешь, чтобы осуществилось это…
Но решился ли он переступить ту последнюю черту, которая отделяла его от такой милой, привычной и ненавистной ему жизни? В те дни, пожалуй, еще нет: он знал, что когда-нибудь, но – когда? Завтра, через месяц, через полгода? Это должен был решить случай, и случай должен был подсказать – как. Ему же оставалось только не торопить события и ждать, и вот 15 сентября он пишет Аракчееву: «Здесь мое помещение мне нравится. Воздух прекрасный, вид на море, жилье довольно хорошее; впрочем, надеюсь, что сам увидишь». Иными словами, устраивается на долгий срок и еще приглашает гостей, значит, время еще не настало. Александр здоров, бодр и деятелен, сам распаковывает ящики с посудой, достает хрусталь и фарфор и забивает гвозди для зеркал и картин, любимых картин Елизаветы Алексеевны…
10 октября он едет в область Войска Донского и посещает Новочеркасск, станицу Аксайскую и Нахичевань, а 20 октября вместе с генералом Дибичем направляется в Крым, без Виллие, поскольку нет никакой необходимости брать с собой врача. Повторяем, он здоров, бодр и деятелен настолько, что во время крымского путешествия покупает Ореанду, которая понравилась ему своими пальмами, кипарисами и видом на море, признавшись Дибичу, что намерен построить здесь для себя дворец и разбить великолепный – с образцами пышной южной растительности – парк. «Я скоро переселюсь в Крым и буду жить в Ореанде как частное лицо… Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок позволят выйти в отставку», – говорит он, хотя при этом у него в бумагах хранится подробный церемониал погребения императрицы Екатерины II. Зачем он ему, если он собирается жить в Ореанде как частное лицо? Жить и не умирать, а может быть, все-таки… если не умирать, так разыграть, как он в детстве разыгрывал пьесы, принимал позы перед своей бабушкой Екатериной, инсценировать собственную смерть и похороны в согласии со строгим официальным церемониалом?! Инсценировать и, испытав странное, одновременно и влекущее, и отталкивающее чувство присутствия на собственных похоронах (лицезрения себя в гробу), уйти, исчезнуть, кануть.
Разговоры же о скором переселении в Крым и выходе в отставку – это для Дибича и тех, кто в эту минуту мог находиться рядом и слышать слова императора. Пусть они думают, что он просто устал, как солдат, отслуживший двадцать пять лет, и мечтает об отдыхе, покое, безмятежной старости – это им понятно, а что действительно происходит у него в душе – одному Богу ведомо. Ведомо Богу и тому человеку, у которого он побывал по дороге в Таганрог и с кем долго беседовал наедине, при свечах и мигающем свете лампад, – преподобному Серафиму Саровскому. Возможно или наверняка побывал?
Иные историки отрицают этот факт, ссылаясь на то, что преподобный Серафим, мол, еще не вышел из затвора и к тому же был не в ладах с тогдашним настоятелем, но саровские предания хранят память о посещении Александра, хранят, берегут, лелеют, значит, все-таки было… Феодор Козьмич с Серафимом явно связаны духовно, и тому есть немало подтверждений, на что обращают внимание исследователи. Серафим, к примеру, говаривал, что православие – большой, оснащенный корабль, а разные секты, в том числе и старообрядческие, – это лодки, которые не тонут лишь потому, что крепко к нему привязаны. Феодор Козьмич выражал эту мысль теми же словами: корабль… лодки… по Серафиму. Кроме того, в деревне Зерцалы вместе с Феодором Козьмичом жил благодатный старец Даниил, пребывавший в постоянном молитвенном общении с Серафимом Саровским. Когда томская мещанка Мария Иконникова попросила у старца Даниила благословения, чтобы странствовать с котомкой по России, тот ей сурово отказал, велел сидеть дома и чулки вязать, но она не послушалась и самочинно отправилась в Саров. Преподобный Серафим ее строго отчитал: «Зачем ты пошла по России? Ведь тебе брат Даниил не велел больше ходить по России. Теперь же ступай назад, домой!..»
Вот оно как: брат Даниил… Значит, не мог не знать и о брате Феодоре. Думаю, беседовал с ним Александр по дороге в Таганрог, наверняка беседовал, наедине, без посторонних, с глазу на глаз. А глаза у Серафима были удивительные, по-детски ясные, жгуче-прозрачные, проникавшие в самую душу, – глаза святого человека. Что ему сказал Александр, приняв благословение, и что тот ответил ему, коснувшись его головы легкой сухой ладошкой и трижды перекрестив во имя Отца, Сына и Святого Духа, навеки останется для нас тайной, которую мы не откроем, и загадкой, которую не разгадаем, сколько бы ни сидели в архивах и библиотеках. Не откроем, не разгадаем – и все-таки что?
Чудный сон мне Бог послал —
С длинной белой бородою
В белой ризе предо мною
Старец некий предстоял
И меня благословлял.
И еще вспоминается из Пушкина: «В путь отправился король…»
Глава девятая. Убийство Павла
«Едва императрица Мария Федоровна вошла в опочивальню и увидела тело супруга, громкий вопль излетел из груди ее.
Шталмейстер Муханов и доктор Роджерсон поддержали Марию Федоровну. Великие княжны тихо плакали.
С минуту все стояли неподвижно. Страшная тишина была вокруг мертвеца.
Тогда императрица стала приближаться к телу. Колени ее медленно сгибались, и она поникла, целуя маленькую, изящную, уже пожелтевшую, восковую руку императора.
– Ах, друг мой, – могла она только промолвить.
Вдруг загрохотали барабаны караула, стоявшего с другой стороны опочивальни.
Вошли Александр и Елизавета, сопровождаемые графом Паленом и князем Платоном Зубовым.
Златокудрый, юный Александр, несмотря на всю скорбь свою, проехавшись в Зимний дворец и обратно, овеянный весенним дыханием солнечного, прелестного утра, получив уже множество знаков беспредельного обожания со стороны государственных чинов, гвардии и толпившегося на улицах радостного народа, входя в опочивальню, внес с собою струю жизни и отражение блеска ее на нежных алых устах и чуть опушенных ланитах и на прекрасных очах своих.
Но когда он впервые увидел изуродованное лицо своего отца, с надвинутым на проломленный висок и зашибленный глаз краем шляпы, накрашенное и подмазанное и все же, несмотря на гримировку, обнаруживавшее ужасные синие кровоподтеки, тогда юноша впервые ясно понял и представил себе, что произошло с несчастным родителем его. Пораженный, немой, побелев, как полотно, неподвижно остановился он, вперив широко раскрытый, полный ужаса взор на страшные останки самодержца.
Императрица-мать на шум обернулась к входящим.
Несколько мгновений она переводила взор с сына на мертвого мужа и обратно. Затем, отступив от тела, она сказала сыну негромко, но отчетливо, с выражением глубочайшего горя и совершенного достоинства:
– Теперь вас поздравляю: вы император.
При этих словах император Александр как сноп рухнул во весь рост без чувств.
Никто не успел поддержать его».
«Теперь – поздравляю». Какая убийственная, высокомерная издевка под видом поздравления! Значит, знает, что Александр причастен к заговору, и даже не пытается скрыть своего презрения. «Ах, друг мой» и «вы император» – сколько самых разных оттенков в этих словах. Она называет другом убитого и изуродованного Павла и императором – унаследовавшего окровавленный престол Александра. Другом и императором; поистине шекспировская сцена, во всяком случае так ее воссоздает Н. А. Энгельгардт в журнале «Исторический вестник». Главное в этой сцене даже не то, что знает Мария Федоровна, а то, что Александр, по существу, не знает. Да, он причастен, но зачинщики скрыли свое намерение убить Павла. «Уверяю вас, ни капли крови, – убеждал Александра светский и любезный, жестокий и вероломный граф Пален, – мы не посягаем на жизнь вашего родителя, а хотим лишь избавить страну от тирана. Согласитесь, что дальше так продолжаться не может… Страна устала» – шептал он Александру на ухо, и в голосе его, внешне почтительном и подобострастном, сквозил внушительный холодок угрозы. Избавить от тирана, тут-то юный ученик Лагарпа, воспитанный на идеях французского Просвещения, дрогнул… и сдался, заглушив в себе слабый голос сомнения и ухватившись за обещание Палена, что ни капли крови не упадет на пол Михайловского замка.
Теперь перед ним накрашенное и подмазанное лейб-медиком Виллие лицо с надвинутой на проломленный висок и зашибленный глаз шляпой. Тиран? Нет, отец, бранивший, наказывавший и даже унижавший его когда-то, доводивший до слез своими несправедливыми придирками и вздорными выходками, но все-таки отец, неправдоподобно маленький, жалкий, превращенный кем-то в неподвижную восковую куклу. Рядом скорбно-величественная, надменная, одновременно и властная, и беспомощная мать – не императрица, а женщина, мучительно переживавшая свое горе. Сам он – не избавитель страны от тирании, а растерянный, испуганный, потрясенный мальчишка с подгибающимися от страха коленями, алым румянцем на щеках и предательски пылающими ушами. Мальчишка, на глазах которого случилось это… ужасное и непостижимое, именуемое смертью. В том-то весь и ужас, что это он не может отдалить, отстранить, отодвинуть от себя, как отдаляют все страшное дети, старающиеся об этом не думать, а, наоборот, должен приблизить, потому что он виноват.
Он сам предложил дождаться 11 марта, когда охранять Михайлов-ский замок будут верные ему семеновцы и заговорщики смогут беспрепятственно проникнуть в покои императора. Конечно, его вынудило то, что Пален показал ему собственноручно подписанный Павлом безумный указ. По этому указу Марию Федоровну и великих княжон должны были отправить в глухой монастырь, а его вместе с братом Константином заточить в крепость: Павел догадывался о заговоре. Пален сумел убедить его, что держит нити в своих руках, что он намеренно втерся в ряды заговорщиков и тщательно следит за всеми, чтобы арестовать их тотчас же, когда наступит время и они с головой выдадут себя. Государь поверил, дал себя убедить и подписал бумагу, ужаснувшую Александра. Александр и раньше смертельно боялся отца, особенно если тот топал ногами, грозил посадить под домашний арест, сослать или, сложив на груди руки, молча, пронизывающим взором смотрел ему прямо в лицо. Но тут на него словно бы уже дохнуло сыростью крепостных стен и нависших над ним заплесневелых потолков каземата, где ему предстоит провести узником оставшиеся годы…
Таким образом, его участие в заговоре отчасти было самозащитой, и все-таки он виноват, хотя ему пообещали, а он поверил. Это случилось, произошло, стало свершившимся событием, которое вобрало в себя и его сомнения, и его доверчивость, и внезапный ужас, и запоздалое раскаяние. Тут мы подходим к главному, с чего начинается нравственное движение в душе Александра: к невольному участию в убийстве. Словно кто-то велел ему оказаться там, в Михайловском замке, на нижнем этаже, в комнате с часами, изображавшими веселого Бахуса на винной бочке. Оказаться именно тогда, когда Николай Зубов наносил удар золотой табакеркой в висок Павлу, а затем пьяная толпа ворвавшихся в спальню офицеров душила его, стягивая на шее свернувшийся в жгут шарф. «Воздуха! Воздуха!» – хрипел перед смертью император. Все это происходило там, над Александром, на втором этаже, он слышал топот и крики. Да, кто-то приказал, заставил, и это был вовсе не Пален и даже не английское посольство, враждебное Павлу, державшее в руках нити заговора и тем самым мстившее ему за дружбу с Наполеоном. Нет, не они, потому что иначе участие Александра из невольного превратилось бы в подневольное, но оно осталось именно невольным, значит, приказывал и заставлял кто-то другой, неведомый и всемогущий, кому имя Рок, Судьба, Провидение.
Всеведущее Провидение посылало свои знаки: за два часа до убийства, после ужина, отправляясь в свою опочивальню, Павел мельком взглянул на себя в зеркало и удивился тому, как вдруг зловеще исказились его черты. «Посмотрите, – сказал он, обернувшись к присутствующим, – какое смешное зеркало: я вижу себя в нем с шеей на сторону». Несколько дней ранее, во время верховой прогулки по аллеям дворцового сада, ему показалось, что он не может дышать, что-то душило его, он чувствовал, что умирает… Вещий монах Авель вписал в свою «мудрую и премудрую» тетрадочку предсказание о скорой смерти Павла (тетрадку, скорее всего, уже после 11 марта показали Александру). Да и сам Михайловский замок словно бы вторил Авелю в этом, предсказывал недоброе. Государь повелел выбить на фронтоне надпись, им самим составленную: «Дому твоему подобает Святыня Господня в долготу дней». Уже после его смерти подсчитали количество букв в этой надписи: оно совпало с числом лет, прожитых несчастным Павлом.
Словом, этот неведомый все предусмотрел и учел заранее: подневольное участие в заговоре (приказывал – Пален) сняло бы с Александра всякую вину за убийство отца и сделало невозможным вынесение приговора, причислило бы к обычным заговорщикам и навлекло законное возмездие. Лишь как невольный участник заговора Александр сам вынес приговор и свершил возмездие не по закону, а по собственной совести. Возмездие, растянувшееся на многие годы и завершившееся мнимой смертью в Таганроге. Умер тот Александр, который сначала доверился Палену, а затем, получив известие о смерти отца, воскликнул с рыданием в голосе: «Вы убили его! Где ваша клятва мне?!» – «Полно ребячиться! Нас всех поднимут на штыки. Лишь вы еще можете спасти положение», – ответил на это Пален, вынуждая Александра выйти к караулу; и он вышел… сказал, обращаясь к неприветливо-хмурым и угрюмым семеновцам: «Все будет при мне, как при бабушке», а в 1825 году умер и был торжественно похоронен в соборе Петропавловской крепости. Да, тот ребячливый, знавший за собой некую слабость, раздвоенность, женскую уступчивость души, умер, но зато появился другой, суровый, мужественный и закаленный.
Он появился не сразу, постепенно, после долгой душевной борьбы, о которой нам, собственно, ничего не известно. Нам, полагавшимся на исторические свидетельства и документы, – ничего не известно, если не считать некоторых… случайно сохранившихся… к примеру: «Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен явиться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места… Одним словом, мой любезный друг, я знаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим образом». Далее доверительное признание: «Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого трудного поприща (я не могу еще положительно назначить срок сего отречения) поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая мое счастье в обществе друзей и в изучении природы».
Это написано им до вступления на престол, восемнадцатилетним юношей, искренним, чистым, мечтательным, по-немецки сентиментальным, еще не ощутившим на губах солоноватый привкус отцеубийства. Но план уже есть, тайный план, доверенный лишь такому близкому другу, как Виктор Павлович Кочубей, тогдашний российский посланник в Константинополе (ему и адресовано письмо, посланное с доверенным лицом), – отречься от престола и поселиться на берегах Рейна. Наивный, романтический план, явно навеянный чтением Рус-со: общаться с друзьями и изучать природу. Лишь навязчивый привкус на губах заставил расстаться с мыслью о спокойной частной жизни и выбрать иной путь – покаяния, поста и молитвы. Путь нравственного искупления и духовного делания – русский путь, придававший сентиментальным мечтаниям и горячим порывам суровый и трезвый закал каждодневной внутренней работы, каждодневной и ежечасной, как чтение Давидовых псалмов или повторение Иисусовой молитвы. Александр выбрал, хотя этот план не раскрыл никому, и нам, полагающимся на свидетельства и документы, приходится лишь догадываться, как он постепенно складывался и овладевал его сознанием, мыслями, всем существом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































