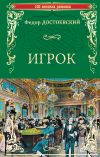Текст книги "Рулетенбург"
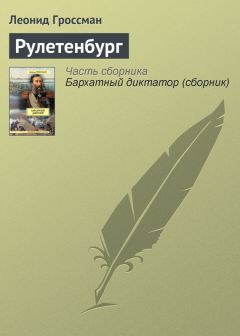
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Отель «Виктория»
Он зашел в гостиницу. Мажордом холоден и надменен. Слуги еле замечают.
– Нет почты на мое имя? (Полина писала ему прямо на адрес отеля.)
– Ничего.
В глазах портье презрение к этому проигравшемуся русскому, бледному, истощенному, изголодавшемуся.
Он медленно поднимается к себе в свой тесный номер. Узкая, прохладная, высокая комната. Ему всегда казалось, что в таких коротких отрезках пространства даже думать тесно, а между тем сколько записей легло на страницы его дорожной тетради в этой одиночной келье курортного отеля.
«Движение возбуждает аппетит. Гулять не следует. Свежий воздух тоже будит голод. Закрыть окно, сидеть неподвижно и читать. Пусть сосет под ложечкой, пусть кружится голова… Читать и думать еще есть возможность».
Он делает наброски к повести. Ему хотелось по-новому разработать тему об отверженцах жизни, раздавленных, грешных, убогих, пьяненьких. Нужно было этот старинный мотив, создавший двадцать лет назад его славу, углубить, осложнить, заострить, и неожиданной, смелой и страстной трактовкой придать ему снова действенность и заразительную силу.
Но он еще не нашел пути к этому осуществлению. Центральный образ отсутствовал, трагический узел недостаточно ощущался, неясная идея еще не вздымала над собой огромных и мощных нагромождений будущего романа.
Он вынул из кармана записную книжку. Здесь, среди счетов, расходо-приходных справок, адресов, рецептов, сводки припадков за последнее полугодие и всевозможных памятных заметок и летучих рисунков, мелькали записи мыслей, афоризмы, иногда целые страницы наблюдений, воспоминаний и размышлений. Он любил на ходу, внезапно и быстро, закрепить проносившуюся мысль, во всей ее первобытной силе и стремительности. Потом, при вспоминании, выйдет слабее. Нужно сразу схватить и запечатлеть раздумье в самый момент его возникновения, не запаздывая ни на мгновение, ибо неповторимый изгиб первоначальной мысли, в ее ослепляющей выразительности, так легко улетучивается, расплывается, теряет остроту и смелость очертаний.
Утренние впечатления от речи бургомистра и возникшие воспоминания об инженерной лекции еще неощутимо бродят в сознании, зарождая замыслы, неожиданно сочетаясь с неясными образами какой-то большой человеческой драмы… И вот он записывает тонким, легким, воздушным почерком:
Настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры, – а стало быть, и все разрешается. Нет, на этаких людях, видно, не тело, а бронза…
Центральный образ романа мучительно и трудно прорезывается сквозь эти давнишние раздумья, неожиданно придавая им новую силу и резкую остроту.
Он вспомнил, как в ранней молодости, уже смущенный и как-то испуганный Петербургом, он в один зимний вечер над сверкающей равниной Невы неожиданно почувствовал себя художником, призванным изобразить пасмурные виды и угрюмых обитателей столичных кварталов. Не рыцари и не разбойники, а какие-то титулярные советники, сгорбленные чудаки канцелярий, мечтатели столичных чердаков, бледные, болезненные девушки, оскорбленные и грустные, с затаенными мечтами и сдавленными порывами внезапно предстали перед ним, глубоко волнуя и словно требуя от него воплощения. Он понял, что перед ним раскрывается целый путь, что он отдает всего себя на воссоздание этого хворого и хилого люда столичных трущоб. Сердце ширилось, и, казалось, он весь вырастал от этого томящего и упоительного осознавания себя творцом и художником, способным наново перестроить и уверенно видоизменить в своих страницах весь этот чахлый и пасмурный мир нищеты, отречений и горестей.
Тогда, над Невою, это было великое ожидание, надежда, устремление в будущее, порыв в неведомую, но полную радостей и высокого смысла жизнь. Теперь оно рождалось, это творческое волнение, из разочарований, горечи, непоправимых обид. Но, как и тогда, оно снова звенело неистощимою силою, напрягало все существо, возносило мысль на высокие ледяные вершины, охватывало единым зорким взглядом всю запутанную и темную ткань бытия. Все прозревалось в ней до последних волокон и, насквозь озаренное, оживало в новом строе воссозданного им мира, бесконечно волнуя и томя душу. Возникали образы. Освежающие могучие мысли воплощались и становились силами. Кто это сказал, умирая, своему сыну: «Освежи меня великой мыслью»? Вот такие озаряющие и живоносные раздумья, преодолевающие великую предсмертную скорбь и чудесно облегчающие ужас смертельной агонии, поднимались в нем и мучительно искали живых и действенных форм. Недаром его карманные блокноты и кожаные тетради за последние дни заполнялись записями беспорядочными, текучими, как лава, уже обтекавшими хаос жизни своими неизгладимыми чертами.
Задумавшись, он переводил взгляд на длинный перечень дат. Это – список припадков, аккуратно занесенный на страницу кожаной тетради. Целая календарная сводка.
13 марта. Сильный припадок; переменчивая погода, дождь, холодно.
9 апреля. Припадок; солнце, ветер.
17 апреля. Приступ во время сна в 8 часов 3 минуты утра, сильное возбуждение, лицо помертвело…
Список занимал целую страницу. Точные числа и краткие протокольные записи навевали тоску и тревогу.
Припадки истощают силы. Вероятно, после каждого приступа эпилепсии мозг становится слабее, теряет остроту и энергию своих функций. Каждый припадок незаметно и уверенно убивает творческие возможности, ослабляет память, изнуряет воображение, безжалостно и тайно подготовляет полный упадок таланта. Ежечасно, но неведомо свершается казнь художника. Надолго ли еще хватит сил, зоркости взгляда, отчетливости мысли?
К каждой новой рукописи он приступал с мучительной и тайной тревогой: а что, если болезнь уже подкосила дарование, если оно иссякло, если из нового замысла ничего не выйдет? Может быть, он только тешит себя этими глубокими перспективами – новых творений, которые ему уже не дано осуществить? Но работа, томительная вначале, обычно быстро разрасталась, увлекала его, крепла в своем росте, являла прежние черты уверенности контуров, выразительности типов, увлекательности сюжетов и даже понемногу раскрывала в его сложных построениях новую углубленность характеров и повышенный драматизм судеб. Болезнь не только не подорвала его силы, она, казалось, сообщала ему неведомый опыт, все более проясняя его зрение, утончая впечатлительность и углубляя понимание болящего человека. Быть может, и назревающая, еще неизвестная, книга широко развернет его силы и отметит новую ступень его восхождения. Он задумчиво продолжает запись:
Наполеон, пирамиды, Ватерлоо.
Но писать трудно – слабость, головокружение. Он откладывает перо и невольно задумывается. Сквозь прямолинейные очертания пирамид и ломаные контуры холмов Ватерлоо проступают узоры висбаденской Бонифациус-кирхе. Он любил эти каменные сталактиты готики – Кёльн и Нотр-Дам. Задумавшись, тонкими и легкими штрихами, он почти бессознательно покрывает поля и пробелы рукописи эскизами этой гранитной паутины, овальными окнами, стрельчатыми сводами, тонкой гирляндой массивных роз.
Целая страница разукрашена архитектурными фантазиями Средневековья. Но и эта игра заметно утомляет его. Он беспомощно опускает перо. Не иссякают ли его творческие силы?
Странное состояние легкости и бессилия! Какое-то забвение наяву…
Он быстро записывает на клочке бумаги: «Сегодня я могу впасть в летаргический сон. Не хороните меня раньше 25 августа».
Записка прочно укрепляется к шандалу ночного столика. Но спать еще слишком рано – только подготовишь на ночь бессонницу. Лучше всего перечесть что-нибудь знакомое, давно любимое, неумирающее, вечно новое.
В дорожном саке две-три книги. Он всегда берет с собою в путешествие любимых авторов, – снова перечтешь, увлечешься, чему-то научишься у этих великих сердцеведов. И он заново перечитывал после Сибири эти знаменитые книги, еще с детства знакомые и волнующие.
Он извлекает том старого французского романа и снова – в который раз? – погружается в его чтение. И опять, как три десятилетия назад, его захватывает философский диалог двух нищих студентов за оградой Люксембургского парка.
– Послушай, читал ли ты Руссо?
– Читал.
– Помнишь ли ты место, где он спрашивает своего читателя, что бы он сделал в случае, если б мог обогатиться, убив в Китае старого мандарина одной только своей волей, не двигаясь из Парижа?
– Помню.
– Ну, так если б тебе было доказано, что это возможно и что тебе достаточно для этого кивнуть головой, сделал бы ты это?
– Очень ли стар твой мандарин? Но, впрочем… Стар он или молод, парализован или здоров, я решительно заключаю в пользу жизни китайца.
…Взгляд еще пробегает по французской странице, а перед ним уже выплывает из прошлого одно необычайное лицо.
«Маршал современного романа»
У Бальзака в одном романе один молодой человек, в тоске перед нравственной задачей, которую не в силах еще разрешить, обращается с вопросом к своему товарищу студенту и спрашивает его: «Послушай, представь себе, ты нищий, у тебя ни гроша, и вдруг где-то там, в Китае есть дряхлый больной мандарин…»
Черновик речи о Пушкине
– В Михайловском театре сегодня «Мемуары дьявола», идем, Григорович! Французы превосходны в мелодраме.
Когда молодые литераторы занимали свои места в последних рядах партера, по залу прошла первая волна необычного возбуждения. Легкий и сдержанный говор пронесся по рядам, словно сам император появился среди зрителей. Но высокая ложа с позолоченной короной была пуста. Оживление направлялось в другую сторону, головы зрителей обращались к ложе французского посла. Волнение нарастало, говор повышался, кое-кто привстал, где-то раздался восторженный возглас… И вот мгновенно и сразу, бурным налетающим циклоном поднялись аплодисменты и шумно забушевали по зрительному, залу, сливаясь с приветственными кликами возбужденной толпы. Французский посол в парадном мундире невозмутимо улыбался из своего кресла. А перед самым барьером ложи стоял маленький плотный человек в светло-синем фраке с точеными золотыми пуговицами. Блестящая массивная цепь струилась по белому атласу его модного жилета с изысканным и смелым вырезом. На короткой белоснежной шее, обтянутой серебрящимся шелком шейного шарфа, вздымалась тяжелая голова атлета с крупными и неправильными чертами. Жесткие черные волосы, еле прорезанные первыми серебряными нитями, ниспадали львиной гривой на могучие квадратные плечи, а короткая щетка усов оттеняла сверху его сочные губы, украшенные снизу крохотной кисточкой эспаньолки. Крепкие, налитые щеки расплывались в детски-веселую и добродушно-радостную улыбку, раскрывая изломанную линию неправильных и острых зубов. В нем было нечто от веселого вепря. Эта широкоплечая фигурка с тяжеловесным животом на коротеньких ножках могла бы показаться смешной и нелепой, если бы не высокий, ослепительный лоб, мощно прорезанный глубокой впадиной раздумий, и не огромные темные глаза, словно затканные золотыми искрами видений. Поражали также, при этом могучем торсе, маленькие нежные, почти женские руки, которыми этот неведомый зритель держал, по обычаю парижских театралов, щегольскую трость и шелковую шляпу.
– Бальзак! Бальзак! – ревела и грохотала толпа, узнав в посольской ложе великого романиста, о приезде которого недавно известила столичных жителей «Северная пчела». Перед бархатным барьером стоял с улыбкой странствующего принца знаменитый пассажир с пироскафа «Девоншир», прибывшего в прошлую субботу из Лондона и Дюнкирхена в порт Кронштадт. Это был «фельдмаршал современного романа», как писали о нем газеты. Зрительный зал был весь наэлектризован присутствием европейской знаменитости. Гулкие возгласы приветствий тонули в бурном вихре сорвавшихся рукоплесканий, кативших сверху, из лож, из кресел, из оркестра свои оглушительные лавины к невысокому полному человеку в нарядном парижском костюме, с тростью и шляпой в руке.
И великий писатель, обогнувший целый материк, чтобы только приложиться к руке сидевшей рядом с ним в ложе горделивой красавицы с тонким польским профилем и легкими шелковыми ресницами – его долголетней невесты Эвелины Ганской, пытался ответить благодарными поклонами, приветливыми жестами и растроганными улыбками на неожиданную овацию петербургской толпы.
– Да здравствует гениальный Бальзак! Да здравствует великий сердцевед!..
Казалось, нарастающее восхищение зрителей преображало знаменитого иностранца. Неожиданный триумф словно придавал ему новое величие и силу. Когда он высоко поднимал голову, окидывая клокочущий верхний ярус своими огромными пылающими зрачками, сквозь оболочку парижского литератора внезапно проглядывал бесстрашный ваятель бесчисленных человеческих масок, отмеченных глубокими бороздами всех страстей, пороков и страданий. В резко вздернутой голове с победоносным взглядом завоевателя и укротителя раскрывался могучий мастер, безошибочно изваявший своей искусной рукой грозный образ каторжника Вотрена и кроткое лицо безответной Эжени.
– Бальзак! Бальзак!
Глядя на него в эту минуту, можно было поверить ходившим преданиям, что на столе этого низкорослого гиганта высится бронзовая статуя Наполеона с надписью на цоколе: «Завершить пером то, что он начал шпагой».
Завоевание и преображение Европы…
В антрактах рассказывали: десять лет назад анонимное письмо из России, написанное женским почерком, глубоко поразило молодого французского романиста. Возникла переписка между Парижем и одним украинским поместьем. Письма незаметно и невидимо связывали Бальзака с его корреспонденткой – молодой Эвелиной Ганской, рожденной Ржевусской. Через год или два они встретились за границей и дали друг другу слово взаимной верности. Недавно скончался старый Ганский, и вот Бальзак в России, у ног своей долголетней возлюбленной. Они, вероятно, обвенчались бы теперь же, если бы брак с иностранцем не лишал русскую помещицу прав на ее безграничные украинские земли. Император же решительно отказывает ей в высочайшем разрешении отступить от закона и сохранить в России свои поместья, ставши госпожой де Бальзак и подданной французского короля.
Железная воля неумолимого военного щеголя в гвардейском корсете и зеркальной обуви неожиданно и деспотично врывалась в биографию знаменитого европейского писателя.
…Два молодых петербургских литератора, пришедшие смотреть «Мемуары дьявола», долго бродили в эту ночь по улицам и набережным, разжигая дружеской беседой свое впечатление от встречи с европейским гением.
Григорович восхищался «Смехотворными сказками», их забавным задором и веселым сладострастием. Достоевский говорил о величии Бальзака-мыслителя.
Сквозь взволнованные монологи снова проходила, разрастаясь и ширясь, тема его ранних писем к брату: «Бальзак велик! Его характеры – произведение ума вселенной. Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека…»
– Белинский не признает Бальзака, – говорил Григорович, – он считает его мещанским писателем, певцом Сен-Жерменского предместья, знакомого ему только с улицы…
– Твой Белинский постоянно ошибается в оценке гениев. Вспомни, что писал он о Пушкине и Гоголе… Нет, Григорович, я никогда не забуду моего первого впечатления от чтения Бальзака. Мне шел пятнадцатый год. В семье нашей всегда много читали. Попадали к нам и книжки журналов. И вот однажды, раскрыв новый том петербургского вестника, я нашел в нем последний роман молодого французского романиста. Это был «Старик Горио». Я начал читать – и был сразу захвачен этой щемящей картиной нищеты, одиночества, сердечной черствости, человеческого унижения, великой кротости и неслыханного бессердечия. Какие жестокие и неотразимые удары жизни по слабым и кротким! Как ужасен этот великолепный Париж, огромный, кипучий город, в котором блеск и наслаждение сплетаются с отвратительными язвами нищеты, отверженности и презрения. О эти растоптанные жизнью! Когда я прочел, как этот несчастный отец, отдавший все своим дочерям, умирает в одиночестве и нищете, – душа заныла от боли. Какая великая страница, полная гнева, жалости и сострадания! Это раз пронзает сердце, и потом навеки остается рана… В этот день я понял, к чему должен неутомимо звать и вести писатель.
– К жалости и состраданию?
– К протесту против наличия в жизни отверженных, нищих и оскорбляемых. Против чудовищного неравенства больших городов с их палатами и чердаками, где жизни человеческие целиком уходят на страшные, неизлечимые и невидимые болезни.
– Ты думаешь, что такою проповедью писатель может заполнить свои художественные произведения?
– Не только этим, но и призывом к борьбе, закалом сильных душ к свержению существующего во имя иных человеческих отношений. Есть могучие характеры и властные воли. Они должны бороться, они обязаны изменить облик настоящего и строить лучшее будущее…
– Но ведь подобная борьба вызывает новые страдания, новые жертвы. Ведь нельзя завоевать будущее без кровопролития.
– Великая и трагическая задача! Она впервые встала передо мной за чтением «Старика Горио». Допустимо ли убийство ничтожных и властных во имя торжества юных, сильных, одаренных, но крепко скованных нищетою, безвестностью, всеми темными силами жизни, способными придушить навсегда их гениальные замыслы и творческие порывы? Помнишь разговор двух студентов в Люксембургском парке?
– Это об убийстве мандарина?
– Да, о праве на убийство ничтожного, никому не нужного, дряхлого, но богатейшего старика в Китае, чтоб осуществить свои великие замыслы и осчастливить человечество… Ты чувствуешь, Григорович, какой вопрос и какова его постановка?
– Но, кажется, студент Бальзака отказывается от убийства мандарина?
– Он не верит, что человеческое счастье воздвигнется на фундаменте страдания.
– Ну, а ты, Достоевский, как бы ты решил вопрос?
– Задача непомерно трудна. Подчас мне кажется, что великие исторические герои, гении и завоеватели, вожди и законодатели человечества, призванные вести мир по неведомым дорогам, имеют право шагать через трупы во имя осуществления великого замысла…
– Как! Ты разрешаешь кровь по совести?..
– Я не решил еще параболу о мандарине… Но Александр Македонский, но Наполеон – с их замыслами всемирных монархий и всечеловеческого счастья…
Они проходили по набережной мимо здания французского посольства. Дворец был освещен. За одним из огромных зеркальных окон находился теперь маленький человек с квадратными плечами и головой борца, озаренной огненными глазами. Быть может, в эту минуту он молчаливо и благоговейно прикасался своими полнокровными губами к шелковым ресницам прекрасной польки; быть может, весело хохотал и шумно вел беседу за праздничным ужином посланника; а может быть, уединившись в отдаленную комнату дворца, замкнув двери и задернув шторы, охваченный благословенным демоном ночного творчества, он быстро водил своей маленькой женской рукой по веленевой бумаге, беспрерывно скрипя пером и ежеминутно отбрасывая в сторону исписанные листки, навеки отмеченные огромными и мучительными вопросами о золоте, славе, власти, наслаждениях, великих муках современного человечества и страшном праве завоевателей на кровопролитие во имя победы.
Аннунциата
Не влюбляйтесь в меня. Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готов, вот вам рука моя. А влюбиться нельзя, прошу вас!
«Белые ночи»
Слава пришла сразу, мгновенно пролилась над ним, как обильный летний ливень. Ни в чем не походила на мраморную богиню славы, высеченную на фронтоне Инженерного замка. Было в этом даже, пожалуй, что-то лихорадочное, напряженное, торопливое, томительно раздражающее нервы, болезненно распаляющее мозг, почти бедственное и смертельное в своей отравляющей сладости.
Бледная, хворая ночь. Хриплый голос и антрепренерская предприимчивость Некрасова. Холодное утро. Первая беседа с верховным судьей всех словесных сражений и журнальных джигитовок. И взвинченная, прерывистая речь этого энтузиаста, пожираемого чахоткой, в слишком просторном сюртуке, обвисающем на впалой груди бранденбургскими своими шнурками, с чуть искривленной бледной губой под щетинистой порослью коротко стриженых усов. Словно из гроба вещал ему голос, обессиленный вздохами полуразрушенных легких: «Будете… великим писателем…» Так был он крещен на литературные битвы среди чахлых фикусов и худосочных кактусов, осеняющих своей редкой листвой корректурные пачки славного критика.
И затем – вихрь приветствий, признаний, искательств, похвал, приглашений. Все знаменитости сразу склонились к нему. Петербургский Фауст – задумчивый князь Одоевский; острослов столичных гостиных – болтливый граф Сологуб; придворный концертмейстер – граф Виельгорский; великий делец, распорядитель писательских судеб, журнальный барин с лунообразным ликом – сам Андрей Александрович Краевский; лев литературных салонов – поэт и философ Тургенев, и даже она, с фарфоровым личиком полуденной красавицы, тонкая чертами, пышная станом, ласковая взорами, гордая сознанием своей власти над людьми, дочь трагика, жена литератора, руководительница кружка писателей, застенчивая, благодушная, уклончивая, милая сердцу Панаева!
С первого же взгляда она напомнила ему албанку Аннунциату, – красоту ослепительную и поражающую… «Густая смола волос тяжеловесной косой вознеслась…»
Он влюбился в нее сразу и без памяти. Именно перед нею ему было бесконечно радостно выступать в ореоле своей молодой славы. Так прекрасна была эта избалованная и тщеславная смуглянка, что невольно хотелось в ее глазах быть героем, поэтом, гением, знаменитостью! Казалось, все похвалы, все признания рецензентов, критиков, редакторов, все поклонения и восторги читателей раскрывали свою подлинную и конечную ценность в благосклонном внимании этой медлительной черноокой женщины с доверчиво вопрошающим взглядом и ленивыми движениями чуть-чуть полнеющего тела.
Все в ней было до боли дорого и близко Достоевскому. Румянец, заливающий легким загаром ее матовые щеки, пухлые губки с детской какой-то ужимкой, синий шелк цыганских ресниц, и эти воздушные, неслышные, чуть выделанные в своей грации движения (ведь с детства ее готовили в танцовщицы), – все в ней захватывало, кружило голову и готово было бросить навсегда к ее ногам.
Какой-то неуловимый налет театрального воспитания отложился на ее внешности, выделяя ее из крута прочих женщин и словно сообщая ей магнетизирующий блеск знаменитых примадонн, балерин или трагических исполнительниц. Чувствовалось, что эта женщина могла бы легко стать Тальони, Джулией Борзи, Асенковой, Рашелью, и, казалось, ее неодолимое очарование углублялось и усиливалось от того равнодушного спокойствия, с каким она отвела от себя это легкое достояние рукоплесканий, цветов, диадем, стихов, великокняжеских поклонений и мировой славы в шорохе афиш, лести газетчиков, закулисной клевете и ошеломляющей щедрости высочайших подношений. Перед такою женщиной нужно было во всем блеске явить свою гениальность и оправдать до конца свою раннюю прославленность.
Интриги завистников испортили все. Этот развязный говорун Тургенев с барскими замашками салонного остроумничания, очевидно, желая уронить его в глазах Панаевой, начал однажды вечером плоско и тяжеловесно подсмеиваться над скороспелыми знаменитостями. Он паяснически изображал какого-то горестного рыцаря, помешавшегося на своей внезапной известности. Шутка ли! Вчера неведомый чиновничек, сегодня – великий гений, известен императору, объявлен надеждою русской литературы, наследником самого Гоголя.
Это было уж слишком явно и грубо. Но поддержанный мерзким хихиканьем своих ничтожных соумышленников, этот бесстыдный болтун, корчащий из себя российского Альфреда де Мюссе, не унимался.
– Не самое ли смешное из помешательств – мания грандиоза? – громогласно вопрошал он. – Вы только подумайте: новый кумирчик, утвердившись на своем пьедестальчике, уже требует поклонений, восторгов, отличий. Его вещи должны печататься на самых почетных местах, особыми шрифтами, украшаться виньетками и рисунками, обводиться каймой! (Достоевский чувствовал, что он бледнеет. Панаева сделала попытку остановить шутника, но тот уже несся очертя голову.) И вот, нашим бледным гением стали зачитываться графини, фрейлины, великосветские красавицы с пушистыми буклями и громкими именами. Одна даже объяснилась ему в любви, но он, по неопытности, растерялся, чуть в обморок не упал и только бормотал в ответ: «Ах, маточка вы моя, маточка моя…»
Достоевский не выдержал. Он вскочил, возмущенный и подавленный. Без оглядки бежать от этих завистников, сплетников, картежников и пустозвонов! Никогда, никогда он этого не простит Тургеневу! При ней, при этой единственной, обожаемой, прекраснейшей из прекрасных, так осмеять его, так унизить!
(Так бывало и впоследствии. Его сопровождали повсюду неразлучною четою слава и позор. Вечные толки о болезни, о мнительности, о неуживчивости, о тайных грехах и пороках, о развращенности, злости и зависти. Ведь он – государственный преступник, неудачник, несчастный, нищий, осужденный на смерть, закандаленный, заклейменный черным недугом. Ему нужно было мастерством и силою своих созданий заглушить и перекричать эти ползучие толки, клевету, пересуды кружков. Славой растоптать сплетню.
Теперь он к этому привык. Но в тот вечер он был ошеломлен этой благовоспитанной травлей.)
Вне себя от возмущения он поспешно выбежал из гостиной. За ним в полутемный кабинет вышла своей легкой походкой сама Аннунциата.
– Не огорчайтесь… Ну мало ли что взбредет на ум Тургеневу!
Он вздрогнул. «Но чудеснее всего, когда глянет она очами в очи, водрузивши хлад и замирание в сердце…» Это было время, когда Гоголя знали наизусть.
И пока он быстро, на прощанье, еще обиженный, но уже растроганный, целовал ее протянутую руку, она коснулась своими свежими губами его воспаленного лба и слегка погладила его растрепанные и торчащие вихры. Сердце заныло и переполнилось сладкою мукою. – «Вот оно счастье, больше ничего не нужно, отдать за нее душу, жизнь, все…» И в каком-то полусознании, не отдавая себе полного отчета в своих действиях, охваченный головокружением наплывающего блаженства, он молящим жестом притянул к себе руку Панаевой, чтоб покрыть благоговейными и страстными поцелуями горделивое чело Аннунциаты.
Она с удивлением шагнула под натиском его неожиданного влечения, но как-то в сторону от него, немного испуганно и даже с неудовольствием. Но, впрочем, сейчас же овладела собою и даже улыбнулась – приветливо, но что-то уж очень великосветски.
– Друг мой, этого нельзя, вам никак нельзя увлекаться мною. Это ни к чему, сохраним же лучше нашу дружбу, вы ведь можете служить женщине, как поэт и рыцарь, я знаю…
Впервые с такой очевидностью и горечью он почувствовал, что не создан для блестящего романа, что нет у него жеста, пленяющего избалованных женщин, что он беспомощен и робок в обольщении красавиц, что ему суждено без бою уступать здесь место другим, решительным, умелым, уверенным.
И сквозь боль и стыд зазвенело в памяти:
Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой.
Сколько раз это повторялось с ним впоследствии и даже до сегодняшнего дня! Вскоре всем стало известно, что руководительницу «литературного подворья» завоевал делец, предприниматель, будущий миллионщик Некрасов. А ему, обиженному в ее гостиной и нежно утешенному ее бесстрастной лаской, оставалось только подыскивать среди Кларушек и Марианн смуглые лица с матовым румянцем и где-нибудь, в меблированной комнате, на убогой наемной постели, перед блеклыми и поношенными прелестями своей подкрашенной подруги, воображать высокий царственный торс и прохладные губы Панаевой…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?