Текст книги "Пушкин"
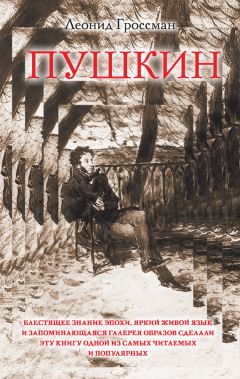
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Не пощадил поэт и ревностного монархиста Стурдзу, первого сподвижника Голицына по библейскому обществу, главному рассаднику контрреволюционной пропаганды. Этот «библический» и «монархический» деятель, «холоп венчанного солдата», достоин, по известной эпиграмме, заклания от руки защитника народных прав.
Таков был новый путь русской литературы, новый «огнестрельный метод», еще никогда не применявшийся в ней. Политические стихи Пушкина потрясали основы крепостнической монархии и вербовали новые силы политической оппозиции. Недаром эти «анафемы игривые» вскоре вызвали «высочайшее» негодование и угрозу высших кар. Невиданными приемами быстрых, метких, разительных и ошеломляющих ударов Пушкин продолжал традиции своего любимого Радищева и возвещал будущие битвы Маяковского, беспощадно разившего своим стихом всех врагов революции.
III
ПЕРВОЕ СЛЕДСТВИЕ
1
В начале 1821 года поэт впервые почувствовал, что враг, с которым он вступил в борьбу своими сатирами, начинает наносить ответные удары. В петербургском обществе широко распространились слухи, что смелый автор антиправительственных эпиграмм подвергся в секретной канцелярии наказанию розгами. «Я увидел себя опозоренным в общественном мнении, – вспоминал в 1825 году Пушкин. – Я впал в отчаяние». По его собственному свидетельству, он колебался между самоубийством и цареубийством. Умный друг Чаадаев уговорил его игнорировать толки обывателей, достойные полного презрения.
Пушкин решает заставить власть применить к себе открытые приемы борьбы и вынудить ее произнести во всеуслышание свои скрытые подозрения. «Я жаждал Сибири или крепости, как средства для восстановления чести». Смелость его поведения поражает петербургское общество. Пушкин пишет эпиграмму на всемогущего Аракчеева, которая одновременно ударяла и по Александру I («Всей России притеснитель… А царю он – друг и брат»); распространяет в обществе свою оду «Вольность», написанную еще в 1817 году, но только теперь, к весне 1820 года, привлекшую пристальное внимание правительства. Он высказывает в обществе сочувствие студенту Тюбингенского университета Карлу Занду, заколовшему агента царского правительства в Пруссии Коцебу.
25 февраля 1820 года весь официальный Петербург собрался на «торжественное поминовение» герцога Беррийского, «похищенного у Франции убийственною рукою злодея», как гласила латинская надпись на пустом траурном катафалке.
Пушкин ощущает себя в другом стане: не с приверженцами Бурбонов, а с тем одиноким парижским ремесленником Пьером Лувелем, который учился читать по республиканской конституции и навсегда остался верен «правам человека и гражданина». Когда до Петербурга доходят парижские литографии, изображающие «ужасного убийцу», Пушкин достает себе такой листок. На полях рисунка своим размашистым почерком он надписывает: «Урок царям!» В тот же вечер в театральном зале он показывает запретный портрет соседям по креслам, «позволяя себе при этом возмутительные отзывы», как свидетельствуют благонамеренные современники.
Убийство герцога Беррийского послужило сигналом к революционному движению в других странах. 8 марта (нового стиля) 1820 года вспыхнула революция в Испании, вызвавшая живейшее сочувствие Пушкина. Его друзья и наставники в политическом мышлении Чаадаев и Николай Тургенев не скрывали своего восхищения этой «народной победой». Пушкин впоследствии не раз вспоминал имена вождей испанской революции – Кироги и Риэго – и через десять лет отметил этот момент в сжатом и взволнованном стихе «Тряслися грозно Пиренеи…».
Возникшие тревоги в жизни Пушкина совпали с крупным событием его творческой жизни: 26 марта 1820 года была окончена шестая, последняя, песнь «Руслана и Людмилы».
Это был подлинный праздник русской поэзии, пока еще отмеченный только в тесном кругу литературных друзей. Здесь была сразу признана победа поэта-ученика над своим мастером-учителем, склонившим перед юным соперником свое лебединое перо: известна надпись Жуковского на портрете, подаренном Пушкину в день окончания его первой поэмы.
Вскоре эта эпическая песнь будет признана одним из блестящих триумфов русской литературы и, как всякое выдающееся событие, вызовет непримиримую борьбу мнений. Но эта буря в критике разразится лишь осенью 1820 года, вскоре после выхода поэмы из печати.
Чем же объяснялось такое исключительное значение этой маленькой книги?
Арзамасский Сверчок, вступая в литературу, дал блестящее решение большой задачи, издавна занимавшей русских стихотворцев: создать живую и общедоступную национальную эпопею. Для этого необходимо было превратить тему отечественной истории в увлекательный роман и разработать событие прошлого в духе народных сказаний. Но ни Хераскову, ни Карамзину, ни Батюшкову, ни Жуковскому не удалось найти тот творческий метод, который сплавил бы воедино эти разнородные элементы, придав им новое поэтическое качество.
Нужно оценить то мужество, с каким поэт-лицеист приступил к этому труднейшему заданию, и ту остроумную находчивость, с какой он разрешил эту неподатливую проблему. Пушкин нашел для ее раскрытия два верных ключа: он подверг старинные сказания с их фантастическими ужасами шутливой разработке, а легендарную героику с ее вымыслами и похождениями свел к точной истории. Задача создания эпической поэмы была блестяще разрешена иронией и историзмом Пушкина. Его поэтический гений довершил все остальное.
В 1817 году появилось продолжение поэмы Жуковского «Двенадцать спящих дев» в виде второй баллады-новеллы, озаглавленной «Вадим». Это история новгородского витязя, который влюбляется в киевскую княжну, а женится на одной из зачарованных героинь, принеся этим искупление и всем ее сестрам. Религиозный характер повести снова обращает Пушкина к пародии и сатире. И теперь, в 1818 году, он считает нужным разоблачить набожность фантастической поэмы.
В противовес «молитвенным» вдохновениям романтического балладника Пушкин в традициях старинных «кощунственных» поэм, превращает непорочных дев в жриц сладострастия, а «Божий дом» – в чертог наслаждения. Такими смелыми контрастами молодой поэт разоблачает мистическую концепцию Жуковского и противопоставляет его аскетическому идеалу свое понимание человеческого счастья и жизненных радостей. В четвертой песне поэмы противостоят не только два плана пародийного искусства, но и два мировоззрения, две морали, два стиля.
В эпоху создания поэмы чрезвычайно расширился круг исторических представлений Пушкина. В свободных объединениях будущих декабристов поэт слышал обсуждение первостепенных государственных вопросов и радикальные проекты освобождения своего народа от феодально-крепостного гнета. Здесь много говорилось о вольных республиках Древней Руси, о политическом и художественном значении русского прошлого, о необходимости освободить от рабского состояния героический народ, избавивший Европу от власти Бонапарта.
Такие исторические предания навевали Пушкину тему героического финала для всей эпопеи его странствующего витязя. Общая идея Карамзина о величии русского народа, ниспровергшего «ханское иго» для создания великого национального государства, отразилась и на пушкинской концепции русской истории.
Шестая песнь «Руслана и Людмилы» уже дает первый очерк истолкования поэтом судеб его родины: подлинный герой для него прежде всего народен, органически слит со своей страной – убеждение, которое Пушкин сохранит до конца. Если его философия истории еще не сложилась в 1820 году в своих окончательных формах, перед нами уже выступает в заключительной песне «Руслана и Людмилы» певец могучих подъемов отечественной истории. На вершине древнего сказания высится героический представитель народа, осуществляющий его историческую миссию. Так, сохраняя традицию волшебно-рыцарского романа, Пушкин к концу поэмы по-новому сочетает фантастические элементы старославянской сказки с драматическими фактами древнерусской истории. В шестой песне поэма наиболее приближается к историческому повествованию: осада Киева печенегами уже представляет собой художественное преображение научного источника. Это первая творческая переработка Карамзина. Картина сражения, полная движения и пластически четкая в каждом своем эпизоде, уже возвещает знаменитую боевую картину 1828 года: «Горит восток зарею новой…»
Пушкин особенно ценил эту последнюю песнь «Руслана».
Тон поэмы здесь заметно меняется. Фантастику сменяет история. Сады Черномора заслонены подлинной картиной стольного города перед приступом неприятеля:
…Киевляне
Толпятся на стене градской
И видят: в утреннем тумане
Шатры белеют за рекой;
Щиты, как зарево, блистают;
В полях наездники мелькают,
Вдали подъемля черный прах;
Идут походные телеги,
Костры пылают на холмах.
Беда: восстали печенеги!
Это уже достоверное и точное описание войны XIX века с ее вооружением, тактикой и даже средствами сообщения. Это уже начало исторического реализма. Картина обороны Киева предвещает баталистическую систему позднего Пушкина, изображавшего обычно расположение двух лагерей перед схваткой, – в «Полтаве», «Делибаше», «Путешествии в Арзрум».
В творческой эволюции Пушкина значение последней песни «Руслана» огромно. Здесь впервые у него выступает народ как действующая сила истории. Он показан в своих тревогах, надеждах, борьбе и победе. В поэму вступает великая тема всенародной борьбы и славы. На последнем этапе своих баснословных странствий герой становится освободителем Родины. Весь израненный в бою, он держит в деснице победный меч, избавивший великое княжество от порабощения. Волшебная сказка приобретает историческую перспективу. «Преданья старины глубокой» перекликаются с современностью: сквозь яркую картину изгнания печенегов звучит тема избавления России от иноземного нашествия в 1812 году. В поэму вплетаются стихи, прославлявшие еще в лицее великие события Отечественной войны. Руслан вырастает в носителя исторической миссии своего народа, и волшебная поэма завершается высоким патриотическим аккордом.
Так легкий жанр веселого классицизма, развертываясь и устремляясь к прославлению освободительного подвига, приближается в последней стадии повествования – к историческому реализму.
Творческий рост Пушкина за три года его работы над «Русланом и Людмилой» поистине поразителен. Даровитый школьник превращается в первого писателя страны. Под его пером «бурлеска» перерождается в героику. Эпическая пародия перерастает в историческую баталию. Легендарные приключения витязей и волшебников отливаются в могучий волевой подъем русского воина, отстаивающего честь и неприкосновенность своей земли. В развитии своего замысла Пушкин из поэта-комика вырастает в певца национального величия и всенародной славы. Если корни его поэмы еще переплетаются с «Монахом» и «Тенью Фонвизина», ее лиственная крона уже поднимается к «Полтаве» и «Медному всаднику».
Таково было становление великого поэта. С небывалым мастерством он подчинил разнородный состав сказания своей творческой воле и достиг полного единства и неразрывной спаянности частей. Такого художественного совершенства и законченности русская поэзия еще не знала. В этой свободной и смелой эпопее Пушкин уловил и выразил тот новый большой стиль русской поэзии, который слагался в ней между великой обороной 1812 года и восстанием 14 декабря. В эти годы шутливый классицизм XVIII века стал перерождаться в классицизм патриотический и революционный, вскоре захвативший всю фалангу передовых поэтов молодой России.
2
2 апреля 1820 года министр внутренних дел Кочубей получил политический донос на Пушкина, написанный публицистом В. Н. Каразиным. Доклад об этом был вскоре сделан царю.
Военный генерал-губернатор Петербурга Милорадович получает распоряжение произвести обыск у Пушкина и арестовать его. Но этот боевой генерал, соратник Суворова, воспетый Жуковским, решил действовать осторожнее. Он жил широко, любил театр и танцовщиц, знал Пушкина по зрительным залам и кулисам петербургских сцен. Вместо ареста он решил прибегнуть к секретному изъятию нужных бумаг.
В середине апреля на квартиру Сергея Львовича явился переодетый агент и предложил дядьке Пушкина, Никите Козлову, пятьсот рублей за предоставление ему «для чтения» сочинений молодого барина. Тот отказал. Узнав той же ночью о таинственном «почитателе» своей поэзии, Пушкин решил предупредить события: он сжег все сатирические листки. На другое утро поэт получил предписание столичного полицеймейстера немедленно явиться к военному генерал-губернатору.
По счастью, Пушкин был в добрых отношениях с прикомандированным для особых поручений к Милорадовичу полковником Федором Глинкой. Автор биографии Костюшки, близкий к Пестелю, Трубецкому и Муравьевым, Глинка мог действительно дать в этом случае благожелательный и дельный совет.
«Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения, – он не употребит во зло вашей доверенности», – заявил этот тайный член «Союза благоденствия».
Поэт отправился в канцелярию генерал-губернатора.
Милорадович принял Пушкина в своем кабинете среди турецких диванов, статуй, картин и зеркал. Он питал страсть к предметам роскоши, к нарядной обстановке, восточным тканям. Как южанин, он отличался некоторой зябкостью и любил по-женски кутаться в пестрые шали.
Этот изнеженный военачальник столицы заявил Пушкину о полученном им приказе «взять» его со всеми бумагами. «Но я счел более удобным пригласить вас к себе». На этот жест доверия Пушкин решил ответить такой же широкой откровенностью: бумаги его сожжены, но он готов написать Милорадовичу все, что нужно. «Вот это по-рыцарски!» – воскликнул удивленный начальник.
Вскоре казенные листки генерал-губернаторской канцелярии заполнились строфами «Вольности», ноэлей, сатир – всей антиправительственной поэзией Пушкина, за исключением одной эпиграммы, которую царь никогда бы не простил ему.
Этот сборник памфлетов Милорадович на другой же день представил Александру, прося его не читать их и помиловать сочинителя за мужественное и открытое поведение во время следствия: «Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою обхождения».
Но император был другого мнения. Дело Пушкина не было решено тогда же (как рассказывал впоследствии Глинка), а тянулось еще около трех недель. 19 апреля Карамзин сообщил Дмитриеву, что полиция узнала «о стихах Пушкина на вольность», об эпиграммах на властителей и друзья поэта «опасаются следствий».
Апрельские события 1820 года сразу обнаружили, какими прочными общественными симпатиями пользовался поэт. Особенно активной оказалась в этом деле позиция его начальника Каподистрии, которого Жуковский за его гражданские качества называл «нашим Аристидом». Он вступил в переговоры с Карамзиным и Жуковским, мнение которых и положил в основу своего заключения.
Одновременно действовали и друзья поэта. Глинка передает, что Гнедич «с заплаканными глазами» бросился к влиятельному Оленину. Чаадаев хлопотал у своего шефа командира гвардейского корпуса Васильчикова и одновременно старался повлиять на Карамзина. С таким внушительным общественным мнением правительству пришлось посчитаться. Первоначальные предположения о ссылке в Сибирь или Соловки за оскорбление верховной власти понемногу уступают место решению перевести Пушкина в южные губернии. Старый сослуживец Милорадовича и приятель Каподистрии генерал Инзов, человек высокой моральной репутации, ведал новороссийскими колонистами; к нему-то и откомандировали Пушкина.
Первый этап «службы» поэта завершился. 4 мая он явился на Английскую набережную и получил от казначея Коллегии иностранных дел тысячу рублей ассигнациями на проезд до Екатеринослава. В канцелярском доме его принял сам глава ведомства Нессельроде. Он сообщил «переводчику» своей коллегии, что по приказу его императорского величества ему предлагается вручить документы чрезвычайной важности попечителю комитета о колонистах южного края России генерал-лейтенанту Инзову, в распоряжении которого поэт остается в качестве сверхштатного чиновника впредь до особых указаний. Пушкину предписывалось выполнить волю государя безотлагательно. Так политическая ссылка была замаскирована служебным переводом. Официально Пушкин отсылался на юг курьером.
6 мая Дельвиг и Яковлев проводили Пушкина до Царского Села. На этот раз друзья были задумчивы и молчаливы. Вероятно, сосредоточенная нежность Дельвига при прощании вспомнилась Пушкину через ряд лет в элегических стихах:
Как друг, обнявший молча друга
Перед изгнанием его…
Бричка покатила по Белорусскому тракту. Из всех родных, друзей и знакомых – из целого общества, заполнявшего пестрой толпой первые десятилетия жизни поэта, – с ним следовал в изгнание только его дядька, крепостной Никита Козлов. «Петербург душен для поэта», – писал за несколько дней до своего отъезда молодой изгнанник, с грустью оставляя в столице лишь круг друзей-единомышленников, как скажет вскоре в своем посвящении поэту-декабристу Федору Глинке:
Без слез оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный гражданин!
IV
ПОЛУДЕННЫЙ БЕРЕГ
1
В середине мая Пушкин прибыл в Екатеринослав (ныне Днепропетровск). Заехав в единственную гостиницу недавно лишь основанного городка, он поторопился явиться в контору иностранных поселенцев вручить своему новому начальнику срочный пакет от Нессельроде.
Его принял пожилой военный, с крупной шарообразной головой, с большими мечтательными глазами. Это и был сподвижник Суворова и Кутузова, участник многих исторических сражений, спартанец и стоик в своей личной жизни генерал-лейтенант Инзов.
Доставленные Пушкиным официальные бумаги были чрезвычайно важны: в них предлагалось управляющему колониями Новороссийского края принять пост полномочного наместника Бессарабии.
Удивительным был и сопроводительный документ, в котором Нессельроде давал курьеру, вручившему депеши, тонкую психологическую характеристику. Это и было письмо Каподистрии, подписанное управляющим коллегией и утвержденное царем, но отмеченное вниманием и участием, весьма мало свойственным петербургским властям.
B министерской рекомендации отмечалось безрадостное детство Пушкина, породившее в нем «одно лишь страстное стремление к независимости». Автор письма не скрывал ни своего мнения о «необыкновенной гениальности юноши» и его «пламенном воображении», ни своих сведений о подлинной «знаменитости» молодого поэта.
Особый интерес представляла характеристика революционных стихов Пушкина.
«Несколько поэтических пьес, в особенности же ода на вольность, обратили на Пушкина внимание правительства. При величайших красотах замысла и стиля его стихотворение свидетельствует об опасных принципах, почерпнутых в современных учениях или, точнее, в той анархической доктрине, которую по недомыслию называют системою человеческих прав, свободы и независимости народов». Вот почему правительство, приняв соображения друзей поэта – Карамзина и Жуковского, полагает, «что, удалив Пушкина на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятия и окружив его добрыми примерами, можно сделать из него прекрасного слугу государства или по крайней мере первоклассного писателя». Дальнейшая судьба молодого человека ставилась в зависимость от успеха «добрых советов» Инзова.
Необычайное письмо вызвало некоторое раздумье попечителя южных колонистов. Этот храбрый воин, в свое время совершивший легендарный переход через Альпы, был не чужд литературных идей XVIII века, а в молодости и сам писал стихи. Племянник Хераскова, воспитанник московских масонов, личный друг поэта-радищевца Пнина – Инзов склонен был по-своему воспринять официальное сообщение о новом стороннике системы человеческих прав. Уже 21 мая он сообщает Каподистрии, что «погрешности» Пушкина объясняет не «испорченностью сердца», а только «пылкостью ума».
Как человек большой душевной чуткости, Инзов после первых бесед с новоприбывшим понял, что тот нуждается после всего пережитого не столько в «добрых советах», сколько в полной свободе и отдыхе. Он не стал обременять Пушкина канцелярской работой и предоставил ему время для устройства на новом месте. Пушкин оставил заезжий трактир и поселился в одной из многочисленных хаток, лепившихся на склонах к Днепру. Город был тих и глух, но с открытием навигации сотни плотов и барок проплывали по течению. Пушкина потянуло к реке.
Ему нравились купанья, катанья на лодке, песчаные островки. Здесь он наблюдал первый примечательный эпизод своих странствий, отразившийся в его южном творчестве. Арестанты «смирительного дома» собирали на улицах подаяния, на которые и содержались заключенные. Двоим из таких скованных колодников удалось бежать; они переплыли Днепр и скрылись в лесах. Пушкин запомнил этот эпизод новороссийской тюремной хроники и через год нашел ему воплощение в своей поэме о русской вольнице.
Ранние купанья в реке вызвали у приезжего приступ малярии. Еще перед отъездом из Петербурга друзья подготовили план путешествия автора «Руслана» с семьей Раевских по Кавказу и Крыму. Около 25 мая генерал Раевский, командовавший 4-м корпусом Первой армии, прибыл из Киева в Екатеринослав проездом на Кавказские воды. В то время на курорты отправлялись целым караваном, и генерала сопровождали его младший сын, гусарский ротмистр Николай Раевский – знакомый нам друг Чаадаева и Пушкина, две дочери – Мария и Софья, гувернантка-англичанка, девушка-татарка и военный врач Рудыковский.
По приезде в Екатеринослав генерал Раевский вместе с сыном разыскали Пушкина в его убогой хате. Поэта лихорадило. Доктор Рудыковский предписал больному хинин, и на другое утро Пушкин явился в губернаторский дом к Раевским, горя желанием сопровождать их на Кавказ. «С детских лет путешествия были моею любимою мечтою», – писал впоследствии Пушкин; мечта эта готова была теперь осуществиться. Инзов не возражал, надеясь, что граф Каподистрия одобрит его снисхождение.
В последних числах мая в одной коляске со своим другом ротмистром Раевским Пушкин оставил Екатеринослав.
2
Три экипажа покатили по Мариупольской дороге. Проехав семьдесят верст, переправились на левый берег Днепра у немецкой колонии Нейенбург, возле Кичкаса (где теперь Днепрогэс). «Тут Днепр только что перешел свои пороги, – сообщал родным генерал Раевский. – Посреди его – каменные острова с лесом весьма возвышенным, виды необыкновенно живописные».
Вскоре проехали Александровск (теперь Запорожье). За городком начались гладкие безводные степи, покрытые свежим ковылем. Так добрались до Мариуполя.
Здесь впервые Пушкин увидел южное море. Все оставили экипажи и сошли на берег Таганрогского залива любоваться прибоем. Пушкин обратил внимание на шаловливую игру Марии Раевской с набегавшими волнами. Это явилось одним из творческих впечатлений его южного путешествия. Оно отразилось в знаменитой строфе «Евгения Онегина»:
Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!..
Проехав Таганрог и Ростов, ночевали в станице донских казаков Аксай, на следующий день обедали у атамана Денисова в Новом Черкасске, а наутро отправились в Старый Черкасск.
Маршрут Раевских пролегал по территории, охваченной в то время восстанием крепостных. Борьба деревень с отрядами генерала Чернышева напоминала о старинных движениях, прославивших область. Донские станицы и городки были полны преданий о борьбе казачества с царизмом, нередко разраставшейся в настоящие крестьянские войны и прославившей имена Разина, Пугачева, Болотникова, Булавина. Некоторые из этих имен, как известно, чрезвычайно увлекали Пушкина, а первый интерес к ним, вероятно, возник у него летом 1820 года, когда он слушал в самом центре донского казачества предания и песни о понизовой вольнице.
Именно здесь, в старинном Черкасском городке и его округе, разыгрался ряд событий знаменитого казачьего восстания, потрясшего до оснований «тишайшую» Русь царя Алексея. Дон был одним из главных районов деятельности Разина. В области продолжали звучать вековые песни об этом неустрашимом заступнике угнетенного люда. Это он приходил в образе Пугачева передать крепостным помещичьи земли, пели донские песенники, и он снова придет вызволить закабаленных рабов, ибо «Стенька – это мука мирская»…
Цикл донских преданий рано увлек Николая Раевского. Умный, одаренный, превосходно образованный молодой офицер декабристского круга, правнук Ломоносова по матери, он задумал собирать рассеянные в крестьянской массе воспоминания о Разине, мечтая со временем написать историю его восстания. Страстный любитель поэзии, он сразу почувствовал здесь богатейшие залежи устного творчества и едва ли не первый указал на них Пушкину.
Песни донцов поразили автора «Вольности». Политический изгнанник мог почувствовать всю революционную мощь этого эпического половодья, а великий поэт, мечтающий отлить в своем творческом слове образ всенародного героя, казалось, обрел его величайший исторический прототип. Разин – «единственное поэтическое лицо русской истории», запишет через четыре года Пушкин. Но уже летом 1820 года поднимается в сознании поэта эта первая волна его помыслов о Степане Разине и Пугачеве, которая до конца будет расти и шириться в его творчестве.
Дни в Аксае запомнились Пушкину. Здесь возник один из его замечательнейших творческих планов – замысел поэмы о Степане Разине. К этому образу он еще не раз обратится впоследствии.
3
Между тем экипажи генерала Раевского продолжали свой маршрут на юг.
Землями Войска Донского проехали в Ставрополь. Показались снежные вершины двугорбого Эльбруса, к скалам которого был, по преданию, прикован Прометей. Сильная гроза и дождь задержали путников недалеко от Георгиевска. Через два дня достигли, наконец, цели путешествия – Горячих Вод (впоследствии Пятигорск).
Вокруг расстилалась «страна баснословий», как писали географы двадцатых годов. С давних пор обширная горная область меж двумя южными морями была достоянием поэтов. Историки считают, что впервые слово «Кавказ» было произнесено Эсхилом.
Поэтические предания, казалось, аккомпанировали непосредственным впечатлениям поэта-путешественника, зачарованного очертаниями «ледяных вершин, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными…». Среди первых набросков в записной книжке поэта уже отмечены и вершины Машука и Эльбруса, «обвитые венцом летучих облаков», и «жилища дикие черкесских табунов», и «целебные струи», к которым сейчас же по приезде обратились путешественники.
В Горячеводске с «перелетной стаей» встретился старший сын генерала – Александр Раевский, высокий, худощавый молодой полковник в отставке, напоминавший внешностью Вольтера. Он участвовал в наполеоновских походах, был во Франции адъютантом Воронцова, служил при наместнике Кавказа Ермолове.
На Пушкина он сразу произвел неотразимое впечатление. Александр Раевский слыл скептиком, «нигилистом», отрицал ценность поэзии, искусства, чувств. Тонко образованный и широко начитанный, как все Раевские, он был не чужд мистификации, и его неумолимый «демонизм» являлся некоторой позой. Дальнейшее показало, что этот «разочарованный» человек был способен на сильнейшие увлечения. Ум, дарования и жизненный опыт Александра Раевского придавали исключительное очарование его личности и разговору.
Пушкин охотно слушал и рассказы старика Раевского, прошедшего военные пути от Очакова до Парижа и даже заслужившего лестные отзывы Наполеона. Беседы с боевым генералом питали живой интерес поэта к истории недавнего прошлого и поддерживали его влечение к военной жизни и ратным подвигам.
Они представляли особенный интерес в напряженной походной обстановке Кавказа. От Раевских Пушкин, несомненно, слышал о крупнейших деятелях и событиях кавказской военной истории – о князе Цицианове, генерале Котляревском и особенно о самом Ермолове. Здесь же он услышал о трагическом эпизоде этой долголетней борьбы, который вдохновил его на замысел новой кавказской поэмы:
гибель россиян
На лоне мстительных грузинок…
Имелось в виду изгнание низложенной семьи Георгия XIII из пределов ее бывших владений в 1803 году, когда последняя царица Грузии Мария заколола генерала Лазарева, распоряжавшегося ее отправлением из Тифлиса. Царицу окружали девушки и женщины, вооруженные кинжалами и отбивавшиеся от русской стражи.
Таковы были «преданья грозного Кавказа», слышанные молодым поэтом от старого ширванского ветерана. Через несколько месяцев, заканчивая свою поэму о Кавказе, Пушкин расскажет читателю о замыслах своих новых воинственных песен и произнесет хвалу командирам кавказской линии в духе воззрений той военной семьи, с которой он странствовал меж Доном и Кубанью.
3 июля общество переехало на «Железные воды бештовые», то есть в нынешний Железноводск. Здесь раскинулись лагерем в десяти калмыцких кибитках под военной охраной тридцати солдат и тридцати казаков; ванны находились в лачужках, а воду из источников черпали дном разбитой бутылки. Вершины Бештау поэт называет своим новым Парнасом.
4
К концу месяца Раевские были в Кисловодске. Здесь 26 июля 1820 года Пушкин создает свое первое романтическое стихотворение – эпилог к «Руслану и Людмиле».
Этот заключительный фрагмент резко расходится по стилю с духом поэмы, которую он призван завершить. Это не столько послесловие к волшебной саге, сколько увертюра к циклу современных поэтических новелл. Это исповедь разочарованного «сына века», пережившего личную и общественную трагедию в толпе шумной столицы, полной врагов, клеветников, изменниц, и изживающего теперь свою боль и негодование среди «природы дикой и угрюмой»:
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Тема нависшей гибели, политических гонений, душевной замкнутости и гордой свободы – какой это разительный контраст к мотивам только что законченной рыцарской поэмы с ее сказочными злоключениями и «пиршественным» финалом! Эпилог к «Руслану» прозвучал декларацией нового поэтического стиля, раскрывшего прямые пути в современность с ее титаническими натурами и политическими грозами.
В 1820 году, с окончанием «Руслана и Людмилы», завершается ранний период творчества Пушкина. Лицей и «Арзамас» окончательно изжиты. Открывается новая творческая эпоха, овеянная животворной бурей романтизма – неукротимой, трагической и мятежной.
В начале августа путешественники двинулись в обратный путь – с Кавказа в Крым. Это был новый маршрут от Пятигорья по правому берегу Кубани (левый еще принадлежал черкесам), землями черноморских казаков, на Таманский полуостров. Проезжали через кубанские крепостцы и сторожевые станицы, где Пушкин не переставал любоваться бытом и жизнью смелых наездников: «вечно верхом, вечно готовы драться, в вечной предосторожности», – писал он брату. Но он не решался доверить письму свои размышления о казацкой «вольнице», черты которой еще сохранились в пограничных станицах.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































