Текст книги "Пушкин"
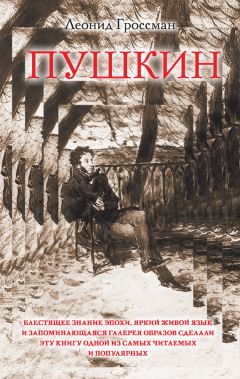
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Знакомство с казачеством на Дону и в Кубани оставило глубокий след в творческой памяти Пушкина. Его коренному «свободолюбию» здесь раскрывался богатейший материал для поэтизации широких вольных натур – передовых стражей и отважных завоевателей. Какое богатство событий и образов для эпической поэмы! Средоточие недовольных, убежище беглых крепостных и каторжников – это вольное военное товарищество умело поднимать грозные политические движения против «законного» царского порядка. Если задуманные поэтом «Замечания о черноморских и донских казаках» 1820 года до нас не дошли, мы можем отчасти судить о них по поздним записям Пушкина, в которых поэт-историк приветствует донское и яицкое казачество за смелость, удальство и великодушие этих старинных русских людей, своевольно установивших свою жизнь и быт на степных просторах и по течению великих рек.
В середине августа поэт впервые увидел Черное море, столь пленившее его и столько раз им воспетое. От «азиатской» Тамани путешественники отплыли в направлении Керчи. Началось первое морское путешествие Пушкина.
5
Кавказские воды и казачьи становища сменяет Таврида, вся овеянная античными мифами. Пушкину с его творческими заданиями было дорого легендарное прошлое Черноморья. В описании своего путешествия – сначала в письме к брату, потом в стихах – он не перестает ссылаться на древние имена и предания, вспоминать исторические события и оживлять мифологические образы. «Воображенью край священный!» – назовет он впоследствии Крым. Таманский полуостров, откуда открылись ему таврические берега, он называет Тмутараканским княжеством. Так именовали древнюю Таматархию русские князья Владимир, Мстислав, Ярослав I, образовавшие из нее удельное княжество (Пушкин вспомнил вскоре «Мстислава древний поединок» и разработал план поэмы об этом герое). Керчь вызывает в нем представление о развалинах Пантикапея и воспоминание о Митридате, завоевателе Греции и опустошителе римских колоний Малой Азии. По пути поэт посещает кладбище бывшей столицы Боспорского царства, разыскивая следы исторической усыпальницы:
И зрит пловец – могила Митридата
Озарена сиянием заката.
В Феодосии, которую Пушкин называет ее генуэзским именем Кафа, он ведет беседы с исследователем Кавказа и Таврии, бывшим служащим Азиатского департамента Иностранной коллегии Семеном Броневским, весьма примечательным русским краеведом начала столетия.
Это послужило Пушкину как бы введением в богатую область древней истории и памятников Черноморского побережья.
17 августа путешественники отчалили от феодосийской гавани на военном бриге, который был предоставлен генералу Раевскому из керченской флотилии. Плавание началось днем, но особенно запомнилась Пушкину ночь на море, о которой он неизменно и не без волнения сообщал в своих письмах. Он провел ее без сна, в состоянии лирического вдохновения. Это была одна из прекрасных безлунных южных ночей, когда ярко выступают звезды и в темноте неясно вычерчивается линия гор. Сторожевое судно шло легким береговым бризом, не закрывая парусами побережья. Поэт ходил по палубе и слагал стихи: морское путешествие ночью, воспоминание о петербургских увлечениях, очарование новым стилем романтических поэм – все это отразилось в лирическом отрывке с повторными стихами:
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан…
Стихотворение имело первоначально эпиграфом прощальный возглас из песни Чайльд Гарольда, покидающего Англию: в сборниках пушкинской лирики двадцатых годов оно даже печаталось с авторской пометкой «Подражание Байрону». Но следует помнить, что в то время термин подражание обозначал нередко поэтические вариации самостоятельного значения, по существу свободные от заимствования и лишь выдержанные в определенном художественном стиле. Так было и в данном случае.
В своей черноморской элегии Пушкин дает обычную лирическую запись своих раздумий, признаний и надежд, выраженных непосредственно, вольными стихами, близкими к живой разговорной речи. Глубоко различно и эмоциональное звучание двух стихотворений. Байрон описывает безнадежную опустошенность своего сердца и свое страшное одиночество в пустынном мире. Пушкин говорит о сердечном возрождении, об «упоении» воспоминаниями, о неисцелимости «глубоких ран любви», свидетельствующих не об омертвелости души, а о ее повышенной способности к новым переживаниям. В стихотворении сохранен лишь стиль морской прощальной песни с особой поэтичностью ее основной темы – отплывания от родимых берегов, где была безрассудно изжита молодость, к неведомым странам, сулящим забвение и покой. Поэтические мотивы, свойственные и ранним опытам Пушкина, получили теперь совершенно новое звучание. Драматизм личной судьбы, тяжесть изгнания, впечатления от Кавказа, от Раевских, от новейших мятежных поэм приобщили его к особым романтическим течениям, близким к революционным настроениям современности. Проявлением этого пушкинского романтизма, который вскоре начнет отсвечивать «красками политическими» и перерождаться в его глубокий психологический реализм, и была взволнованная, как море, его элегия «Погасло дневное светило», как бы проводящая резкую грань между его юностью и молодостью, Петербургом и Крымом, «Русланом» и южными поэмами.
Элегия слагалась в виду берегов, где-то между Судаком и Алуштой. Когда обогнули мыс Чебан-Басты, капитан брига подошел к своему бессонному пассажиру: «Вот Чатырдаг!» В темноте неясно обрисовывались массивы огромной Палат-горы, как ее прозвали в то время русские из-за сходства с раскинутым шатром.
Пушкин задремал. Он проснулся от шума якорных цепей. Корабль качался на волнах. Вдали амфитеатром раскинулись розово-сиреневые горы, окружавшие Гурзуф, на фоне их высились зеленые колонны тополей; из моря выступала громада Аюдага. «И кругом это синее чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный…»
На берегу путешественников встретила генеральша Раевская с двумя дочерьми. Старшая, Екатерина, считалась красавицей, обладала твердым характером и произвела на Пушкина сильное впечатление (он вспомнил ее, когда через пять лет создавал образ Марины Мнишек). Вторая дочь, голубоглазая Елена Николаевна, была чахоточной, но в свои семнадцать лет, несмотря на тяжелый недуг, сохраняла все очарование красоты хрупкой и лихорадочной с некоторым отпечатком обреченности. Как все Раевские, обе старшие сестры отличались высокой культурностью.
Лето двадцатого года Пушкин провел в семейной обстановке, рядом с девушками, любившими искусство, увлекавшимися поэтами-романтиками. «Все его дочери – прелесть, – писал он вскоре брату о семье генерала Раевского, – старшая – женщина необыкновенная». Но это поклонение «юности и красоте» не перешло в подлинное чувство любви с его глубиной и силой. По позднейшему свидетельству Марии Раевской, поэт «обожал только свою Музу». Это вполне подтверждается таким стихотворением, как «Редеет облаков летучая гряда…», в котором нет любовного признания и говорится только о «сердечной думе» — выражение большой глубины и чрезвычайно характерное для переживаний автора элегии.
В Гурзуфе Пушкин по-новому ощущает природу. Южная растительность пробуждает в нем ряд неведомых представлений и счастливых творческих ассоциаций. Горделивый и стройный крымский кипарис вызывает его восхищение и нежность; он проникается «чувством, похожим на дружество», к молодому дереву-обелиску, выросшему у самого дома герцога Ришелье, где поселились Раевские.
Гурзуф был овеян историческими воспоминаниями. Он входил в общую древнюю систему обороны южного Крыма. Прикрывавшая селение Медведь-гора, или Аюдаг, называлась также Бююк-Кастель, то есть большое укрепление. На ее склонах высились остатки генуэзской батареи, воздвигнутой из дикого камня в VI веке нашей эры. Путь с горы в соседнюю деревню Партенит (название указывало на близость «Парфенона» – храма Дианы) был еще усеян обломками черепиц и осколками сосудов. Древность неприметно ощущалась здесь повсеместно.
Вскоре Пушкин создал ряд новых стихотворений в духе античной антологии. Неудивительно, что он перечитывает в Гурзуфе того лирика, который наиболее пластически и сильно воскресил в своем творчестве мотивы эллинской поэзии, – Андре Шенье. Пушкин узнал его, как и Байрона, еще в Петербурге. К концу 1819 года или к началу 1820 года относятся его первые опыты в духе Шенье: «Я верю, я любим…» и «В Дориде нравятся и локоны златые…» Пушкин прочел этого французского поэта в самый момент его «открытия», то есть при первом посмертном опубликовании его рукописей отдельной книгой в 1819 году. «Он истинный грек, из классиков классик, – определил его вскоре автор «Музы» в письме к Вяземскому. – От него так и пышет Феокритом и антологией…» Вот почему чтение этого поэта особенно соответствовало обстановке Крыма.
В Гурзуфе же заносятся в дорожную тетрадь первые заметки к новой поэме и конспективные программы изложения, изобилующего местными бытовыми и этнографическими чертами (аул, Бешту, черкесы, пиры, песни, игры, табун, нападение и пр.). Сюжет поэмы, намеченный в кратких обозначениях: «пленник – дева – любовь – побег», обращал к рассказам о воинских подвигах русских офицеров в закубанских равнинах.
6
В начале сентября Пушкин с генералом Раевским и его сыном Николаем выехали верхами в Симферополь. Это необычное путешествие в седле и стременах по приморским тропам побережья Пушкин вспомнил через два-три года, описывая путь крымского всадника в эпилоге «Бахчисарайского фонтана». Маршрут лежал по южному берегу через Никитский сад, маленькую деревушку Ялту, Алупку-Исар и Симеиз к трудной и узкой тропе с побережья на плоскогорье. Это был «страшный переход по скалам Кикинеиза», ведущий к еще более грозной «чертовой лестнице» – Шайтан-Мердвеню, где, по словам старинного путешественника, смерть на каждом шагу «ожидает себе жертвы». Поднявшись по крутым уступам на Яйлу, всадники через Байдарскую долину доехали до Георгиевского монастыря.
Кельи монахов повисли на огромной высоте над отвесными стенами обрыва. «Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление!» – вспоминал вскоре Пушкин.
Отсюда он отправился на мыс Фиолент осмотреть остатки древнего храма Дианы. Прелестное стихотворение Пушкина об Ифигении в Тавриде было написано позже (как это доказано новейшими исследователями), но дыхание мифологии с ее трагическими и человечными мифами, видимо, охватило Пушкина на обрыве легендарного мыса у «баснословных развалин» древнего капища (как сам он рассказал в 1824 году).
Отсюда скалистой дорогой путники достигли Бахчисарая. Пушкина снова начала томить лихорадка. Но ему припомнилось слышанное им еще в Петербурге «печальное преданье» Крыма: последний хан, отличавшийся в битвах и дипломатии, безнадежно полюбил пленницу своего гарема, польскую княжну. Когда недоступная девушка погибла от кинжала соперницы, он воздвиг в ее память неиссякающий водомет – изображение своей безутешной скорби, «фонтан слез»…
Пушкин нашел ханский дворец в запустении, гарем в развалинах, фонтан испорченным, хотя, быть может, в таком виде он наиболее оправдывал свое наименование: вода по капле сочилась и медленно скатывалась с его мраморных выступов:
Фонтан любви, фонтан печальный!..
Но окружающие дворец сады были полны прохлады, зелени и цветов. Среди густых зарослей миртов, под раскидистой тенью яворов, у высоких пирамидальных тополей неизменно цвели, как при ханах, большие осенние розы, словно восполняя живой деталью восточный растительный орнамент «таврической Альгамбры». Пушкин сорвал с карликового куста колючую ветку с двумя пышными алыми цветками – как сам поведал нам в своем посвящении фонтану Бахчисарайского дворца – и опустил «две розы» на влажный мрамор, иссеченный арабскими литерами: «В раю есть источник, именуемый Сельсебиль».
Татарская сага о любви и смерти владела поэтом: ни запустение дворца, ни скудность источника, ни даже болезнь Пушкина не могли остановить рост одного из его самых пленительных поэтических замыслов…
Позднейшее творческое воспоминание магически преобразило запущенные покои ханского дворца и оживило драматической хроникой дремотное затишье Крыма.
Пушкин говорил впоследствии, что жил в Гурзуфе «со всем равнодушьем и беспечностью неаполитанского лаццарони». Но это была все же, но выражению его знаменитой элегии, «задумчивая лень». О глубокой внутренней сосредоточенности свидетельствуют возникшие вскоре таврические строфы. Душевное возрождение, о котором Пушкин такими чудесными стихами мечтал еще в Петербурге, осуществилось только во время его первых южных странствий. После ряда месяцев бесплодия и усталости, когда поэту казалось, что «скрылась от него навек богиня тихих песнопений», наступило спасительное раскрепощение: «В очах родились слезы вновь, душа кипит и замирает», и с дивной легкостью слагаются элегические стихи о шумящих ветрилах и «безумной любви». Так чуждые краски облетели ветхой чешуей с «картины гения», освобождая новые источники сил в его нравственном мире и раскрывая неведомые возможности росту его творческих видений.
V
В ШТАБЕ ЮЖНОГО ЗАГОВОРА
1
Из Бахчисарая через Симферополь, Перекоп и Одессу Пушкин направился на новое место своей службы – в Кишинев, куда уже переехал на свой новый пост полномочный наместник Бессарабии Инзов.
Прибыв 21 сентября в административный центр нового края, Пушкин остановился в заезжем доме одного из «русских переселенцев» новой провинции.
Генерал Инзов проживал в наместническом доме на окраине старого города. Пришлось проходить к нему узкими и кривыми улицами, кое-где прорезанными мутным потоком Быка. Вдоль низеньких каменных домишек, вдоль тесных и грязных двориков, полутемных лавок с тяжелыми колоннами и сводами, мимо восточных кофеен, в которых арнауты и греки дымили кальянами и трубками над маленькими чашечками с кофейной гущей, Пушкин прошел по острым булыжникам турецкой мостовой на простор пустырей, откуда открывался перед ним широкий вид на синеющие холмы, кольцом обступившие город.
Белый двухэтажный дом наместника высился на возвышенности среди зарослей небольшого сада. Просторный двор был наполнен домашними птицами: павлины, журавли, индейские петухи и разных пород куры и утки разгуливали среди клумб и кадок с олеандрами. Около крыльца сторожил бессарабский орел с цепью на лапе. По утрам Инзов сам раздавал корм своему пернатому населению. Стаи пестрых голубей кружились возле балкона, подбирая зерна пшеницы и риса. «Это мои янычары, – с улыбкой говорил Инзов, – главное лакомство янычар также было пшено сарацинское».
Старик снова пленил Пушкина простотой и приветливостью обращения. Как и раньше, он предоставил поэту полную свободу и возможность наблюдать местный быт и нравы.
Население города привлекало своей необычайной пестротой. Неудивительно, что именно здесь создались стихи Пушкина о небывалой смеси «одежд и лиц, племен, наречий, состояний»… В среде румын, турок, греков, евреев, армян, молдаван, задунайских славян, цыган, украинцев и немцев еще растворялось новое русское общество – военные, чиновники, немногочисленные семейства переселенцев вместе с потомками беглых стрельцов, раскольников, донских казаков-некрасовцев (так назывались участники булавинского восстания). Фески, тюрбаны, халаты, смуглые лица придавали городу живописный колорит и неизменно вызывали у приезжих несколько преувеличенное представление о бессарабской «Азии».
Но после Крыма, который Пушкин называл «роскошным востоком», Кишинев с его беднотой и скученностью кварталов, суетливой деловитостью и смешными потугами провинциального общества на парижские и венские моды походил не столько на Азию, сколько на близлежащие Балканы. Город носил на себе ряд черт европейской Турции без резко выраженного единого национального характера, без исторических памятников или иных следов народной культуры.
Но сама эта лоскутность быта и нравов, пестрота международного караван-сарая, своеобразные черты местного строя, еще не сглаженные общегосударственными началами управления, – все это придавало городу необычайную живописность и вызывало у поэта художественный интерес. В творческом плане Бессарабия оказалась для Пушкина не менее богатой областью, чем Кавказ и Таврида: именно здесь зародилась самая значительная из его южных поэм.
Близким лицом в Кишиневе оказался арзамасец Рейн – Михаил Орлов, командовавший здесь дивизией и уже состоявший членом тайного общества.
Обладатель «живой и пылкой души», выдающийся оратор, он считался «человеком высшего разряда» и «светилом среди молодежи». Это был политический деятель большого масштаба, заключивший в 1814 году капитуляцию Парижа, подававший царю петицию об уничтожении крепостного права и заявивший протест против намерения Александра I отделить от России Литву. Еще в 1814 году он участвовал в организации тайного общества «Орден русских рыцарей», ставившего себе целью политический переворот и новое государственное устройство России (упразднение рабства, вольное книгопечатание, соединение Волги и Дона каналом, торговое сближение с Китаем и Японией и пр.). Состоявшая под его командованием с лета 1820 года 16-я пехотная дивизия вскоре стала одним из главных центров южного декабризма.
Борьба Орлова с телесными наказаниями и его забота о солдатах были выдающимися явлениями в истязуемой и безмолвствующей армии. Отражая гуманистическую программу «Союза благоденствия», его приказы по полкам перевоспитывали командный состав и проводили на практике борьбу с аракчеевщиной.
Сосланного Сверчка Орлов встретил как товарища и друга. Уже через день после приезда, 23 сентября, Пушкин обедает у начальника дивизии за его «открытым столом», где собирается вся видная военная молодежь оппозиционного направления.
Среди посетителей генерала выделялся статный гость с военной выправкой, в синей венгерке вместо мундира; пустой правый рукав, обшитый черным платком, был приколот к груди. Это был дрезденский ветеран, сын молдавского господаря Александр Ипсиланти, проявивший исключительную политическую активность. В эпоху первого знакомства с Пушкиным этот «безрукий князь» со своими братьями заканчивал подготовку восстания в Греции.
Беспрестанные шумные споры на политические, философские и литературные темы создавали особую атмосферу в доме Орлова: это был крупнейший культурный центр Кишинева, за которым многие признавали даже значение «якобинского клуба». Ранний пушкинский радикализм, несомненно, закалялся в кругу этих передовых, образованных и даровитых собеседников, подвергавших смелой и острой критике всю современную государственность.
За столом Орлова Пушкин знакомится и с подполковником Иваном Петровичем Липранди, который занял в бессарабской главе его биографии весьма заметное место.
Это был чрезвычайно любопытный представитель кишиневской дивизии. Игрок и ученый, член кишиневской ячейки тайного общества и замечательный лингвист, Липранди с первых же встреч заинтересовал Пушкина. Поэт подружился с ним и не раз встречал в нем поддержку и участие (о принадлежности Липранди к тайной полиции Пушкин, конечно, и не догадывался).
Этот штабной офицер специализировался на изучении европейской Турции, которую, по планам царизма, предстояло присоединить к России. Библиотека его состояла преимущественно из книг по истории и географии Ближнего Востока. Пушкин нашел в этом обширном книгохранилище немало редких и ценных изданий с планами, картами и гравюрами. Первая книга, которую он взял у Липранди, был Овидий, который и стал его излюбленным спутником в «пустынной Молдавии».
Начетчик и библиофил Липранди славился бретерством, и редкая дуэль проходила без его участия. Именно он рассказал Пушкину о поединке, описанном впоследствии в повести «Выстрел», герой которой Сильвио отмечен чертами этого кишиневского дуэлиста.
У Липранди Пушкин познакомился с сербскими воеводами, доставлявшими полковнику необходимые сведения для его исследования о Турции. От них поэт узнал, что по соседству с Кишиневом – в Хотине – проживает дочь видного деятеля сербского освободительного движения Георгия Черного, или Карагеоргия, получившего такое мрачное прозвание за то, что он убил своего отца, не захотевшего стать в ряды национальных повстанцев. Одно из первых кишиневских стихотворений Пушкина было посвящено «дочери Карагеоргия» и давало резкий очерк этого «воина свободы», павшего жертвой национальной борьбы балканских славян с турецкими владыками.
Пушкин с интересом следит за народными преданиями и песнями. В новом, или верхнем, городе находился «зеленый трактир», куда он охотно заходил поужинать с друзьями. Здесь прислуживала девушка Мариула. Певучее имя запомнилось ему и прозвучало в его бессарабской поэме:
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил…
Юная молдаванка, видимо, развлекала посетителей песнями, и мелодия одной из них привлекла внимание Пушкина. Приятели-сотрапезники изложили ему сюжет жестокого романса, пленившего поэта быстрой сменой трагических событий. Девушка пела о любви юноши к чернокудрой гречанке, изменившей ему.
«И тогда я вытащил палаш из ножен, повалил изменницу и в исступлении топтал ее ногами. Я и теперь помню ее горячие заклинания и вижу открытые губы, молившие о поцелуе… Я бросил их трупы в дунайские волны и отер мой палаш черной шалью…»
Через несколько дней весь Кишинев повторял стихотворение Пушкина, навеянное молдавской песнью Мариулы. 8 ноября только что вернувшийся из объезда пограничной оборонительной линии по Дунаю и Пруту генерал Орлов принимал у себя офицеров. Вошел Пушкин. Начальник дивизии обнял его и начал декламировать:
Когда легковерен и молод я был…
Пушкин засмеялся и покраснел: «Как, вы уже знаете?»
«Баллада твоя превосходна, – продолжал арзамасский Рейн, – в каждых двух стихах полнота неподражаемая».
Вскоре молдавскую балладу распевала вся Россия. Переложенная на музыку тремя композиторами-современниками – Верстовским, Виельгорским и Геништой, она растворилась в сокровищнице народных мотивов. Уже в 1823 году романс Верстовского инсценировался в Москве, а в 1831 году эта кишиневская песнь легла в основу столичного пантомимного балета с национальными плясками – турецкой, сербской, молдавской, валашской и цыганской.
2
В ноябре Пушкин выехал в Киевскую губернию, в имение Каменку Чигиринского повета, принадлежавшее единоутробным братьям генерала Раевского Давыдовым. На семейный праздник (именины их матери) сюда собрались Михаил Орлов, Владимир Раевский, Охотников, генерал Раевский с сыном Александром и петербургский друг Чаадаева Якушкин.
В Каменке было два мира, разделенные, по выражению Пушкина, темами «аристократических обедов и демагогических споров». Первый был представлен гомерическим обжорой Александром Давыдовым, тучным и пожилым генералом в отставке, получившим впоследствии от Пушкина прозвище «второго Фальстафа» или «толстого Аристиппа». Это был помещик-самодур, не внушавший поэту ни тени уважения: эпиграмма на его жену, ветреную француженку Аглаю Давыдову, направлена своим острием против ее ничтожного супруга. Дочери Давыдовых, двенадцатилетней девочке, Пушкин посвятил воздушные и радостные стихи, впоследствии положенные на музыку Глинкою («Играй, Адель…»).
Полную противоположность этому миру представлял круг младшего брата – молодого Василия Давыдова. Он только что вышел в отставку, чтоб всецело отдаться тайной политической деятельности. Приверженец Пестеля, увлекательный оратор, он в качестве члена Южного общества председательствовал в одной из важнейших ячеек организации, имевшей свой штаб в его имении Каменке. Это была одна из трех управ так называемой «Тульчинской думы», то есть одного из центров революционного движения в Южной армии.
Под видом семейного праздника в Каменке в конце ноября 1820 года происходило совещание членов тайного общества. Василий Давыдов со своими политическими единомышленниками не скрывал своего оппозиционного настроения. Перед пылающим камином в присутствии всех гостей провозглашались тосты за здравие неаполитанских карбонариев и за процветание республиканских свобод. Великосветские трапезы завершались обычно оживленными политическими дискуссиями.
Эти «демагогические споры» велись по-парламентски – с президентом, колокольчиком, записью ораторов. Революционные события в южноамериканских колониях, в Испании и Южной Италии, покушения на вождей реакции в Германии и Франции – все это сообщало дебатам богатый материал текущей политической хроники.
Однажды в полушутливой форме обсуждался вопрос о целесообразности тайных обществ в России (серьезно обсуждать такую тему в кругу непосвященных было, конечно, невозможно). Дискуссия вскоре была превращена в шутку. Это чрезвычайно огорчило Пушкина. Один из участников мистификации, Якушкин, навсегда запомнил его глубокое огорчение и ту прекрасную искренность, с какой он бросил собранию взволнованные слова о высокой цели, на мгновение блеснувшей перед ним и столь обидно померкшей. Поэту казалось, что он никогда не был несчастнее, чем в эту минуту крушения приоткрывшейся перед ним возможности большой политической борьбы за освобождение своего народа.
Но открывался другой путь к служению общему делу, на который и указывали ему друзья, его жизненное призвание – литература. Политические стихи Пушкина оставались величайшими документами движения и сильнейшими актами пропаганды. На юге же поэт приступает к непосредственным и постоянным записям своих впечатлений о выдающихся людях своего времени, отважно начавших переустройство порабощенной родины.
Пушкин чувствует, что он окружен деятелями исторического масштаба, имена которых будут со временем знамениты, чья жизнь и личность принадлежат потомству. Не является ли его долгом писателя зафиксировать ускользающие черты этих «оригинальных людей, известных в нашей России, любопытных для постороннего наблюдателя», как он писал Гнедичу 4 декабря 1820 года.
В беглой эпистолярной зарисовке уже ощущается зерно современной хроники о декабристах, которая до конца будет привлекать внимание Пушкина. Именно этих людей, сумевших подняться над своей эпохой и произнести о ней свое смелое критическое суждение, он противопоставляет растленным фигурам правительственного стана с Аракчеевым и Александром I во главе. Эпиграммы и памфлеты на официальный Петербург как бы восполняют теперь интимный дневник поэта об освободительных событиях его эпохи. Журнал о греческом восстании вскоре перейдет в записки о современных политических деятелях России и вырастет в живой меморандум встреч и бесед их автора с Орловым, Пестелем, Раевским и Сергеем Волконским. Южный дневник Пушкина, или его «биография» (как называл он впоследствии эти записки), был новым звеном в той цепи задуманных им произведений, в которые входили петербургские посвящения «молодым якобинцам» и со временем войдут наброски повести о прапорщике Черниговского полка, десятая глава «Евгения Онегина», «Русский Пелам». Текущая летопись перерастет в художественные произведения, а творческие образы будут питаться заметками кишиневских тетрадей.
3
Весной 1821 года, когда поэт вернулся в Бессарабию, Инзов решил приступить к его духовному перевоспитанию. Он начал с того, что поселил Пушкина в своем доме, «открыв» ему свой стол, чтоб освободить молодого человека от материальных забот и получить возможность постоянно обращаться с ним по-семейному.
Он с большим вниманием обдумал предмет и тему постоянной работы своего нового служащего; по лицейскому воспитанию Пушкин был правоведом, по Коллегии иностранных дел переводчиком; он владел в совершенстве французским языком, а как литератор должен был питать склонность к редакционной работе. Инзов и поручил ему переводить на русский язык французский текст молдавских законов.
Менее жизненным оказалось другое его решение: обратить атеиста Пушкина на путь христианского благочестия. Связанный по своему положению с представителями высшего кишиневского духовенства, наместник решил привлечь их к моральному воздействию на своего питомца.
В самом начале старого города (в части, получившей впоследствии название Инзова предместья) находилась построенная в 1805 году церковь Благовещения – по-молдавски «бессерика бонавестина», – заменявшая набожному наместнику домашнюю часовню.
По канонам православной иконописи одна из церковных фресок изображала известный евангельский миф: архангел Гавриил в белых одеждах слетает к смущенной и коленопреклоненной девушке с вестью от бога. Пушкин, простаивая долгие службы вместе со своим наставником перед этим изображением, рассмотрел его во всех деталях и мог основательно продумать содержание библейской легенды.
Это предание о безгрешном зачатии Девы Марии с давних пор было осмеяно критической мыслью и служило предметом вольнодумной сатиры. В этом же направлении развернулся и поэтический замысел Пушкина.
В «страстную пятницу» ректор Ириней, приехавший к Инзову, решил настроить Пушкина своей беседой на высокий лад и даже сам отправился в его комнату. Он застал богоспасаемого грешника за чтением Евангелия, врученного ему Инзовым; поэт изучал религиозные тексты для их переработки в духе знаменитых пародий на Библию.
«Чем это вы занимаетесь?»
«Да вот читаю историю одной особы…»
В письмах своих Пушкин в 1823 году говорит об «умеренном демократе Иисусе Христе» – в этом духе он, вероятно, выразился и в беседе с Иринеем. Семинарский ректор, отличавшийся крайней горячностью, в припадке возмущения пригрозил написать о дерзком ответе «донесение» в Петербург для строжайшего наказания безбожника. Он гневно удалился, а Пушкин продолжая слагать стихи о влюбленном Боге и охватившей его страсти:
И ты, Господь, познал ее волненье,
И ты пылал, о Боже, как и мы…
Но в поэтические замыслы не перестает врываться политика. Весною 1821 года Пушкин извещает друзей, что «безрукий князь», то есть Александр Ипсиланти, «бунтует на брегах Дуная». «Греция восстала и провозгласила свою свободу… Восторг умов дошел до высочайшей степени: все мысли греков устремлены к одному предмету – на независимость древнего Отечества…»
Среди скептических кишиневских политиков поэт высказывает твердую уверенность в окончательной победе Греции. Он убежден, что турки будут вынуждены возвратить «цветущую страну Эллады законным наследникам Гомера и Фемистокла». Тема греческого возрождения восхищает и вдохновляет Пушкина. Он верит в военное выступление России на стороне восставших. Он мечтает вступить добровольцем в действующую армию и бороться в рядах инсургентов. В стихотворении 1821 года «Война» освободительная борьба провозглашается источником творческих образов, могучим возбудителем «гордых песнопений».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































