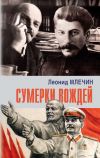Читать книгу "Ленин"
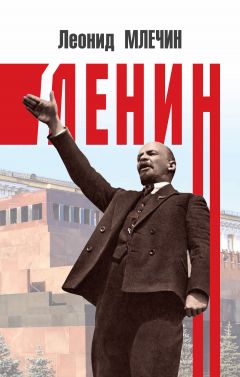
Автор книги: Леонид Млечин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Леонид Млечин
Ленин
Серия «Вожди»
© Млечин Л. М., 2019
© АО «Издательский дом «Аргументы недели», 2019
* * *
От автора
Владимир Ильич Ленин был, без сомнения, самым выдающимся соблазнителем России в XX столетии. Прирожденный политик, он был щедро наделен энергией, страстью, умом. Он всю жизнь посвятил одной цели – взять власть в стране, дождаться мировой революции и построить коммунистическое общество.
Никто не умел так точно оценивать ситуацию, улавливать настроения масс и менять свою политику. Он не стеснялся признаваться сам себе в ошибках, не боялся отступлений и резкой смены курса, иногда – на сто восемьдесят градусов. Вот уж догматиком он точно не был! Как выразился когда-то венгерский философ Дьердь Лукач: «Ленинизм – это приспособление марксизма к решениям очередного пленума ЦК».
Еще одно слагаемое его успеха – невероятная способность Ленина убеждать окружающих в собственной правоте и вербовать союзников. Осенью 1917 года он обещал России именно то, о чем мечтало большинство населения: одним – мир немедленно; другим – землю бесплатно; третьим – порядок и твердую власть вместо хаоса и разрухи, наступивших после Февральской революции. И всем вместе – устройство жизни на началах равенства и справедливости. Сопротивляться притягательной силе этих лозунгов было немыслимо.
Но вот вопрос. Россия не бедна талантами. В 17-м году на политическом поле действовало немало ярких фигур, одаренных государственных деятелей, озабоченных судьбой страны. И эти другие политики тоже понимали, чего именно ждет и требует революционная Россия. Почему же они не опередили Ленина? Сами не предложили русскому народу весной или летом то, что в октябре провозгласит Владимир Ильич, силой свергнув своих предшественников?
Никто из ответственных русских политиков не считал возможным давать совсем уже невыполнимые обещания. Они понимали, что переустройство российской жизни потребует многих лет напряженного труда, будет медленным и трудным. Задачи решаются постепенно, шаг за шагом.
Когда идет война, нельзя просто воткнуть штык в землю и разойтись по домам. Надо заключать мир одновременно с союзниками, вместе с которыми сражались три года против общего врага…
Земельная реформа не то что назрела – перезрела! А на каких принципах перераспределять землю? Отбирать нельзя – это беззаконие! Выкупать? Но на какие средства? И как в ходе реформы не разрушить вполне успешное российское сельское хозяйство?..
Все это требовало серьезного изучения, долгих дискуссий, а окончательный ответ оставался за парламентом – Учредительным собранием, созвать которое в военное время тоже оказалось не таким уж простым делом…
Но никто не хотел ждать! Нетерпение – вот что сжигало души в 17-м году. И Ленин утолил эту жажду, обещав изменить все разом. Не знаю, верил ли он сам, что, отобрав деньги у банкиров, землю – у помещиков, заводы – у фабрикантов и введя вместо рынка план, можно немедленно изменить жизнь и сделать страну счастливой, но других он в этом точно убедил!
Гениальное ленинское искусство соблазнения в том-то и состояло: он обещал то, на что не осмелился никто иной – немедленное решение всех проблем! Его обещания вызвали волну благодарного восхищения. Те, кто пошел за ним, кто почитал его как вождя, вовсе не задумывались: а осуществимо ли все это?
А ведь ничто из того, что он пообещал, не сбылось. Вместо Первой мировой вспыхнула кровавая и еще более жестокая Гражданская война. Землю у крестьян – правда, уже после Ленина – вновь отобрали, загнав всех в колхозы и, по существу, восстановив нечто, напоминающее крепостное право. Ни равенства, ни справедливости советские люди тоже не дождались. Но, когда они стали это осознавать, было уже поздно. Советская система не терпела протестов и бунтов и жестоко карала любое проявление недовольства.
К тому же возник новый соблазн. Две революции, Гражданская война и массовая эмиграция открыли массу вакансий. Режим, установленный большевиками, создал свою систему кадровых лифтов. Классовый подход изменил принципы выдвижения. Право на жизненный успех, на большую карьеру получили те, кто в конкурентной среде едва ли пробился бы. Стало ясно: если ты – часть системы, ты живешь лучше других. У системы появились защитники, кровно заинтересованные в ее сохранении. Но и это лишь часть большого соблазна.
Американский радикально настроенный журналист Джозеф Линкольн Стеффенс, вернувшись из революционной России, произнес слова, ставшие знаменитыми: «Я видел будущее, и оно работает».
Возмущенные всеми несправедливостями мира многие люди видели в ленинских идеях выход из тупика.
«Я вступил в компартию не только потому, что меня спасла Красная Армия, – писал один немецкий писатель. – Я искал убежище, приют и нашел его в этой всемирной общности единомышленников, в универсальной идеологии, обещавшей решить все мировые проблемы. Казалось, что уже виден край земли обетованной. Однако это был лишь мираж, оптический обман».
Но мираж развеялся нескоро. И не для всех. Коммунистическая идея до поры до времени вдохновляла миллионы людей во всем мире. Чему же удивляться, если столько людей в самой России поверили Ленину?
Семнадцатый год и роль Ленина в судьбе России – для меня еще и история моей семьи. Мой дедушка – Владимир Михайлович Млечин – воевал в Гражданскую войну и на фронте вступил в партию большевиков. Очень искренние слова о собственном жизненном выборе я нашел в его записках:
«Я взял в руки винтовку, чтобы воевать за Советскую власть осенью 1917 года в Екатеринославле (ныне – Днепр. – Л.М.). Мне было шестнадцать лет. В Совете преобладали большевики, но в городе полно было офицеров, анархистов и украинских националистов и просто уголовников. Мои старшие друзья были настроены рьяно пробольшевистски. Мы охраняли здание Совета, бывший губернаторский дворец, вели борьбу с анархистами и налетчиками. Особенно я гордился тем, что каждый вечер ходил в ревком за паролем и отзывом. Подозреваю, что поручение это мне дали именно как самому молодому парню с надежной памятью – по росту и почти детскому облику я не годился в правофланговые не только гренадерского полка, но и нашего отряда, где было несколько рослых рабочих, в частности латышей.
У меня было множество случаев завершить тогда свой короткий земной путь. По ночам наши патрули обстреливали. Дважды я чудом избежал пули от анархистов, озверевших после разоружения одного их логова. В одном случае чудо явилось в облике члена Екатеринославского ревкома, опередившего выстрел анархиста. Во втором случае – в девичьем облике родной сестры известного вожака екатеринославских анархистов.
Поздней осенью 1919 года я вступил в Красную Армию, зачислили меня в 15-ю армию. Потом перебросили в 4-ю армию, которая формировалась для Южного фронта.
В детстве и юности, которая у меня совпала с годами революции и Гражданской войной, я лишь дважды испытал подлинное чувство страха. Как-то мы, дети, поздней осенней ночью шли тесной гурьбой по приснопамятному Суражскому тракту в Витебске, широкой дороге с огромными лужами с двух сторон плохо вымощенного шоссе. И вдруг перед нами взвился громадный белый призрак. Какой-то озорник взобрался, думаю теперь, на ходули, напялил простыню и внезапно появился перед детьми, напичканными суевериями и небылицами. Всех объял ужас, дети оцепенели, потом раздались вопль и плач. Но тут подошли отставшие, празднично настроенные взрослые, которые ничего в темноте не заметили, успокоили детишек, маленьких понесли на руках. И через много лет на польском фронте возле Лиды я физически почувствовал, как волосы дыбом встают…
За изъятием этих форс-мажорных эпизодов не вспомню случаев, когда при грозной опасности склонен был к “паникмахерству”, хотя у собственного носа видел мушку махновского нагана, видел направленный на меня ствол бандитской винтовки, а однажды “удостоился” гранаты, брошенной в окно дома, где заночевал.
Что ни говори, изрядно досталось моему поколению. Я был не лучше и не хуже своих сверстников. Жил в полную силу, дышал, что называется, во всю глубину легких, ввязывался в любую драку – кулачную или, позже, идейную, если считал дело справедливым. Недаром еще мальчишкой на льду Двины приобщился я к древнему искусству кулачного боя. Учился я среди сорока сорванцов, сынов угрюмого пригорода. И вырос я на самой что ни на есть “окраинной окраине”, среди детей кожемяк, рабочих кирпичных заводиков да кустарных льнотрепален.
Нравы были суровые, и это закаляло. С младенческих лет я эмпирически постиг истину: полез в драку – не жалей хохла. Ребята не любят драться всерьез. За изодранную рубаху мать даст деру. Вспухнет нос, фонарь засверкает под глазом – товарищи засмеют. И в школе при подобной оказии мог вызвать директор – незабвенный Демьян Михеевич, отличный педагог и умница. А еще хуже было напороться на учителя словесности Голубенко. Он плохо разбирал правого и виноватого, но давал такие затрещины, оплеухи и подзатыльники, так свирепо драл за уши, что попадаться ему на глаза избегали самые оголтелые и бесшабашные мальчишки. У стойкого заднескамеечника и второгодника Маршалковского мочки ушей никогда не заживали…
Четырнадцати лет я уехал из дому в Екатеринослав: там учился жить самостоятельно, там вступил в революцию, в Гражданскую войну. Хватало всякого. Война не игра в бирюльки. Но жил бесстрашно, верил в завтрашний день, в грядущий день. Что значили невзгоды перед лицом мировой революции, в атмосфере энтузиазма и непреклонной силы веры? Вот завтра прогоним Деникина, вот добьем Пилсудского, Врангеля, и начнется царство социализма на земле. Транспорт разрушен, топлива нет? Восстановим Донбасс, наладим железные дороги. Махновщину выжжем огнем. Построим Сталинградский тракторный – расцветет деревня.
Этим мы жили. По утрам жадно смотрели, сколько выдано угля, выплавлено чугуна, добыто нефти. Мы верили, как первые христиане. Конечно, мы не жили, как первые христиане или члены послереволюционных коммун. Понемногу стали обрастать барахлишком, обзаводились дачками, порой бражничали, изрядно грешили против заповеди, касающейся жены ближнего. Но все это было поверхностное, наносное. “Старая ведьма” – собственность – еще не владела помыслами людей.
Слово было словом, дружба – дружбой, порядочность – реальным и действенным понятием. Величайшим пороком считалось лицемерие, иезуитство, макиавеллизм – грехами смертными. Чинопочитание, низкопоклонство, холуйство наказывались общественным презрением. Не было различия между “эллином” и “иудеем”. Нарком получал тот же партмаксимум, что и сотни его подчиненных, а с литературных заработков брали до сорока процентов партийных взносов.
У Маркса, если не ошибаюсь, есть понятие: “смелость невежества”. Я бы еще сказал “смелость невинности”. Ребенок без дрожи зайдет в клетку к самому лютому тигру, протянет ручку погладить злую собаку – он не ведает опасности. Так, детьми, жили и мы, пока не разразилась катастрофа.
Конечно, были признаки тревожные. Но все-таки жили по инерции, жили беззаботно, хотя и напряженно, трудно порой, пока небо не раскололось над собственной головой. И, как часто происходит с людьми, пережившими смертельную опасность, я иными глазами посмотрел на происходящее. И понял не только то, что сам хожу у края пропасти, – я стал постигать, что идеей великой революционной целесообразности прикрываются дела невыносимые, преступные, ужасные.
Когда-то Достоевский больше всего потряс меня изображением детских страданий. Может быть, потому что рос я в условиях отнюдь не легких, помню мать в слезах, когда не было хлеба для ребят. Помню ее маленькую, слабую, с мешком муки – пудик-полтора – за спиной, кошелкой картофеля в одной руке, а в другой – ручка маленькой, едва ли двухлетней сестры, шлепающей по грязи Суражского тракта, помню окружающую нищету, неизмеримо более горькую, чем у нас. Словом, страдания детей – мой пунктик.
Сколько прошло с 1929 года, когда шли раскулачивание и коллективизация… И по сию пору не могу забыть крестьянских ребятишек, которых вместе с жалким скарбом грузили в подводы и вывозили из насиженных мест, порой в дождь, в слякоть, в холод. Я этого видеть не мог…»
Разочарование и болезненное прощание с иллюзиями придет позже. И не ко всем! Не потому ли, что все происходившее в те годы на территории России, по сути, искалечило страну и народ? Многие, впрочем, не заметили ни травм, ни оставленных ими шрамов.
Одна ночь в октябре
«Сижу один, слегка пьян. Вино возвращает мне смелость, муть сладкую сна жизни, чувственность – ощущение запахов и прочее – это так просто, в этом какая-то суть земного существования, – писал Иван Алексеевич Бунин 21 ноября 1917 года в Москве. – Передо мной старая бутылка. Печать, государственный герб. Была Россия!»
«Будущего у России нет, – пометил в дневнике известный историк, профессор Московского университета Юрий Владимирович Готье. – Жить остается только для того, чтобы кормить и хранить семью, – больше нет ничего. Окончательное падение России как великой и единой державы вследствие причин не внешних, а внутренних, не прямо от врагов, а от своих собственных недостатков и пороков – эпизод, имеющий мало аналогий во всемирной истории».
«Мне приснилось: Киев, знакомые и милые лица, – писал сестре 31 декабря 1917 года Михаил Афанасьевич Булгаков. – Приснилось, что играют на пианино… Придет ли старое время? Настоящее таково, что я стараюсь жить, не замечая его… не видеть, не слышать! Я видел, как серые толпы с гиканьем и гнусной руганью бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей. Видел тупые и зверские лица».
Религиозный писатель Василий Васильевич Розанов в рассказе «Любовь» в декабре 1917 года обреченно говорил: «Мой милый, выхода нет! Кто сказал вам, что из всякого положения есть достойный выход?»
«Я местными большевиками зачислен в “контрреволюцию”, – писал из Коломны Борис Андреевич Пильняк 6 января 1918 года, – и новый год встречал в тюрьме, был арестован, и по поводу меня поднимался даже вопрос – не расстрелять ли?..»
Две революции, одна за другой, – и старая жизнь рухнула, развалилась на куски и исчезла. Новая жизнь страшила и пугала. Вместо ожидаемого царства свободы воцарились анархия и хаос.
«В Зимнем дворце огромные винные погреба, – свидетельствовала писательница Лариса Рейснер. – Их замуровали сперва в один кирпич, потом в два кирпича. Не помогает. Каждую ночь где-нибудь пробивают дыру и сосут, вылизывают, вытягивают… Бешеное, голое, наглое сладострастие влечет к запретной стене одну толпу за другой. По ним стреляют, их убивают, как собак, а они на четвереньках, на животе ползут, ползут и ползут».
Когда началась Первая мировая война, император Николай запретил продажу водки. После начала революции солдаты то и дело устраивали пьяные погромы. Если удавалось найти винные склады, их грабили. Упивались до смерти.
«В Новочеркасске, – вспоминал очевидец, – на окраине стояли запасные полки. Они первые поддались разложению. Солдаты образовали свои комитеты, которых сами не слушали… Когда издали приказ о том, что нужно все вино выливать, то перед винными складами лились буквально реки вина. Солдаты тащились за несколько верст, приходили к складам, ложились на живот и пили. Потом ходили по городу и безобразничали».
Сухой закон, то есть запрет на водку (вином и пивом торговали), толкал к наркотикам. «Вот тут-то и появился кокаин, – вспоминал поэт и певец Александр Вертинский. – Продавался он сперва открыто в аптеках, в запечатанных коричневых баночках, по одному грамму. Лучший немецкой фирмы „Марк“ стоил полтинник грамм. Потом его запретили продавать без рецепта, и доставать его становилось все труднее и труднее. Его продавали с рук – нечистый, пополам с зубным порошком, и стоил в десять раз дороже. На гусиное перышко зубочистки набирали щепотку и засовывали глубоко в ноздрю, втягивая порошок, как нюхательный табак.
После первой понюшки на короткое время ваши мозги как бы прояснялись. Вы чувствовали необычайный подъем, ясность мысли, бодрость, смелость, дерзание. Точно огромные крылья вырастали у вашей души. Все было светло, ясно, глубоко, понятно. Жизнь со своей прозой, мелочами, неудачами как бы отодвигалась куда-то, исчезала. Продолжалось это десять минут. Через четверть часа кокаин переставал действовать.
Вы брали вторую понюшку. Она опять подбадривала вас. На несколько минут, но уже меньше. Дальше, всё учащая понюшки, вы доходили до полного отупения. И так и сидели, белый, как смерть, с кроваво-красными губами, кусая их до боли. Острое желание причинить себе самому физическую боль едва не доводило до сумасшествия.
Постепенно кокаин все меньше и меньше возбуждал вас и под конец совсем перестал действовать. Вы ничего не могли есть. Пить кое-что могли: коньяк, водку. Только очень крепкие напитки. Они как бы отрезвляли вас, останавливали действие кокаина, то есть действовали как противоядие. Тут надо было уловить момент, чтобы бросить нюхать и лечь спать. Не всем это удавалось.
Актеры носили в жилетном кармане пузырьки и „заряжались“ перед выходом на сцену. Актрисы носили кокаин в пудреницах.
„Одолжайтесь!“ – по-старинному говорили обычно угощавшие. И я угощался. Сперва – чужим, а потом – своим.
Ни к чему хорошему это привести не могло. Во-первых, кокаин разъедал слизистую оболочку носа, и у многих таких, как мы, носы уже обмякли, и выглядели мы ужасно. Во-вторых, наркотик уже не действовал и не давал ничего, кроме удручающего, безнадежного отчаяния.
Однажды мне сказали: „Твоя сестра умерла. В Москве. В гостинице. Легла в кровать, закрыла двери и приняла сразу несколько граммов кокаина“.
Сколько я ни искал потом эту гостиницу, сколько ни наводил справок, так ничего не знаю – ни где она умерла, ни где ее похоронили».
Кололи морфий, нюхали эфир и кокаин, курили гашиш. Морфием увлекались те, у кого был препарат и шприцы, то есть в первую очередь медицинский персонал. Кокаином торговали проститутки.
«Вот перемены, произошедшие в Петрограде за месяц революции, – вспоминал один из крупнейших социологов России Питирим Александрович Сорокин. – Улицы загажены бумагой, грязью, экскрементами и шелухой семечек подсолнуха. Солдаты и проститутки вызывающе занимаются непотребством. “Товарищ! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Пошли ко мне домой”, – обратилась ко мне раскрашенная девица. Очень оригинальное использование революционного лозунга!»
За несколько дней до революции Леонид Борисович Красин (соратник Ленина и будущий нарком) в письме жене, остававшейся за границей, живописно обрисовал ситуацию в Петрограде:
«Питер поражает грязью и какой-то отрешенностью, запустением. Улицы и тротуары залиты жидкой грязью. Питер имеет вид города если не оставленного жителями, то, во всяком случае, населенного пришельцами, настолько мало заинтересованными в каком-либо благоустройстве, что они не считают нужным делать самого элементарного ремонта.
По погоде настроение у толпы более кислое и злое, чем летом, да и в политике идет какая-то новая анархистско-погромная волна. Испуганные обыватели с трепетом ждут выступления большевиков, но преобладает мнение, что у них ничего не выйдет…»
Солдаты не хотели воевать и бросали винтовку при каждом удобном случае. Заставить их не только продолжать войну, но и хотя бы тащить армейскую лямку было невозможно. Именно поэтому 25 октября 1917 года армия не захотела защищать законное Временное правительство и вполне благожелательно отнеслась к тому, что власть взяли большевики, обещавшие немедленно заключить мир.
25 октября Генеральный штаб и Военное министерство России вели себя так, словно политические баталии их вовсе не касаются. Генералы и офицеры строго соблюдали удивительный для военных людей нейтралитет. Офицеры штаба Петроградского округа и Генерального штаба, узнав о начинающемся восстании большевиков, преспокойно отправились в заранее оборудованное убежище, где провели ночь, выпивая и закусывая.
Утром там появился представитель Военно-революционного комитета большевиков, чтобы составить список офицеров, готовых сотрудничать с новой властью. Генштабисты самодовольно говорили: они без нас не могут обойтись…
Узнав, что большевики свергли Временное правительство, сотрудники многих министерств разбежались или саботировали презираемую ими новую власть.
«Ярким исключением из этого, – с гордостью писал заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Николай Михайлович Потапов, – явилось царское Военное министерство, где работа после Октябрьской революции не прерывалась ни на минуту».
До революции армейские и флотские офицеры не очень интересовались политикой. В дни Февральской революции они поддержали свержение царя, считая, что это неизбежно и этой неизбежности следует подчиниться.
«Октябрьский переворот, – вспоминал последний начальник Петроградского охранного отделения генерал-майор Константин Иванович Глобачев, – произошел легче и безболезненней, чем Февральский. Для меня лично в то время, по существу, было все равно, правит Керенский или Ленин.
Но если рассматривать этот вопрос с точки зрения обывательской, то должен сказать, что на первых порах новый режим принес обывателю значительное облегчение. Это облегчение заключалось прежде всего в том, что возникла некоторая надежда на то, что усиливающийся в течение восьми месяцев правления Временного правительства развал, наконец, так или иначе приостановится. У многих появилась вера, заключавшаяся в том, что новая власть своими решительными действиями против грабителей поставит в более сносные условия жизнь и имущество обывателя».
В ночь на 25 октября 1917 года весь состав ЦК партии большевиков, в том числе Ленин, ночевал в комнате № 14 Смольного дворца прямо на полу. По воспоминаниям Андрея Сергеевича Бубнова, члена Военно-революционного комитета: «Ильич очень торопил с взятием Зимнего и ругался весьма здорово, когда не было сообщений о ходе наступления».
«В 10-й комнате на верхнем этаже шло беспрерывное заседание Военно-революционного комитета, – писал летописец революционных дней американский журналист Джон Рид. – Приходили: Подвойский, худой, бородатый штатский человек, в мозгу которого созревали оперативные планы восстания; Антонов, небритый… шатающийся от бессонницы; Крыленко, коренастый, широколицый солдат с постоянной улыбкой, оживленной жестикуляцией и резкой речью; Дыбенко, огромный бородатый матрос со спокойным лицом. Таковы были люди этой битвы за власть Советов и грядущих битв».
Пока брали Зимний дворец, где находилось Временное правительство, в Смольном институте открылся II съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Это был параллельный Временному правительству орган власти, представлявший левые, социалистические партии. На трибуну вышел председатель Петроградского Совета Лев Давидович Троцкий:
– От имени Военно-революционного комитета объявляю: Временное правительство больше не существует!
Известный художник Юрий Анненков, оставивший замечательные воспоминания «Дневник моих встреч», пишет, что в зале разразилась овация.
– Отдельные министры подвергнуты аресту, – продолжал Троцкий. – Другие будут арестованы в ближайшие часы.
Зал опять зааплодировал.
– Нам говорили, – продолжал Троцкий, – что восстание вызовет погром и потопит революцию в потоках крови. Пока все прошло бескровно. Обыватель мирно спал и не знал, что одна власть сменялась другой.
И тут он увидел, что в зале появился Ленин, и объявил:
– В нашей среде находится Владимир Ильич Ленин, который в силу целого ряда условий не мог до сего времени появиться среди нас… Да здравствует возвратившийся к нам товарищ Ленин!