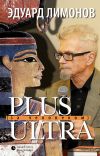Текст книги "Григорий Сковорода"
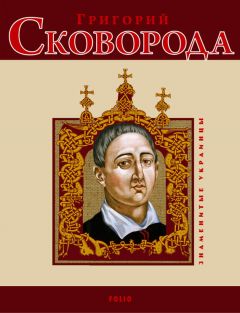
Автор книги: Леонид Ушкалов
Жанр: Религиоведение, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Басни Сковороды – философские. Об этом свидетельствует хотя бы то, что их эпифимий, или, как говорил сам Сковорода, «сила», нередко по объему превосходит собственно фабулу. Особенно это заметно в более поздних произведениях, например, «Пчела и Шершень» или «Соловей, Жаворонок и Дрозд», скорее напоминающих небольшие философские трактаты, нежели собственно басни. Возникает впечатление, Сковороде становится тесно в прокрустовом ложе басни, его мысли уходят куда-то дальше, ломая рамки жанра. В конце концов, и основная тема поисков Сковороды-баснописца тоже философская – «сродность». Большая половина всех «Харьковских басен» посвящена именно ему: «Жаворонки», «Колеса часовые», «Орел и Сорока», «Голова и Тулуб», «Оселка и Нож», «Орел и Черепаха», «Собака и Кобыла», «Пчела и Шершень»…
«Скажи мне, Пчела, – спрашивает Шершень, – отчего ты столь глупа? Знаешь, что трудов твоих плоды не столько для тебя самой, сколько для людей полезны, но тебе часто и вредят, принося вместо награждения смерть, однако не перестаете дурачиться в собирании меда. Много у вас голов, но безмозглые. Видно, что вы без толку влюбилися в мед». «Ты высокий дурак, господин Советник, – отвечала Пчела, – если не можешь понять того, что нам несравненно большая забава собирать мед, нежели кушать. К сему мы рождены и не перестанем, пока умрем».
Пчела олицетворяет здесь мудрого человека, познавшего свою «сродность», то есть запечатленную в каждом сердце частичку Божьего промысла, «врожденное Божие благоволение и тайный Его закон, всю тварь управляющий». То есть мудрым человеком является тот, кто осознал родство между своей душой и тем делом, к которому она стремится (тогда это будет «сродный труд»), или между собой и другим человеком (тогда на свет появляется искренняя дружба). Сковорода любил повторять присказку: «Бог ведет похожее к похожему». Да и прославленный девиз философа «Познай себя!» был, собственно говоря, не чем иным, как призывом согласовывать свои желания с Божьей волей.
Почти все басни Сковороды построены в форме ярких сценок-диалогов. Вот как разворачивается, к примеру, фабула басни «Оленица и Кабан». Где-то в Карпатских горах Оленица встречает Кабана и вежливо здоровается с ним, говоря: «Желаю здравствовать, господин Кабан…». Но Кабан сильно раздражен и оскорблен: «Что ж ты, негодная подлость, столь неучтива! – вскричал, надувшись, Кабан. – Почему ты меня называешь Кабаном? Разве не знаешь, что я пожалован Бараном? В сем имею патент, и что род мой происходит от самых благородных Бобров, а вместо епанчи для характера ношу в публике содраную с овцы кожу.
– Прошу простить, ваше благородие, – сказала Оленица, – я не знала! Мы, простые, судим не по убору и словам, но по делам. Вы, так же как прежде, роете землю и ломаете плетень. Дай Бог вам быть и Конем!» – желает напоследок Оленица, иронично намекая на украинскую пословицу: «Не piвняйсь, свиня, до коня, бо шерсть не така».
Басни Сковороды импонируют своей простотой и одновременно глубокомысленностью, остроумием, ярким колоритом. Весной 1894 года Иван Франко, который был очень взыскательным читателем, писал Агатангелу Крымскому: «Знаете ли вы, что «Харьковские басни» Сковороды в десять раз глубже и лучше рассказаны, чем басни Саади?». А позже Франко скажет, что они «написаны красивой, порой даже грациозной прозой…»
В Гужвинском лесу Сковорода написал и первое свое большое произведение – философский диалог под названием «Наркисс. Разглагол о том: узнай себя». Этот диалог, который Сковорода окрестил своим «первородным сыном», некоторое время спустя историки философии назовут первым памятником оригинальной философской мысли у восточных славян. Вероятно, то, что первое философское произведение Сковороды посвящено именно теме самопознания, – очень символично, поскольку самопознание издавна принято трактовать как одну из наиболее характерных черт украинского пути постижения реальности. По крайней мере, уже в 1869 году гегельянец Климентий Ганкевич в своих «Очерках славянской философии» скажет о том, что для украинца «наивысшей проблемой человеческого мышления… до сих пор все еще остается унаследованный от греков девиз «познай себя». Так или иначе, но Сковорода попытался превратить древнегреческий миф о Нарциссе в философский миф о самопознании.
История Нарцисса известна всем. У речного бога Кефиса и наяды Лариопы был прекрасный сын – Нарцисс. Он был так красив, что когда стал юношей, все девушки и нимфы просто млели от него. Но особенно полюбила Нарцисса нимфа по имени Эхо. Нарцисс тем временем не обращал ни на нее, ни на кого другого ни малейшего внимания. От неразделенной любви Эхо совсем извелась – вскоре от нее остался один только голос. И тогда боги решили покарать Нарцисса за его высокомерие. Богиня мести Немезида сделала так, что он до смерти полюбил самого себя. И когда однажды разгоряченный после охоты Нарцисс наклонился над ручьем, чтобы напиться, он увидел в воде свое отражение и без памяти влюбился в него. Так он и умер от любви к самому себе, а на его могиле вырос прекрасный белый цветок – нарцисс.
Образ Нарцисса, изображенный Овидием в «Метаморфозах», во времена Сковороды был очень популярен. Достаточно вспомнить хотя бы знаменитую оперу Кристофа Виллибальда Глюка «Эхо и Нарцисс», написанную всего через несколько лет после появления диалога Сковороды, или широко распространенные в те времена энциклопедии эмблем. Например, в изданной в 1705 году в Амстердаме книге «Избранные эмблемы и символы», которую Сковорода не раз с удовольствием перелистывал и даже перерисовывал некоторые изображения, есть рисунок «Нарцисс над водой», имеющий следующую подпись: «Познай самого себя. Помни, кто ты есть. "Nosce te ipsum"».
Точно так же трактует этот образ и Сковорода: «Наркиссов образ, – пишет он в начале диалога, – благовестит сие: «Узнай себя!». Будто бы сказал: хочешь ли быть доволен собою и влюбиться в самого себя? Узнай же себя!» Да и в самом деле, продолжает философ, проводя параллель со словами Овидия из его «Науки любви»: «Ignoti nulla cupido» («К неизвестному не тянет»), – «Как бы можно влюбиться в неведомое? Не горит сено, не касаясь огня. Не любит сердце, не видя красоты. Видно, что любовь есть Софиина дочь. Где мудрость узрела, там любовь возгорела». Здесь уже миф о Нарциссе незаметно переходит в русло старой-престарой темы христианского богословия. Вспомним, как еще Ориген учил, что любовь пылает тем сильнее, чем глубже познание. А вот мысль Исаака Сирина: «любовь – это порождение познания». Да и украинские богословы не раз говорили об этом. Например, Мелетий Смотрицкий в своей «Апологии» писал: не может быть так, чтобы кто-то полюбил какую-нибудь вещь до того, как хотя бы немного ее познал.
Диалог Сковороды имеет довольно непростое, но в то же время удивительно гармоничное построение, которое своей грациозностью напоминает столь милые сердцу странствующего философа барочные украинские храмы. Он состоит из двух коротких вступительных разделов («Пролог» и «Чудо, явленное во водах Наркиссу»), семи «разговоров» о самопознании, а именно о «внутреннем человеке», о невидимой природе творения Божьего, о человеке как о мериле всех вещей, о добре и зле, воскресение и его мистическом залоге – Божьей «искре». А завершает его «Симфония, сиречь согласие священных слов», которая, в свою очередь, состоит из вступления, хора и четырех «малых» симфоний. При этом художественное время диалога – это не только время обычное (его действие разворачивается в течение семи дней, от понедельника до воскресения). Сквозь него явно просматривается время символическое («Страстная седьмица» и неделя перед Рождеством), архетипическое (семь дней притчи, которую рассказывает Памва в начале «Симфонии»), и даже литургическое, ведь конечная «Симфония» звучит как настоящая внехрамовая литургия.
Непосредственным продолжением «Нарцисса» стала «Симфония, нареченная Книга Асхань, о познании самого себя», которую Сковорода написал здесь же, в Гужвинском лесу. Только на этот раз философ взял за основу историю, рассказанную в пятнадцатой главе Книги Иисуса Навина. «Дух велел мне, – говорит он в начале, – пусть эта книга наречется "Асхань"». «Асхань – дочь Халева, вошедшего в землю обетованную. Значит, красота». Значение этого имени толкователи Библии связывают со словом «браслет, цепочка на ногах». О красивых браслетах на ногах дочерей Сиона говорил пророк Исайя: «и звенят цепочками на ногах своих», «отнимет Господь красивые цепочки на их ногах…». Возможно, именно под влиянием этих стихов Сковорода и связал имя Асхань со словом «красота». И досталась эта Асхань-«красота» брату Халева Гофониилу в награду за то, что он завоевал город Девир. Асхань – это «Премудрость Божия, сокровенная в глубинах Библии», а всем, кто познал ее, будет она невестой… Снова перед нами, как и в «Нарциссе», – божественная любовь, познание, София-Премудрость, красота… Наконец, и круг персонажей здесь тот же: Друг, Лука, Памва, Клеопа, Филон, Конон и другие. Вот, например, alter ego самого Сковороды – Друг. Глубокий ум, прекрасное образование, тонкое-тонкое ощущение присутствия Божьего в мире… А еще Клеопа говорит о нем Филону, что у него доброе сердце и он никогда не чурается «простаков», то есть обычных хлеборобов, таких, как они сами или Конон. И это чистая правда. Даже более того: как свидетельствовал Михаил Ковалинский, наш философ «неохотно входил в беседу с незнакомыми» только тогда, когда это не были простые люди. Правда, Филон поначалу в это не очень верил. «Я знаю многих ученых, – говорит он. – Они горды. Не хотят и говорить с поселянином». Но совсем скоро он изменит свое мнение и станет со вниманием прислушиваться к словам Друга. Поначалу он только молча слушает, а потом и сам вступает в разговор. «Ах, Конон! – восклицает он. – Нам бы молчать надобно и слушать. Но за тобою и я не умолчал. Нас, простаков, называют скотинами. Но дал бы Бог, чтоб мы немного пороков имели! По крайней мере, будем беззлобны».
О каких же философских вопросах говорили персонажи и этих, и других произведений Сковороды? Прежде всего о «двух натурах» всего сущего: видимой и невидимой. На манер Платона и неоплатоников философ определял «невидимую натуру» как то, что является «в дереве истинным деревом, в траве травою, в музыке музыкою, в доме домом…». Одним словом, это Бог. В свою очередь, «видимая натура», то есть материя, – не что иное, как тень натуры невидимой. «Вся исполняющее начало, – говорит Сковорода в трактате «Силен Алкивиада», – и мир сей, находясь тенью его, границ не имеет. Он всегда и везде при своем начале, как тень при яблоне. В том только разнь, что древо жизни стоит и пребывает, а тень умаляется; то преходит, то родится, то ищезает и есть ничто». И каким-то непостижимым для понимания образом видимое и невидимое существует в любой вещи. Это точно так же непостижимо, как единство человеческой и Божьей природы в Христе. Недаром же Сковорода не раз пытался описать способ единения в вещах видимого и невидимого с помощью парадоксальных терминов христологического догмата: в каждой вещи, говорит он, видимое и невидимое живет «нераздельно и неслитно».
В русле платонизма Сковорода трактует и вопрос о красоте. По его мнению, прекрасное – это идеи вещей, тогда как уродливое – следствие утраты идеями тождественности себе, то есть следствие их отображения в переменчивой материи. Например, картина, написанная художником, состоит из невидимого рисунка и видимой краски. «Краска, – говорит Сковорода, – не иное что, как порох и пустошь: рисунок или пропорция и размещение красок – то сила». Философ может определять источник красоты также с помощью понятий «мера» или «ритм». У музыкантов, отмечал он, «мера в движении пения именуется темпо… темпо в движении планет, часовых машин и музыкального пения есть то же, что в красках рисунок». Таким образом, красота походит от божественной природы, а создаваемое человеком искусство способно лишь придавать блеск творенью Божьему. «Идея вещи, – писал мыслитель в басне «Собака и Кобыла», – есть то главное, что называется по-гречески «τό πρέπον», сиречь… красота, и не зависит от науки, но наука от него». Вслед за Платоном Сковорода говорил также о мистическом единстве правды, добра и красоты.
Но о чем бы ни говорил Сковорода: о том, что такое бытие, что такое красота, что такое познание природы вещей, – его мысли все время вращались вокруг человека, точнее, вокруг собственного «Я», поскольку невозможно ничего познать, не познав сначала самого себя. Девиз «Познай себя!» – основа основ мировоззрения Сковороды. Недаром его уже давно и вполне заслуженно окрестили «философом самопознания». Овеянная «мистическим ореолом», эта идея, как говорила когда-то Александра Ефименко, обретает в произведениях нашего писателя силу волшебного ключа ко всем тайнам всего сущего. Следует подчеркнуть, что, выставляя идею «Познай себя» краеугольным камнем своих взглядов, Сковорода вновь подтверждает, что он – дитя доброй старой Украины, где самопознание всегда было «царской дорогой» человека к Богу: достаточно вспомнить хотя бы «Диоптру» Виталия Дубенского, «Огородок Марии Богородицы» Антония Радивиловского, «Вечерю духовную» Симеона Полоцкого, «Руно орошенное» Димитрия Туптала или «Алфавит» Иоанна Максимовича.
Вместе с тем, кто силится познать безмерность «Коперниковых миров», ни разу не заглянув в собственную душу, похож на старого мудреца Фалеса, который, засмотревшись на звезды, не заметил под ногами ямы и свалился в нее, а какая-то женщина, ставшая свидетелем этого забавного происшествия, иронично спросила:
Как ты, не видя перед носом рова,
Можешь знать звезды, главо безтолкова?
Одним словом, Сковороду мало интересует философия природы, теория бытия или познания – он стремится постичь естество человека, то, что называет «внутренним человеком», спрятанным во внешнем так же, как идея в материи. «Стань же, будь так добр, на ровном месте, – говорит один из персонажей «Разглагола о древнем мире», – и вели поставить вокруг себя сотню зеркал венцом. В то время увидишь, что один твой телесный болван владеет сотнею видов, от единого его зависящих. А как только отнять зеркала, вдруг все копии скрываются во своей исконности, или оригинале, будто ветви в зерне своем. Однако же телесный наш болван и сам есть единая только тень истинного человека. Сия тварь, будто обезьяна, образует лицевидным деянием невидимую и присносущую силу и божество того человека, которого все наши болваны суть, как бы зерцаловидные тени, то являющиеся, то исчезающие при том, как истина Господня стоит неподвижна вовеки, утвердившая адамантово свое лицо, вмещающее бесчисленный песок наших теней…»
Этот «внутренний человек» совсем не похож на внешнего, а его воплощение – не что иное, как «второе рождение», «преображение» или «воскресение». «Внутреннему человеку» Сковорода придает божественные черты. В итоге, это есть Христос, в котором все люди целостны и тождественны, точно так же как целостно и тождественно Тело Христово в целой гостии и в каждой отдельной ее частице. Это похоже на то, как лицо человека видно целиком в зеркале, а когда зеркало разлетается на осколки, то в каждом отдельном его осколке все равно будет отражаться целиком человеческое лицо.
Говоря о «внутреннем человеке», Сковорода раз за разом употребляет понятие «сердце», с помощью которого пытается описать «невидимую природу» психической и духовной жизни. Слово «сердце» всплывает в его произведениях более тысячи раз – вдвое чаще, чем, например, упоминания Христа. Сердце, как отмечал Дмитрий Чижевский, является для Сковороды «корнем всей жизни человека, высшей силой, стоящей за границами и души, и духа, – путь к "истинному человеку"» ведет через "преображение души в дух, а духа – в сердце"». Его можно трактовать и как мысль, и как что-то похожее на область подсознания Фрейда, и как светлейшую высь, и как темнейшую пропасть. В свое время русский философ Серебряного века Владимир Эрн справедливо утверждал, что наука о человеке у Сковороды – это «настоящий синтез между конкретным индивидуализмом Библии, в которой личность человеческая занимает первостепенное место, и несколько отвлеченным универсализмом Платона. Метафизические свойства платоновской идеи – вечность, божественность, неизменность, красоту и благость – Сковорода переносит на неповторимую личность человека, взятую в ее умопостигаемой глубине…».
Наряду с идеей двух натур, Сковорода очень часто упоминает «три мира»: большой, малый и символический. Например, в начале диалога «Потоп змиин» философ пишет: «Суть же три мира. Первый есть всеобщий и мир обительный, где все рожденное обитает. Сей составлен из бесчисленных мир-миров и есть великий мир. Другие два суть частные и малые миры. Первый – микрокосм, сиречь мирик, мирок, или человек. Второй мир символический, сиречь Библия. В обительном коем-либо мире солнце есть око его, и око сие есть солнце. А как солнце есть глава мира, тогда не дивно, что человек назван микрокосм, сиречь маленький мир. А Библия есть символический мир, затем что в ней собраны небесных, земных и преисподних тварей фигуры, дабы они были монументами, ведущими мысль нашу в понятие вечной натуры, утаенной в тленной так, как рисунок в красках своих».
Суть этой мысли, идущей еще от Филона и Климента Александрийского, заключается вот в чем: Бог объявил себя в (1) природе, (2) человеке и (3) Священном Писании, – то есть природа, человеческое сердце и Библия являются тремя «книгами-мирами», читая которые человек способен познать сущность вещей.
Куда ни брось взгляд, вселенная гармонична и прекрасна – длань Бога Творца заметна в каждой песчинке, былинке, букашке… Тот, кто не видит этой Божьей длани, а говорит, что все на свете возникло будто бы само собой, вследствие случайного сочетания атомов, – просто безумец. Ведь это то же самое, что и, подкинув вверх груду отдельных букв, надеяться, что они упадут на землю текстом «Илиады» Гомера. Точно так же и сердце человека. Зачем искать Бога неизвестно где, когда он в каждом из нас? Сковорода любил повторять слова Евангелия от святого Иоанна: «…но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете». И наконец – «символический мир Библии» – книги, которая является «альфой» и «омегой», началом и концом всего учения Сковороды.
Библия – это книга книг. Вспомним, например, как прославленный киевский ритор XVII столетия Антоний Радивиловский говорил, что Библия – это та единственная книга, которую Господь взял со своей небесной библиотеки и собственноручно отдал людям, чтобы они знали, что им делать в этом мире. Но Сковорода мыслит куда сложнее. Для него Библия – не больше и не меньше, как сам христианский Бог. Вспомним начало Евангелия от святого Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него на́чало быть и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Значит, Бог являет свое естество сначала в слове и через слово же ведет все сотворенное Им назад к самому себе. А если это так, размышляет Сковорода, то между морфологией бытия и морфологией Божьего слова существуют какие-то фундаментальные параллели, и когда ты постигнешь смысл Священного Писания, ты одновременно постигнешь природу всех вещей. Итак, способ мышления нашего философа, как писала известная немецкая славистка Элизабет фон Эрдманн, основывается на «устойчивом трансфере между текстом и жизнью. Текст [Библии] и правила его понимания превращаются в модель жизни и мира, а жизнь и мир постоянно перетекают в этот текст». Именно поэтому все творчество Сковороды – это один большой комментарий к Священному Писанию, попытка разгадать тайный смысл библейских образов-символов. Отсюда же и бесчисленное число цитат, парафраз, аллюзий и реминисценций из Священного Писания, которыми пестрят страницы произведений Сковороды. Нередко Сковорода превращает Библию в едва ли не единственную материю мышления, то есть начинает «думать Библией». Читатель, не привыкший к такой манере философствования, будет просто в отчаянии. Недаром неокантианец Густав Шпет писал когда-то, что Сковорода имеет привычку до изнеможения засыпать глаза своего читателя «библейским песком».
И действительно, только в двух диалогах, написанных Сковородой в Гужвинском лесу, – «Наркисс» и «Асхань», имеется почти полторы тысячи «библейских песчинок», то есть в среднем по четырнадцать на одну страницу современной печати. А в целом в произведениях Сковороды их около семи тысяч. Практически все они взяты из так называемой Елизаветинской, или Синодальной, Библии, печатавшейся в 1751-м и 1758 годах. Лишь несколько раз философ пробовал переводить Библию сам, как, например, в диалоге «Беседа, нареченная двое», где он приводит собственную версию одного стиха из Первого послания святого апостола Павла к солунянам: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Очевидно, синодальный перевод этого стиха («Вся же искушающе, добрая держите») чем-то не устроил Сковороду. Из этого следует, что «символический мир» Сковороды – это прежде всего церковнославянская Библия. Именно ее философ сделал «ключом понимания» реальности. Конечно же, он прекрасно знал и латинскую Библию – Вульгату. Например, в диалоге «Потоп змиин» Душа, имея в виду фразу из Книги Исход «столпом облачным», спрашивает: «Для чего же в римской Библии читают 'in columna nubis', сиречь «в столпе облачном», а не читают 'in turri nubis'?» А Дух отвечает на это: «Преткнулся толковник». Но в любом случае, к Вульгате Сковорода обращался редко. То же самое касается и греческой Библии – Септуагинты, а в еще большей степени – упоминавшейся иногда «еврейской Библии». Когда-то давно, а именно в 1817 году, Густав Гесс де Кальве в своих воспоминаниях о Сковороде писал, что философ всегда носил в своей дорожной сумке «еврейскую Библию». Затем эту легенду повторяли и другие, а еще чаще говорили, что Сковорода носил с собой Библию славянскую. На самом же деле ничего такого не было. Имеющиеся в произведениях Сковороды пояснения еврейских слов и фраз могли быть взяты или из специального приложения к той же Елизаветинской Библии, или из словарей (философ пользовался ими даже во время своих путешествий степями Слобожанщины). Не носил он, конечно же, и Елизаветинской Библии, которую цитировал тысячи раз, – слишком уж тяжелым был этот фолиант, чтобы быть спутником в далеких странствиях. Эту книгу он мог читать, когда останавливался в монастырях, у знакомых священников и еще где-либо. Но вполне очевидно, что, выстраивая свои любимые «симфонические» вереницы библейских фраз, которые, как когда-то писал Измаил Срезневский, такие непонятные, но при этом такие прекрасные, когда их постигнешь, Сковорода полагался на собственную память. Не случайно почти половина приведенных им цитат из Библии в той или иной степени не точны, а то и просто пересказаны. Размышляя о природе вещей, философ обращался почти ко всем книгам библейского канона, но чаще всего – к псалмам Давида. Псалмы, которые он хорошо знал еще с детства, он цитирует примерно тысячу триста раз. Поэтому, когда Арсений Тарковский назвал Сковороду «государем Псалтыри», он не погрешил против истины. Да и вообще, тексты Ветхого Завета упоминаются в произведениях философа гораздо чаще, чем новозаветные. Такую особенность «сковородиновской Библии», наверное, можно объяснить прежде всего символической манерой мышления и письма нашего философа – Ветхий Завет, ясное дело, куда более предрасположен к символическому истолкованию, нежели евангельская история…
Из Гужвинского леса Сковорода наведывался в Харьков, бывал в Бабаях в гостях у своего ученика Якова Правицкого, а также у местного помещика Петра Щербинина. Но, видимо, чаще всего он посещал Розальйон-Сошальских, славившихся своим гостеприимством. Говорят, что возле села Бугаевка, где располагалось одно из их имений, на дороге стоял столб с надписью: «Люди добрые, все, кто едете, заходите к нам в гости». Самый младший из братьев Сошальских – Алексей Юрьевич – прекрасно образованный человек и к тому же предпочитавший одиночество, как и наш философ, будучи однажды в Бабаях, пригласил его к себе на Купянщину, в село Гусинка. И вот, с начала 1770 года Сковорода живет уже в Гусинке, которая с тех пор станет одним из его любимейших пристанищ. Здесь, в Гусинке, у Сошальских был большой дом, стоявший на берегу реки посреди красивейшей липовой рощи, хотя, когда на дворе стояла весна или лето, Сковорода предпочитал помещичьей усадьбе пасеку, находившуюся неподалеку в Черном лесу. Отсюда, в мае того же года, вместе с Алексеем Розальйон-Сошальским, Сковорода ездил в Киев. Здесь он три месяца провел в Китаевской пустыни, где его радушно принял Иустин Звиряка. Философ жил здесь как у Христа за пазухой: уютная келья, дружеские споры с отцом Иустином о том, как следует понимать Бибилю, прекрасная природа… Наверное, это было похоже на картину, изображенную Павлом Тычиной в его симфонии «Сковорода»:
…Три мiсяцi пробiгло,
мов кораблi вeceлi в мopi —
всiма цвiтами процвiтанi,
добрим скарбом переповненi.
Три мiсяцi – пустинь Китаïвська i в нiй Сковорода
немов пливли —
помiж садами рожаïстими,
серед криничного узлiсся,
на полi повному, де хвиля хвилю ллє i зупинятися не хоче…
Уранцi,
ще тiльки небо почне наливаться
i вiтер зелений одчалить в далечiнь, —
уже Сковорода
встає з досвiтньоï молитви
i в сад iде.
Там птицi ранок опадуть,
клюють-клюють, не доклюються
i солодко спiвають, сон розказують.
А сонце скрiзь у вci кiнцi,
мов над главою Моïсея,
послало сяючiï роги, —
i дзвонить, i гуде,
i свiтом землю наповняє
щедро, щедротно.
Сковорода
на землю упаде,
цiлує квiти, трави гладить,
росою очi, мов незрячi, протирає —
о Господи, як Ти всього мене наповнив
щедро, щедротно!
Пошли ж душi моïй спокíй,
i мир, i злагоду, й любов,
я бiльш нiчого не бажаю,
о Всеблаженний!
I Всеблаженний знову десь почує,
i Сковopодi
такий мир у серце ввiйде,
що вiн вiд радостi i бiгaє, i плаче,
i кожне дерево вiтає,
метелику й комашцi дякує —
за все, за все!
Однако нежданно-негаданно в душе его поселилась тревога и беспокойство, словно чей-то тихий-тихий голос говорил ему: «Покинь поскорее эту гостеприимную обитель». А когда однажды, гуляя по Подолу, Сковорода вдруг словно ощутил в воздухе трупный смрад, он тотчас засобирался в дорогу. Как ни уговаривали его остаться и отец Иустин, и его киевские приятели, он уже на следующий день отправился на Слобожанщину. Через две недели философ остановился передохнуть в Троицком монастыре, что в четырех верстах от Ахтырки. И здесь до него дошло известие, что в Киеве начался страшный мор, ставший полной неожиданностью, и что теперь город закрыт. Это известие поразило Сковороду, как удар молнии. Теперь он уже твердо знал, что Господь его не забывает. Позже сам философ рассказывал об этом так: «Имея разженные мысли и чувствия души моей благоговением и благодарностию к Богу, встав рано, пошел я в сад прогуляться. Первое ощущение, которое осязал я сердцем моим, была некая развязанность, свобода, бодрость, надежда с исполнением. Введя в сие расположение духа всю волю и все желания мои, почувствовал я внутрь себя чрезвычайное движение, которое преисполняло меня силы непонятной. Мгновенно излияние некое сладчайшее наполнило душу мою, от которого вся внутренняя моя возгорелась огнем, и казалось, что в жилах моих пламенное течение кругообращалось. Я начал не ходить, но бегать, аки бы носим некиим восхищением, не чувствуя в себе ни рук, ни ног, но будто бы весь я состоял из огненного состава, носимого в пространстве кругобытия. Весь мир изчез предо мною; одно чувствие любви, благонадежности, спокойствия, вечности оживляло существование мое. Слезы полились из очей моих ручеями и разлили некую умиленную гармонию во весь состав мой. Я проник в себя, ощутил аки сыновнее любви уверение и с того часа посвятил себя на сыновнее повиновение Духу Божию». Философ понял, что до сего времени его сердце почитало Бога по-рабски, а теперь полюбило Его, как самого лучшего друга.
Пожив какое-то время в Троицком монастыре, Сковорода снова вернулся в милую его сердцу Гусинку, а в 1771–1772 годах принял дружеское приглашение бывшего острогожского и харьковского полковника Степана Тевяшова и поселился в Острогожске и в слободе Таволжской. Здесь, на берегах Тихой Сосны, «чистые музы» были к нему особенно благосклонны – за относительно небольшое время он сумел написать сразу шесть философских диалогов: «Беседа первая», «Беседа вторая», «Разглагол о древнем мире», «Разговор пяти путников об истинном счастии в жизни», «Кольцо», «Алфавит, или Букварь мира» – ровно четверть из написанного им за всю жизнь. Персонажами этих диалогов философ сделал и самого себя, и своих тамошних приятелей, в частности коллежского регистратора Афанасия Панкова и художника Якова Долганского. Собственно говоря, диалоги Сковороды – это не что иное, как одетые в яркое барочное убранство реальные беседы философа со своими друзьями. В этих диалогах есть все: и напряженное течение мысли, ибо в них разворачивается настоящая драма идей, и яркие характеры персонажей, и игривые сценки-интермедии, и бытовой и психологический колорит. Эти диалоги можно легко ставить на сцене, так же как когда-то ставили в Риме «сократовские» диалоги великого Платона.
Наверное, самым ярким из острогожских диалогов Сковороды является «Алфавит, или Букварь мира». Недаром же на своем самом известном портрете философ держит в руках книгу под названием «Алфавит мира». Именно в этом произведении он подробнейшим образом проанализировал свой парадокс «неравного равенства», изобразив человека в образе «сосуда», наполненного божественным бытием. «Бог, – говорит Сковорода, – богатому подобен фонтану, наполняющему различные сосуды по их вместимости. Над фонтаном надпись сия: «Неравное всем равенство». Льются из разных трубок разные струи в разные сосуды, вкруг фонтана стоящие. Меньший сосуд менее имеет, но в том равен есть большему, что равно есть полный». Таким образом, в противовес популярному просветительскому лозунгу: «Все люди равны», Сковорода утверждает: «Все люди разные». Это и есть та бездонная метафизическая пропасть, пролегающая между безбожным просветительским ratio и сковородиновским логосом. «И что глупее, как равное равенство, которое глупцы в мир ввести зря покушаются?» – риторически вопрошает Сковорода, имея в виду идеи просветителей. Наш философ, без сомнения, хорошо их знал: достаточно сказать, что в Харьковском коллегиуме стилистикой французского языка овладевали по произведениям Вольтера и Руссо. Впрочем, это кардинальное различие хорошо заметно не только в том, что касается идей, – оно не менее четко прослеживается и на уровне стиля. Сковорода словно чурается господствовавшего в европейской литературе XVIII столетия стиля, взлелеянного на принципах ясности, простоты и прозрачности. Он, как писал Николай Сумцов, был «гораздо крепче в выражениях, более красочен в примерах, с необычайной глубиной чувства, особенно уверенный и твердый в убеждениях, из-за чего его сочинения похожи на яркие искры, высекаемые твердой сталью». Не случайно людям, воспитанным на трудах французских просветителей, стиль Сковороды казался чуждым. Например, Иван Вернет говорил: его духовная музыка мне нравится, а вот то, что он писал стихами или прозой, я не воспринимаю: «не перенося загадочного стиля и запутанных мыслей господ мистиков, я не люблю блуждать мрачными лабиринтами метафизики, поскольку издавна привык к ясному и прекрасному стилю Сен-Пьера и к простым понятным размышлениям Локка и Кондильяка».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.