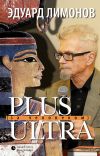Текст книги "Григорий Сковорода"
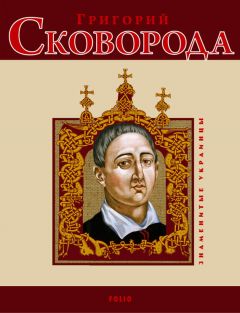
Автор книги: Леонид Ушкалов
Жанр: Религиоведение, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Леонид Ушкалов
Григорий Сковорода
Мир ловил меня, но не поймал.
Григорий Сковорода
Эта книга – об одном из крупнейших и самых загадочных христианских философов мира. Когда-то давно выдающийся украинский мыслитель Дмитрий Чижевский, тот самый, которого Ганс Георг Гадамер не без основания сравнивал с Лейбницем, писал: «Наверное, ни об одном философе в мире не высказано таких противоположных мнений, как о Сковороде. Сейчас существует не менее 250 больших и малых трудов, посвященных Сковороде, который – как это общепризнано – является наиболее интересной фигурой истории украинского духа. В этих трудах – можно сказать без преувеличения – нашли свое отображение, наверное, не менее 250 разных взглядов на Сковороду…». Так начинает Чижевский в 1933 году свою знаменитую книгу «Философия Г. С. Сковороды». Сегодня же трудно просто перечислить, сколько этих «больших и малых трудов», посвященных Сковороде, появилось повсюду: в Украине, Австрии, Австралии, Англии, Армении, Бразилии, Венгрии, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канаде, Молдове, Польше, России, Румынии, Сербии, Словакии, США, Франции, Чехии… Можно лишь однозначно утверждать: количество посвященных Сковороде работ уже давно перевалило за пять тысяч. И в этих работах – масса различных наблюдений, суждений, толкований… Григорий Сковорода волнует умы своей глубиной и непостижимостью.
Представим себе тихое теплое лето. Вечереет. Усадьба великого писателя и моралиста графа Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне утопает в роскошной зелени. А сам хозяин сидит в своем рабочем кабинете за столом. Он внимательно читает солидный том – харьковское издание произведений Сковороды 1894 года (эта книга и сейчас хранится в фондах личной библиотеки Толстого). Украинский философ поразил его. И когда спустя некоторое время кто-то из друзей Толстого упомянул в беседе Сковороду, тот сразу же оживился. «Ах, Вы знаете Сковороду! – радостно воскликнул граф. – А какое удивительное лицо!» И немного помолчав, добавил с той нежностью в голосе, с которой говорят о родном человеке: «Многое из его мировоззрения мне так удивительно близко! Я недавно только что еще раз перечитал его. Мне хочется о нем написать. И я это сделаю. Его жизнеописание, возможно, еще лучше, чем его произведения. Но как хороши и произведения!»
Рассказ о Сковороде Лев Толстой действительно написал. И в этом рассказе есть примечательная фраза: «Сковорода учил, что святость жизни только в делах». Говорят, что когда осенью 1910 года, перед самой смертью, Толстой якобы ни с того ни с сего надумал бежать куда глаза глядят из Ясной Поляны, то этот просто-таки отчаянный шаг был не чем иным, как следованием «уходу от мира» Григория Сковороды. Единственное, в чем было отличие, – граф Толстой ушел от мира, чтобы умереть, а Сковорода отрекся от мира в расцвете сил, чтобы жить…
А вскоре после того как не стало Толстого, в степном украинском Елисаветграде шести– или семилетний Арсений Тарковский, наверное, лежа в постели (мальчик был очень болезненным), впервые в жизни слушал стихи и басни Сковороды, которые читал ему доктор, давний приятель отца и горячий поклонник странствующего философа Афанасий Михалевич. Подаренные Михалевичем произведения Сковороды (едва ли не первая собственная книга Арсения Тарковского, то самое харьковское издание, которое было и у Толстого) поэт будет перечитывать всю жизнь, чтобы уже в преклонном возрасте написать несравненный по глубине и изысканности поэтический образок «Григорий Сковорода»:
Не искал ни жилища, ни пищи,
В ссоре с кривдой и с миром не в мире,
Самый косноязычный и нищий
Изо всех государей Псалтыри.
Жил в сродстве горделивый смиренник
С древней книгою книг, ибо это
Правдолюбия истинный ценник
И душа сотворенного света…
Это уже классические сюжеты. А вот и наше время. Конец июня 2001 года. Златоверхий Киев. Папа Римский Иоанн Павел II выступает в Мариинском дворце. Выдающийся церковный деятель, роль которого в новейшей мировой истории трудно переоценить, а кроме того, еще и блестящий богослов, философ, поэт и полиглот, Иоанн Павел II говорит о христианских корнях нашей тысячелетней духовной традиции. «Дорогие украинцы, – произносит понтифик, – именно христианство дало вдохновение вашим выдающимся деятелям культуры и искусства, оно щедро оросило моральные, духовные и общественные корни вашей страны». А далее Иоанн Павел II цитирует всего две строки из стихотворения Григория Сковороды на латыни. Но что это за строки! На волнах их грациозного ритма – и щемящее ощущения бренности бытия, и чистые, как роса, вера и надежда, и любовь как присутствие Бога в мире:
«Только человек, глубоко проникшийся христианским духом, мог иметь такое вдохновение, – продолжает Папа. – В его словах мы находим отголоски Первого послания святого апостола Иоанна: «Бог есть любовь, и кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге, а Бог пребывает в нем».
А еще спустя два года после этого выступления в Киев приехал один из популярнейших писателей современности Паоло Коэльо. Этот харизматичный для многих автор, герои которого постоянно стараются словно заглянуть за кулисы земного театра, в интервью изданию «Академия» попытался изложить свои собственные взгляды на жизнь и будто между прочим заметил: «Я знаю, что в Украине 280 лет тому назад родился великий философ и поэт Григорий Сковорода, который отстаивал первенство духа. Мне кажется, что он, может быть, как никто другой в Европе, сумел придерживаться в жизни знаков судьбы… У Сковороды есть также один важный постулат: "Бог сделал трудное ненужным, а нужное – легким"». Именно поэтому, сказал автор «Алхимика», вопреки своей отнюдь не гармоничной эпохе Сковорода смог достичь «незаурядной внутренней гармонии с судьбой».
Даже эти крупицы эпизодов из жизни таких непохожих друг на друга, но, безусловно, незаурядных людей красноречиво свидетельствуют о немалом значении философии и поэзии Сковороды в истории мировой культуры.
Что уж тогда говорить об украинской традиции! Украину трех последних столетий просто невозможно представить без Сковороды. Еще в середине XIX века наш выдающийся историк Николай Костомаров писал: мало кого народ так почитает и помнит, как Сковороду. На всем просторе от Острогожска до Киева во многих домах есть его портреты, каждый образованный украинец знает о нем; его имя известно и многим неграмотным людям. А еще раньше, в 1831 году, воспитанник Харьковского коллегиума, сенатор, писатель и мистик Федор Лубяновский на какой-то почтовой станции спросил у старого слободского крестьянина, помнят ли люди про Сковороду. «Сковорода был человек разумный и добрый, – ответил на это старик, – учил и нас добру, страху Божиему и упованию на милосердие распятого за грехи наши Христа…»
Да и наша литературная традиция в поисках собственной идентичности снова и снова обращалась к миру сковородиновских идей и образов. Уже родоначальник новой украинской литературы Иван Котляревский смотрел на жизнь «оком сковородинца». По крайней мере, когда в финале знаменитой «Наталки Полтавки» пан Возный по фамилии Тетерваковский (тот самый, который в первом действии пел песню «Всякому городу нрав и права») все-таки не стал делать зла, вспомнив, что он "от рожденiя… расположен к добрим дiлам", а Мыкола и Выборный хвалят полтавчан за их добродетель, на ум сразу же приходит притча Сковороды «Убогий Жаворонок»: и легкомысленный тетерев Фридрик, и мудрый жаворонок Сабаш, и образ Украины как последнего отблеска того «золотого века», когда люди уважали правду по собственной воле, а не по принуждению… Одним словом, основная идея «Наталки Полтавки» – «сродность» украинцев к добру и их «несродность» ко злу – прямо вытекает из философии Сковороды.
Писателем-«сковородинцем» был и Григорий Квитка-Основьяненко. Говорят, Квитка любил рассказывать о своем знакомстве со Сковородой, о каких-то подробностях жизни философа и о его взглядах на мир. Неудивительно, что между философией Сковороды и мировоззрением Квитки можно провести немало красноречивых параллелей. Но, наверное, наиболее выразительно «сковородинство» Квитки-Основьяненко просматривается там, где речь заходит о Божьем промысле и «сродности» человека: «Не одинаковы звездочки на небесах, не одинакова и деревня по садам, – говорит героиня повести «Вот любовь» Галочка. – Не будет вишенка цвести яблоневым цветом, ей положен свой цвет. Не примет березонька липового листочка. Не выберет соловейко самочки не из своего рода. Всему свой закон, а человеку – еще и более того». Галочка, словно послушная ученица Сковороды, говорит здесь о Божьей «экономии», то есть о непостижимом для человеческого понимания премудром устройстве мира. Характерный для учения Сковороды христианский платонизм, который превращает весь мир в нечто вроде божественного театра марионеток, где смех и слезы являются непременными составляющими космического равновесия и гармонии, раскрывает и глубинную сущность трагедии героини Квитки. Галочка – лишь игрушка в руках всесильной судьбы. Выходит так, что эта девушка и родилась только для того, чтобы умереть от любви. Это действительно трагедийный образ, поскольку источник трагедии скрыт не в ней, не в ее собственных ошибках или пристрастиях, он – в причудливых лабиринтах Божьего промысла. И Галочка целиком полагается на волю Творца. Она воспринимает мир таким, каким он есть. «Философия Квитки, – сказал однажды Василий Бойко, – это философия колыбельной песни, чтобы спало дитя без грусти и забот». Но одновременно – это и философия жизни Сковороды, ведь тот, по словам его любимого ученика и первого биографа Михаила Ковалинского, «поверг себя в волю Творца…, дабы промысл Его располагал им, как орудием своим, где хочет и как хочет».
Сковородиновские набожные песни знал и гениальный поэт и художник Тарас Шевченко. Вспоминая о своем детстве, Кобзарь писал:
Давно те дiялось. Ще в школi,
Таки в учителя-дяка,
Гарненько вкраду п'ятака —
Бо я було трохи не голе,
Таке убоге – та й куплю
Паперу аркуш. I зроблю
Маленьку книжечку. Хрестами
I вiзерунками з квiтками
Кругом листочки обведу
Та й списую Сковороду…
Поэтому вряд ли случайно довольно мрачное философское начало шевченковской комедии «Сон» – того самого произведения, которое сыграло фатальную роль в жизни поэта, звучит как отзвук знаменитого сковородиновского псалма «Всякому городу нрав и права»:
У всякого своя доля
I свiй шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край свiта зазирає…
Уже на переломе XIX и XX столетий Иван Франко, говоря о близких его сердцу писателях, тех, которые умеют по-настоящему «любить и ненавидеть, сходить с ума и бороться, плакать и смеяться», вспоминает Сковороду и, в общем, высоко его ценит. «Григорий Сковорода, – говорит он, – явление весьма заметное в истории развития украинского народа, может быть, самое заметное из всех духовных деятелей наших XVIII века». Еще больший вес имел Сковорода в то время для модернистов. Недаром же один из ведущих теоретиков украинского модернизма Андрей Товкачевский, рассматривая жизнь и философию Сковороды сквозь призму ницшеанских идеалов, с восторгом пишет: природа создала Сковороду, наверное, только для того, чтобы удостовериться в собственной способности «творить не только никчемных фигляров, но и богов». Но настоящим символом нашей духовной культуры с давних пор до сегодняшнего дня Сковорода станет во времена украинского Ренессанса 1920-х годов. Именно тогда Павло Тычина посвящает ему сборник «Вместо сонетов и октав» и начинает работу над поэмой-симфонией «Сковорода», которая по грандиозности замысла должна была стать «украинским «Фаустом»» XX столетия, Гнат Хоткевич ищет в учении Сковороды экзистенциальное убежище, герой рассказа Сергея Пилипенко «Ледолом» утверждает идею свободы словами Сковороды «Весь мир спит…», Мыкола Хвылевой называет его «великим украинским философом», Михайло Ивченко рисует образ Сковороды в повести «Напоенные дни», Юрий Яновский упоминает его как человека-«европейца» в романе «Четыре сабли», Валериан Полищук в своем «биографически-лирическом» романе «Сковорода» показывает философа отважным путешественником «в глубины духа», Михайло Драй-Хмара примеряет образ Сковороды-странника на самого себя («Розлютувався лютий надаремне…»), Мыкола Зеров берется за переводы написанной на латыни поэзии Сковороды, Юрий Клен начинает свой путь украинского поэта сонетом «Сковорода», а Максим Рыльский в стихотворении «Китаев» видит странствующего философа предтечей нового мира:
Хай прикладаються прочани
До переляканих iкон,
Хай прорiкає Первозванний
Царiв, панiв, корону й трон, —
Та з палицею пiлiгрима
У новi села й городи
Прямує тiнь неутолима
Григорiя Сковороди.
Сковорода – едва ли не единственный украинский классик, который выдержал ту кардинальную переоценку ценностей, которая происходила в нашей культуре в 1920-х годах. Даже для самых ярых радикалов того времени он остался знаковой фигурой. Недаром же тогда бытовало мнение, что молодые идеалисты, которых называют «первыми храбрыми», – творцы «октябрьской» Украины – в своих интеллектуальных поисках шли дорогой «от Сковороды к Марксу». Правда, уже совсем скоро выяснилось, что дорога «от Сковороды к Марксу» – это дорога в никуда, дорога от полноты бытия к полному небытию.
И когда поколению детей Второй мировой войны, как скажет юная Лина Костенко, «надоели ведьмовские шабаши фикций», в поисках истины оно снова возвращается к философии и поэзии Сковороды. Именно в ней следует искать истоки культурного и политического сопротивления блестящей плеяды украинских «шестидесятников». Вспомним хотя бы образ Сковороды-«перворазума» в «Индустриальном сонете» Мыколы Винграновского, вариации на темы Сковороды у Васыля Симоненко, Ивана Драча, Бориса Олийныка, Дмытра Павлычко, «Сад нетающих скульптур» Лины Костенко, поэзию Васыля Стуса, который с полным на то правом называл Сковороду одним из своих «лучших друзей», публицистику Ивана Дзюбы и Евгена Сверстюка, сковородиновские исследования Валерия Шевчука… А по ту сторону «железного занавеса» Игорь Костецкий назовет Сковороду одним-единственным учителем современной Украины (Praeceptor Ucrainae), человеком, представляющем ту украинскую культуру, «которая имеет общечеловеческое значение», Васыль Барка определит свое жизненное кредо словами: «Мир меня поймал, но не удержал» – и станет отшельником, так, как и Сковорода, Дмытро Донцов посвятит последние дни работе над статьей «Путеводная нить Григория Сковороды нашей современности» (последняя страничка рукописи так и осталась в его пишущей машинке).
Да и для украинского постмодерна наш старый философ весьма привлекателен – например, можно вспомнить экстравагантный образ Сковороды как «первого украинского хиппи» Юрия Андруховича, или то, как внимательно вглядывается в образ Сковороды героиня повести Оксаны Забужко «Инопланетянка», когда пытается найти смысл той вряд ли достижимой для смертного человека полноты бытия, которую она называет «третьим уровнем свободы». Кем же он был, размышляет она: «народным любимцем, умницей со свирелью», или «мрачным отшельником, никем не понятым «человеком Божьим», людской милостью живущим?..» Если бы она спросила об этом у самого Сковороды, то трудно сказать, что бы он ответил. Жизнь человека философ представлял по-разному. Он мог вслед за Иовом сказать, что жизнь – это повседневная борьба (естественно, не в смысле «житейской борьбы», а в смысле «духовной войны»-психомахии), мог говорить о жизни как о грандиозном вселенском представлении, автором и режиссером которого является сам Господь… Но скорее всего, Сковорода сказал бы, что был в этом мире всего лишь беззаботным пилигримом, чьи ноги ходили по земле, а сердце утешалось покоем где-то далеко-далеко на небесах. По крайней мере уже под конец жизни, в роскошно-барочной мистерии «Борьба архистратига Михаила с Сатаной», философ в первый и в последний раз изобразил себя именно в таком образе. Якобы Божьи архангелы, устроившись на радуге, смотрят сверху на землю и видят там, в стороне от всяческого суетящегося люда, одинокого странника Сковороду: «Он шествует с жезлом веселыми ногами и местами и спокойно воспевает: «Пришелец я на земле, не скрой от меня заповедей твоих». Воспевая, обращает очи то налево, то направо, то на весь горизонт; почивает то на холме, то при источнике, то на траве зеленой; вкушает пищу беспритворную, но сам он ей, как искусный певец простой песне, придает вкус. Он спит сладостно и теми же Божиими видениями во сне и вне сна наслаждается. Встает утром свеж и исполнен надежды… День его – век ему и есть как тысяча лет, и за тысячу лет нечестивых не продаст его. Он по миру паче всех нищий, но по Богу всех богаче… Сей странник бродит ногами по земле, сердце же его с нами обращается на небесах и наслаждается».
Людские глаза – не ангельские. Где-то примерно в то же время пожилого Сковороду видел в Харькове уже упоминавшийся Федор Лубяновский. Он запомнил его высоким мужчиной в сером байковом сюртуке и смушковой шапке, с посохом в руках, изъяснявшимся на простом слобожанском наречии. Его движения были немного усталыми, а на лице лежала печать какой-то особой грусти. За плечами этого удивительного странника было уже немало житейских дорог…
Григорий Саввич Сковорода родился в ночь на 3 декабря (22 ноября по старому стилю) 1722 года в сотенном городке Чернухи на Полтавщине. Спустя многие годы, 3 декабря 1763 года, философ, прочитав лекции по греческому языку в Харьковском коллегиуме и покончив с другими делами, вернется домой на тихую Чистоклетовскую улицу и вспомнит о своем дне рождения: «…я начал думать о том, как исполнена бедствий жизнь смертных. Мне показалась отнюдь не нелепою чья-то догадка, будто только что родившийся ребенок потому тотчас же начинает плакать, что уже тогда как бы предчувствует, каким бедствиям придется ему когда-то в жизни подвергнуться. Размышляя об этом один, я решил, что неприлично мудрецу ту ночь, в которую он, некогда родившись, начал плакать, ознаменовать бокалами или подобного рода пустяками; напротив, я и теперь готов был разразиться слезами, вдумываясь в то, каким несчастным животным является человек, которому в этом киммерийском мраке мирской глупости не блеснула искра света Христова».
Сковорода происходил из небогатого, но уважаемого казацкого рода. Его родители – Савва и Пелагея – были обычными горожанами с соответствующим достатком, людьми правдивыми, гостеприимными и набожными. Говорят, что и сам мальчик уже в раннем возрасте отличался набожностью, любовью к музыке и учебе, а еще – немалым упорством. Когда мальчику исполнилось семь лет, его отдали в приходскую школу, которых в Чернухах в ту пору было три на полторы сотни дворов. Он учился, как считается, в школе при Воскресенской церкви. Псалтырь, Часослов, грамматика, устный счет, пение на клиросе… Кое-что из той науки, преподаваемой дьяком, западет в душу мальчика на всю жизнь, как, например, чудесное творение Иоанна Дамаскина «Образу златому на поле Деире…», которое с тех пор стало едва ли не любимейшей песней Сковороды. А осенью 1734 года Григорий отправляется учиться в знаменитую Киево-Могилянскую академию, в те времена пребывавшую в поре своего расцвета.
Первый класс – фара. Тут иеродиакон Вениамин Григорович научил Сковороду и его одноклассников читать и писать на латыни, польском и церковно-славянском языках. В трех последующих классах: инфимы (этимология, синтаксис латыни, арифметика и катехизис), грамматики (сложные вопросы синтаксиса, произведения Цицерона и Овидия) и синтаксимы (стили латинской ораторской прозы, латинская поэзия) – его учителем был Амвросий Негребецкий. Рассказывают, что Сковороде очень легко давались все школьные премудрости и он быстро переходил из одного ординарного класса в другой. По крайней мере, в 1738–1739 годах он уже учится в классе поэтики, где под руководством иеродиакона Павла Канючкевича овладевает наукой стихосложения, а также изучает мифологию, географию и библейскую историю. Тогда же он начинает изучать греческий, немецкий и древнееврейский языки у Симона Тодорского. Это был незаурядный человек. Философ, богослов, полиглот, перед тем как начать преподавание в академии, около шести лет изучал в университете Галле арабский, еврейский и сирийский языки у прославленного ориенталиста Иоганна Генриха Михаэлиса и в то же время сблизился с кругом так называемых «пиетистов» – последователей лютеранского богослова Августа Германна Франке. Именно под их влиянием Тодорский перевел довольно много произведений немецкой духовной лирики, а также главный труд великого протестантского писателя XVI столетия Иоганна Арндта «Истинное христианство». После этого он еще год учился в Иенском университете, у известного богослова Иоганна Франца Буддея, а потом вернулся в Киево-Могилянскую академию, где одним из его учеников и стал Сковорода. Заимствованные из трудов немецких «пиетистов» темы «внутреннего человека», самопознания, морального усовершенствования, над которыми часто размышлял Симон Тодорский, видимо, в значительно степени повлияли и на Сковороду. И все же едва ли не самое большое внимание в первые годы своего обучения в академии Сковорода уделял языкам, прежде всего латыни и греческому. Говорят, что среди всех иностранных языков он и тогда, и спустя годы больше всего ценил греческий язык. Но и латынь Сковорода не просто блестяще знал – для него, как и для любого другого воспитанника Киево-Могилянской академии, латынь была языком, на котором он думал. Уже начиная с класса грамматики ученики обязаны были общаться между собой на латыни не только в стенах академии, но и в любом другом месте. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, например, Стефан Яворский, перечитывая украинские книги, делает на полях записи на латыни, а любимой забавой тогдашних школяров было сочинение макаронических стишков, вроде тех, которые можно встретить в «Энеиде» Котляревского:
Енеус ностер магнус панус
I славний троянорум князь,
Шмигляв по морю, як циганус,
Ад те, о рекс, прислав нунк нас.
Кроме латыни, Сковорода превосходно знал церковно-славянский, немецкий, русский и польский языки (примечательно, что свою фамилию он писал на латыни на польский манер – Skoworoda). Немного знал древнееврейский, немного – итальянский. И все же, как свидетельствует Михаил Ковалинский, философ всегда прежде всего любил свой родной язык и редко когда заставлял себя говорить на иностранном языке.
Следующий класс – риторики – Сковорода успешно прошел в 1739–1740 учебном году у Сильвестра Ляскоронского, читавшего немалый по объему курс под названием «Основы ораторского красноречия». В своих лекциях Ляскоронский, опираясь на греческих и римских классиков, прежде всего на Цицерона, обстоятельно рассматривал учение о поэтических тропах и фигурах, о том, как сочинять и произносить различные торжественные речи, как строить композицию произведения и т. д.
А затем Сковороду ждали два последних класса: философия и богословие. Философию (диалектика, логика, физика, метафизика и этика) юноша начал изучать в 1740–1741 годах под руководством префекта академии Михаила Козачинского – превосходного поэта и философа, который до того был префектом и преподавателем поэтики и риторики Карловацкой славяно-латинской школы в Сербии и уже успел прославиться своей «Трагикомедией» о смерти последнего сербского царя Уроша V – произведения, с которого берет начало история сербской драматургии. Теперь же Козачинский читал курс под названием «Синтагма всей аристотелевской философии».
Правда, обучение в классе философии Сковороде пришлось прервать, поскольку осенью 1742 года, пройдя конкурсный отбор в бывшем тогда столицей Гетьманщины Глухове (экзамен по церковному пению и пению на «итальянский манер»), юноша становится певцом-альтистом придворной капеллы императрицы Елизаветы Петровны. С тех пор и до конца августа 1744 года он будет жить в Москве и Санкт-Петербурге. Придворная капелла, которую в те времена по праву считали одной из лучших в Европе, имела немалые привилегии – недавно взошедшая на престол императрица очень любила музыку. Поэтому-то певчие, по большей части с Украины, получали хорошее жалованье (до двухсот рублей в год), добротную, скорее даже роскошную одежду, их семьи освобождали от налогов, а сами они получали чины и большие пожизненные пенсии. В Санкт-Петербурге хористы жили в старом Зимнем дворце. Ежедневные репетиции, выступления, изучение итальянского и французского языков… Капелла пела не только на ежедневных церковных службах и по большим праздникам, но и на всех придворных торжественных событиях. В ее репертуар входил, конечно же, церковный канон, а еще музыка, например Баха и Генделя. Именно в это время, как утверждал Квитка-Основьяненко, юный Сковорода сочинил несколько церковных песнопений: «придворный» напев литургийно-канонической песни «Иже херувимы», «Христос воскресе» и пасхальный канон «Воскресения день».
Впечатления от жизни в столицах Российской империи впоследствии будут не раз отражаться в его литературных произведениях. Например, в стихотворной фабуле о Тантале есть упоминание об итальянском композиторе и скрипаче Доменико даль Ольо – авторе музыки к прологу оперы «Милосердие Тита» – блестящем мастере, которого учил композиции сам Антонио Вивальди. Сковорода выступал в этой опере несколько раз. Возможно, из этого же пролога, текст которого написал Якоб фон Штелин, вышел и сковородиновский образ богини справедливости Астраи, изображенный в притче «Убогий Жаворонок».
Придворная капелла открывала перед Сковородой большие возможности. Вспомним хотя бы то, как простой парубок из села Лемеши Олекса Розум, впоследствии ставший графом Алексеем Разумовским и фаворитом императрицы Елизаветы, начинал свою карьеру именно в придворной капелле. Недаром когда-то говорили, что только в Российской империи XVIII столетия и еще, может быть, в императорском Риме человек имел просто сказочную возможность мигом взлететь с самого дна к высочайшим вершинам славы и богатства. Кроме того, в Санкт-Петербурге у Сковороды был очень влиятельный родственник (дядя или двоюродный брат) – камер-фурьер императорского двора Гнат Полтавец. Только вряд ли все это хоть сколько-нибудь привлекало юношу.
Так или иначе, в конце лета 1744 года, прибыв в Киев в составе пышной свиты императрицы Елизаветы, Сковорода уволился из капеллы в чине «придворного уставщика», то есть регента, и возобновил свое обучение в классе философии Киевской академии. Однако спустя ровно год генерал-майор Федор Вишневский, тот самый, который когда-то заприметил и привез в Санкт-Петербург Олексу Розума, предложил Сковороде, как человеку, хорошо разбирающемуся в музыке и знающему иностранные языки, отправиться вместе с ним в Венгрию. Возглавляемая генералом Токайская комиссия имела целью прежде всего закупку вина для императорского стола, и Вишневский хотел поставить это дело на широкую ногу: арендовать большой участок земли, разбить виноградники, нанять людей, чтобы наладить собственное производство вина. В этом путешествии Сковорода был то ли компаньоном Федора Вишневского, то ли учителем его сына Гавриила. Так или иначе, в течение следующих пяти лет Григорию довелось побывать и в Австрии, и в Словакии, и в Польше, и, вероятно, в Италии (в своих произведениях философ, вспоминал в частности Венецию и Флоренцию), Чехии и Германии. Михаил Ковалинский утверждал, что в Будапеште, Вене, Братиславе и других городах философ продолжал свое обучение, общаясь со многими образованными людьми. В целом, правда, об этом путешествии Сковороды дорогами Европы трудно сказать что-то определенное. Конечно, можно пересказать какие-то легенды, например, историю о том, как Сковорода слушал лекции прославленного философа-рационалиста Христиана Вольфа в университете Галле. Именно об этом писал еще в 1875 году неизвестный автор статьи о Сковороде, помещенной в четырнадцатом томе знаменитого энциклопедического словаря Пьера Лярусса. Якобы из Пешта Сковорода «отправился в Галле, где в то время своего наивысшего расцвета достигла наука Вольфа. Три года Сковорода изучал здесь метафизику и богословие, а также перевел в это время проповеди святого Иоанна Златоуста и написал поучительные басни, которые до сих пор бытуют среди жителей Украины». Естественно, что это легенда – уже хотя бы потому, что в то время, когда Сковорода путешествовал дорогами Европы и мог посетить Галле, Вольфа там давно не было: еще в 1723 году местные «пиетисты», обвинив философа в атеизме, добились его увольнения из университета. Можно даже попробовать предположить, какие книги модных в то время авторов Сковорода мог читать. Например, вслед за немецким славистом Эдвардом Винтером утверждать, что, находясь в Вене, Сковорода читал, кроме всего прочего, работы Геллерта и Готшеда. А можно и пофантазировать, как это делал еще в начале XIX столетия ученик Моцарта, профессор Харьковского университета Густав Гесс де Кальве, описывая вероятное посещение Сковородой Рима: «С благоговением шел он по этой классической земле, которая когда-то носила на себе Цицерона, Сенеку и Катона; триумфальная арка Траяна, обелиски на площади святого Петра, руины терм Каракаллы, словом, все наследие этого властелина мира, такое не похожее на нынешние сооружения местных монахов, шутов, ловкачей, производителей макарон и сыра, произвело на нашего киника незабываемое впечатление. Он увидел, что не только у нас, но и повсюду богатому кланяются, а бедным пренебрегают, видел, как люди прогуливаются, выставляя напоказ свои драгоценности, как глупость побеждает разум, как шутов награждают, а честные люди вынуждены жить на милостыню, как распущенность нежится на мягких перинах, а невинность гниет в сумрачных темницах. Одним словом, он видел все то, что можно каждый день видеть на нашей земле».
А уже значительно позднее, в 1946 году, когда Европа лежала в руинах после безумия Второй мировой войны, Юрий Косач, вероятно вспоминая свои собственные вынужденные и трагические странствия по Европе, пытается представить себе дороги «искателя созвездий» Сковороды в поэзии «Регенсбургская встреча», которая заканчивается такими строчками:
Наконец, в октябре 1750 года, переполненный новыми впечатлениями, но без копейки за душой, Сковорода возвращается на родину. Какое-то время он жил у своих приятелей и знакомых, пока в конце 1750-го или в начале 1751 года переяславльский епископ Никодим Сребницкий не пригласил его на должность учителя поэтики в местный коллегиум. Сковорода с радостью согласился, поскольку любил и поэзию, и преподавательскую работу. Он подготовил курс лекций под названием «Рассуждение о поэзии» и подал его на суд начальства. Но здесь его ждало горькое разочарование. Его понимание поэтического творчества не удовлетворило владыку, поскольку, скорее всего, слишком уж сильно отличалось от устоявшихся в старой украинской школе основ поэтики. Трудно сказать однозначно, о чем именно шла речь – «Рассуждение о поэзии» не сохранилось, – но в собственных стихотворениях Сковороды можно увидеть по крайней мере две черты, которые могли сбить с толку Никодима Сребницкого. Во-первых, Сковорода часто употребляет так называемые «мужские» рифмы, то есть такое созвучие строк, при котором под ударение попадают их последние слоги. В то время школьная украинская традиция признавала правильными только «женские» рифмы, когда под ударением стояли предпоследние слоги строки. Во-вторых, Сковорода очень часто пользовался неточными рифмами, которые не раз приобретали характер обычных аллитераций. Это значительно расширяло возможности поэтического слова, но точно так же было нарушением традиционной нормы, которая признавала только точные рифмы. Возможно, Сковорода как раз и попытался теоретически обосновать, кроме прочего, то, что нормативность «женской» рифмы в украинской поэзии вовсе не является обязательной, ведь украинский язык, в отличие от польского, в котором слова имеют фиксированное ударение на предпоследнем слоге (мода на «женские» рифмы пришла в Украину как раз из польской поэзии), вполне позволяет применять различные типы рифм. Одним словом, епископ через консисторский суд потребовал от Сковороды, чтобы тот преподавал по-старому. Сковорода не согласился. Он ответил, что его понимание поэзии абсолютно правильное, поскольку отвечает природе вещей, и еще добавил при этом крылатую фразу: «Alia res sceptrum, alia plectrum», – то есть «Одно дело скипетр, а другое – плектр». Именно так, согласно легенде, ответил некий музыкант царю Птолемею, когда тот во время разговора о музыке стал настаивать на собственном мнении. Естественно, епископ оскорбился и тут же, собравшись с силами, собственноручно написал на консисторском докладе не менее изысканную фразу: «Не живяше посреди дому моего творяй гордыню». Это был седьмой стих сотого псалма Давида, и понимать его следовало очень просто: хочешь быть гордым – иди прочь! После такого обмена «любезностями» Сковороде уже нечего было делать в стенах Переяславльского коллегиума. Как напишет впоследствии Михаил Ковалинский: «Это был первый опыт твердости духа его». Да и сам Сковорода еще долго помнил об этой досадной истории. Спустя много лет он расскажет тому же Ковалинскому как однажды встретился с монахом, который был очень мрачен, да еще и суеверен. Этого человека мучил «демон печали». «Я, – писал философ, – начал его утешать, пригласил к себе, предлагал вино – он отказался. В поисках темы для разговора я стал жаловаться на докуку от мышей: они прогрызли верхний пол и проникли в мою комнату. „О, это очень плохое предзнаменование“, – сказал он. Словом, своим разговором он передал мне большую часть своего демона… Таким образом, демон печали стал поразительно меня мучить то страхом смерти, то страхом предстоящих несчастий. Я прямо стал гадать таким образом: переяславские мыши были причиной того, что я был выброшен с большими неприятностями из семинарии, следовательно, и т. д. Так было в доме того-то и того-то (он представил бесчисленное множество примеров), и незадолго тот и тот умер. Таким образом, очаровательнейший Михаил, весь день этот софист-демон меня мучил, и я на это намекал тебе вчера, сказав: мне немного печально было. Ты спросил как? „Было, – ответил я, – немного“».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.