Текст книги "Вернадский"
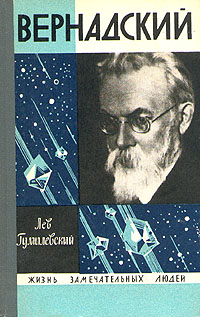
Автор книги: Лев Гумилевский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Встречи со всем этим цветом интеллигентской Москвы входили в порядок жизни Владимира Ивановича и не нарушали размеренного ее течения. Как бы ни был заманчив спор гостей, Владимир Иванович, поиграв предупредительно цепочкой на жилете, вынимал часы и вставал, объявляя с мягкой улыбкой:
– Извините, господа, но я иду спать: десять часов, мне пора!
И он уходил и вставал в шесть часов, не изменяя ни в чем установившегося порядка жизни.
Единственная беда преследовала в то время Владимира Ивановича. Каждый вечер, зажигая керосиновую лампу в своем кабинете, он наказывал себе не забыть вовремя привернуть фитиль и каждый раз вспоминал об этом, когда маленькие паутинки копоти уже падали на книгу или рукопись, лежавшие перед ним.
Глава X
БЕССМЫСЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ
Весь XIX век есть век внутренней борьбы правительства с обществом, борьбы, никогда не затихавшей. В этой борьбе главную силу составляла та самая русская интеллигенция, с которой все время были тесно связаны научные работники.
Легкомысленная жена Ивана Николаевича Дурново, нового министра внутренних дел, на благотворительном базаре в Эрмитаже остановила Егора Павловича и, прикрываясь веером, сказала:
– Имейте в виду, над Вернадским установлен полицейский надзор…
Егор Павлович молча поклонился и вскоре покинул базар, но прошло еще несколько лет до того, как в этом убедился и сам Вернадский.
Владимир Иванович Вернадский не был профессиональным политиком, а тем более революционером. Встречавшихся возле его дома пожилых людей в котелках он принимал за соседей и в последнее время стал даже раскланиваться с ними. Несколько удивился он, заметив одно из знакомых лиц на вокзале перед отъездом за границу летом 1903 года. Но об этом случае он вспомнил уже в Констанце, прогуливаясь по берегу Констанцского озера с одним из московских знакомых. Спутник его постоянно оглядывался на прохожих, казавшихся ему подозрительными, и Вернадский рассказал ему о сообщении жены Дурново и замеченном на вокзале человеке. Опытный политикан Иван Ильич Петрункевич разъяснил ему, кого он принимал за соседей по Борисоглебскому переулку.
– Да, это слежка за вами, вернее, за всеми нами, – подтвердил он. – Наши собрания у вас совсем не такое невинное препровождение времени в глазах жандармского управления и дворцовой камарильи, которая держит в руках Николая…
Владимир Иванович вспомнил, что Петрункевич находился в числе депутатов, являвшихся к царю по случаю коронования в 1895 году с адресом и поздравлениями.
– Какое он на вас произвел впечатление?
– Странное какое-то, – неторопливо, как будто собирая в памяти подробности, отвечал Петрункевич. – Вышел этакий молодой человек в военном мундире, за обшлагом у него, как офицеры держат рапорт, бумажка. Вынимает бумажку, на ходу начинает читать как-то истерически громко, должно быть, от застенчивости… И объявляет, что наши скромные пожелания о привлечении земских избранных людей к участию в законодательстве – бессмысленные мечтания. Явно вся речь сочинена Победоносцевым, который тут же стоит сзади со своей елейной мордой… Рассказывали, что царица, присутствовавшая здесь, еще не знавшая русского языка, спросила какую-то свою фрейлину: «Что он им объясняет?», и та ответила по-французски: «Он им объясняет, что они идиоты!» Мы, конечно, стояли идиотами – взрослые люди, на них кричит мальчишка…
Разговор на берегу красивого озера, окаймленного садами, лесом и пастбищами, происходил уже в конце учредительного съезда тайного политического союза «Освобождение», ради которого сошлись в Констанце двадцать русских интеллигентов. Задача союза сводилась к организации общественного мнения в России на борьбу с самодержавием. Предполагалось, что в союз войдут независимо от партийной принадлежности все левые элементы русского общества. Решено было основывать в различных городах отделения союза «Освобождение», чтобы потом слить их в одно большое сообщество, созвав через год тайный съезд делегатов от местных отделений в Петербурге.
Из двадцати учредителей союза большую часть составляли хорошие знакомые и друзья Вернадского: Петрункович, братья Шаховские, Гревс, Ольденбург. Но среди политических разговоров Владимир Иванович оставался со своими мыслями:
– Передо мной раскрывается огромная малоразработанная область науки, – жаловался он друзьям, – все время я глубоко чувствую недостаток своих сил и знаний, но, – улыбаясь, неизменно добавлял он: – я убежден, что справлюсь!
Нельзя было не верить человеку, только что выучившему голландский язык для того только, чтобы прочитать в Гааге несколько книг по истории науки.
В Москве собрания союза происходили у Вернадского. Ему хотелось погрузиться в исследовательскую работу, а живая жизнь с массой житейских забот и социальная отзывчивость с ее волнениями не давали возможности хотя бы только сосредоточиться на отдельных мыслях. И Владимир Иванович спрашивал у Самойлова, занятого делом в лаборатории:
– Яков Владимирович, как же справлялись ученые, которые вели общественную жизнь?
С переездом на казенную квартиру во втором этаже дома во дворе университета, казалось, высвободится из порядка дня время, которое тратилось на ходьбу.
Но дело было не во времени.
Владимир Иванович безмерно любил свой народ и Россию, но не считал долгом истинного патриота находить все в них прекрасным.
И потому, отрываясь от науки, он ехал в Петербург как представитель Тамбовского земства на съезд земских и городских деятелей и требовал гражданских свобод и автономии высшей школы.
По обычаю братства, он останавливался у Ольденбурга, теперь академика, в его большой академической квартире. Но вместо воспоминаний о днях юности или взаимных отчетов о сделанном в науке Ольденбург потребовал участия друга в составлении «Записки о нуждах русской школы».
«Записка» не выставляла конкретных требований, но резко характеризовала положение школ в России и особенно высшей школы.
«Народное просвещение России находится в самом жалком положении», – говорилось в ней, а что касается высшего образования, то «оно в состоянии разложения вследствие отсутствия свободы преподавания и академической автономии, смешения науки с политикой и студенческих волнений. Преподаватели даже высшей школы сведены к положению подначальных чиновников. Между тем наука развивается только там, где она свободна и может беспрепятственно освещать самые темные уголки человеческой жизни…»
Ольденбург сказал, что ручается за подписи Павлова, Тимирязева, Бекетова, Веселовского и других ученых и не представляет себе «Записки» без подписи Вернадского.
– Идеалы демократии идут в унисон со стихийными биологическими процессами, законами природы, наукой! – вдруг заметил Вернадский.
– Как это так? При чем тут биологические процессы?
– Когда-нибудь напишу об этом. Очень хочется сказать, как я все это понимаю. Ну, скажем, биологическое единство и равенство всех людей – разве не закон природы? А раз это закон природы, значит, осуществление этого идеала неизбежно и идти безнаказанно против выводов науки нельзя.
Разговор на темы, которых Вернадский касался только с друзьями, оживил его ум и сердце. Но воспоминание о казненном не оставляло его весь вечер. Оно таилось в глубине ума или сердца безмолвно и бездейственно, но исчезнуть не могло.
Да оно стояло за спиной и у Ольденбурга, когда через час он провожал друга с Васильевского острова на Николаевский вокзал. Было темно, но глухой остов Петропавловской крепости выступал из мрака, и тонкий шпиль ее колебался черной тенью па светлой невской воде.
Извозчик чмокал губами, подбадривая лошадь, и толковал своим седокам, что народ измучился неправдой и бедностью и ничего не остается, кроме как дойти до самого царя и все ему сказать.
Формула царского отношения к нуждам подданных тут вспомнилась сама собой, и Вернадский сказал с безнадежностью:
– Бессмысленные мечтания!
Разговор этот вспомнился ему в Москве, когда туда пришли первые известия о событиях в Петербурге 9 января 1905 года. Народ, направлявшийся со своими делегатами к Зимнему дворцу, подымая вверх хоругви, иконы и портреты царя, был встречен ружейным огнем войск, преградивших путь.
На решетке Александровского сада был застрелен ученик Вернадского А. Б. Лури. Владимир Иванович напечатал в «Русских ведомостях» гневную статью, посвященную памяти невинной жертвы.
Так живая действительность беспрестанно отрывала его от пауки сегодняшнего дня во имя науки будущего, свободной и честной науки. В марте он участвует на съезде профессоров и преподавателей в Петербурге. Возвратясь в Москву, делает доклад товарищам о решениях съезда и организации Академического союза. Через неделю участвует на совещании земских деятелей, а затем мчится в Вернадовку, требуя созыва Тамбовского губернского земского собрания. Летом созывается второй делегатский съезд Академического союза, а несколько ранее Вернадского избирают в Комиссию по созыву съезда земских и городских деятелей.
– Если разгонят, уедем в Финляндию… – решает он.
В Москве окончивший гимназию Гуля советуется: на какой факультет ему поступать?
– Историко-филологический, – отвечает отец и, проговорив вечер о наслаждении творческих обобщений, к которым ведет историческая наука, ночью уезжает в Петербург по вызову Ольденбурга.
Ольденбург, только что выбранный непременным секретарем Академии наук, спрашивает друга, согласен ли он баллотироваться в адъюнкты академии?
Вернадский удивился.
– Это ты все придумал?
– Ни в коем случае. Вопрос поднял Чернышев. Карпинский его поддержал. Мне осталось только подписаться! Ну?
Владимир Иванович дал согласие.
Из Москвы, вдогонку Вернадскому, пришла телеграмма: специально прибывший в Москву сенатор Постовский приглашал Вернадского для объяснений. Владимир Иванович ожидал обыкновенного полицейского допроса, но ошибся. Сенатор по личному поручению царя опрашивал видных общественных деятелей о том, чего, собственно, они хотят.
Было совершенно ясно, что пораженное позором русско-японской войны, напуганное крестьянским движением, забастовками рабочих, восстаниями в войсках и флоте, выступлениями интеллигенции, русское самодержавие уже не может держаться только военно-полевыми судами и казнями. Правительство искало новых средств, чтобы предотвратить надвигавшуюся революцию, и в последнюю минуту выступило с манифестом 17 октября 1905 года. Манифест провозглашал неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов и созыв законодательной Государственной думы.
Бессмысленные мечтания вновь овладевали доверчивыми людьми, несмотря на продолжавшиеся погромы, казни и аресты. Вернадский согласился выставить свою кандидатуру от университета в Государственный совет.
Но, вернувшись из Петербурга, после встречи с Витте по делам высшей школы он писал Самойлову:
«Горизонт темен, но реакция бессильна – они губят себя и делают лишь ход свободы более страшным!»
Государственная дума и Государственный совет открылись 27 апреля 1906 года. При обсуждении ответа на так называемую «тронную речь» Вернадский предложил включить в адрес царю:
«Да ознаменуется великий день 27 апреля перехода России на путь права и свободы актом полной амнистии по политическим, аграрным и религиозным делам ввиду необычайной серьезности нынешнего исторического момента».
Требование это правительство не приняло.
На июньской сессии Государственного совета обсуждался вопрос об отмене смертной казни. Это был самый больной вопрос современности. В память русского общества, как гвозди, были вбиты знаменитые статьи В. Г. Короленко «Бытовое явление» и Л. Н. Толстого «Не могу молчать» с гневным протестом против смертных казней, обратившихся в «бытовое явление».
Вернадский вместе с Ильей Григорьевичем Чавчавадзе, известным грузинским поэтом и общественным деятелем, занимал в Государственном совете крайние левые скамьи. При обсуждении вопроса об отмене смертной казни Вернадский выступил с резким и решительным осуждением правительственной политики и практики в этом вопросе.
Когда законопроект об отмене смертной казни был большинством Государственного совета отвергнут, Вернадский подал свое отдельное мнение.
Этого своего выступления Владимир Иванович не мог никогда забыть.
В июле строптивая Государственная дума была распущена.
Вернадский в знак протеста вышел из состава членов Государственного совета, уехал вместе с левой группой членов думы в Выборг и подписал знаменитое Выборгское воззвание.
Подписанное 180 членами думы и совета, оно призывало население не давать рекрутов в армию, не платить налогов, не выполнять законов, принятых без одобрения думой. Но шло оно не от думы, а лишь от некоторой части ее членов и тем самым не имело государственной важности и значения.
Вернадский взялся ознакомить через Ольденбурга с воззванием научную общественность и возвратился в Петербург.
Ольденбург поздравил друга с избранием адъюнктом Академии наук и предложил ему в качестве причисленного к академии обязанности заведующего Минералогическим музеем.
Владимир Иванович уже знал о смерти организатора этого дела Виктора Ивановича Воробьева, погибшего на одном из ледников Кавказа. То был веселый молодой человек, проявивший уже необычайные способности ученого, исследователя и организатора.
Они долго сидели молча. Владимир Иванович не считал себя ни с кем и нигде обязанным что-нибудь говорить, когда говорить не хотелось. Дома, с гостем он мог так, молча просиживать часы, пока Наталья Егоровна не являлась, смеясь над хозяином и гостем.
Ольденбург возвратился к делу.
– Если ты останешься пока в Москве, тебе следует взять теперь же кого-нибудь из твоей молодежи заведовать лабораторией.
Вернадский вспомнил о Ненадкевиче. Окончив университет, Ненадкевич осуществил свое намерение и поступил на первый курс горного института, как ни уговаривали его остаться в Москве. Владимир Иванович не только не обиделся на упрямого ученика, но оценил его твердость и время от времени переписывался с ним. Из писем он знал, что Ненадкевичу грозит судьба вечного студента, и решил, не лишая его возможности оставаться в институте, предложить работу в лаборатории минералогического отделения.
Через два дня директор горного института, известный геолог и путешественник Карл Иванович Богданович, получил формальную просьбу Академии наук отпустить в распоряжение академии студента Ненадкевича, «заменить которого другим лицом академия не находит возможным». Под текстом стояли подписи академиков Карнинского и Чернышева.
Богданович был удивлен и пожелал взглянуть на студента, в котором так нуждалась академия. К еще большему его удивлению, оказалось, что незаменимый студент четвертый год числится на первом курсе.
– Пусть отправляется, – возвращая дело правителю канцелярии, сказал он. – Подумаешь, что дело идет о магистре по крайней мере!
Горным инженером Константин Автономович не стал, но русская наука многим обязана его таланту химика-аналитика.
В 1907 году Ненадкевичу досталось работать с учителем над определением красивого розового камня, открытого Вернадским. Оказалось, что это розовый берилл, содержащий цезий. Владимир Иванович назвал его воробьевитом.
Адъюнктство по минералогии еще не требовало обязательного присутствия Вернадского в Петербурге, но когда в 1908 году он избран был экстраординарным академиком, вопрос о переезде встал снова.
Устав Академии наук воспрещал избрание ординарными и экстраординарными академиками ученых, не имеющих возможности постоянно присутствовать в академии и работать в ее учреждениях. Но и оставить Московский университет Владимир Иванович не хотел. На общем совете с Натальей Егоровной и Ольденбургом решили, что Владимир Иванович зимнее время будет попеременно жить то в Москве, то в Петербурге.
На лето же, как всегда, Вернадские отправились за границу.
Глава XI
ВЕЧНОСТЬ ЖИЗНИ И БРЕННОСТЬ АТОМА
Жизнь есть явление космическое, а не специально земное.
Бренность бытия является характерной чертой атома и резко проявляется в земной коре.
Никогда еще ни одна заграничная поездка не давала так много творческому уму Вернадского, как несколько недель, проведенных в Бретани и в Лондоне летом 1908 года.
Французский полуостров Бретань, окруженный с моря Атлантическим океаном и Ла-Маншем, а с суши – низменностями, славился своей суровостью, мрачной и дикой природой. Громадное пространство занимали невозделанные земли, поросшие степными травами. Над ними неизменно или ветер, или туман, одно сменяло другое, навевая на людей тоску.
Однако многое здесь напоминало и суровость горной страны. Почва состояла из шифера и гранитных масс, с обнаженными хребтами и вершинами, перерезанными глубокими оврагами. Выходя к берегам, они образовывали крутые скалистые бухты и глыбы. О них разбивались, достигая невероятной высоты, громадные волны бурного моря.
Именно выходы пород привлекли сюда Владимира Ивановича, а морские купания – Наталью Егоровну.
Однажды они углубились внутрь полуострова и очутились среди скал, гранита и клочьев тумана, разрываемых ветром. Наталья Егоровна заметила, что таким, вероятно, был первозданный хаос на Земле. Ветер вывернул наизнанку ее легкий зонтик и не давал возможности вывернуть его обратно. Владимир Иванович помог ей и, отдавая зонтик, огляделся. Он никогда не представлял себе, да и не пытался представить, зримый лик Земли в догеологические времена. Чистый мыслитель по типу ума, он не испытывал потребности в чувственных представлениях.
Но, оглянувшись, чтобы увидеть этот первозданный хаос, он согласился, что догеологические времена театральный художник, пожалуй, мог бы изобразить таким образом.
Вернадские приехали сюда отдыхать, и Владимир Иванович удерживал свой ум от привычной деятельности.
Но уже на другой день на берегу, следя за тем, как Наталья Егоровна у края воды собирает гальку, он заметил, что, несмотря на запрещение, его ум действует и мыслит.
Творческое мышление развивается не по типу цепной реакции – начавшись в одной точке и постепенно расширяясь, охватывая весь материал, подходит к обобщениям. Скорее оно похоже на деревенский пожар в скученном поселке, где вопреки ожиданию огонь то перебрасывается через два дома на третий, то переходит через улицу, то возвращается назад, так что иногда, ко всеобщему изумлению, среди сплошь выгоревшей деревни вдруг остались невредимыми две-три одинокие избы.
Мысли Вернадского возвращались к живому веществу. Так он называл совокупность однородных живых организмов, вроде туч саранчи, где применимы число и мера, как при изучении горных пород и минералов. Переходя в своей постановке преподавания минералогии от изучения химических соединений, какими являются минералы, к изучению химических элементов, входящих в их состав, Вернадский все более и более убеждался в чрезвычайном значении для истории элементов живого органического мира. Роль живого вещества в истории таких элементов, как кислород, углерод, азот, фосфор, он выяснил давно, но оказывалось, что такое же большое значение живое вещество имеет и в истории таких, далеких от организмов элементов, как кремний, железо, марганец, медь, алюминий.
По расчетам Вернадского, половина известных в то время химических элементов была тесно связана в своей истории с живым веществом. Эти элементы по весу составляют почти всю земную кору, и, естественно, загадка жизни обращалась в загадку планетной организованности, планетного механизма.
– Было ли когда-нибудь и где-нибудь начало жизни и живого или жизнь и живое такие же вечные основы космоса, какими являются материя и энергия? Характерная ли жизнь и живое только для одной Земли или это есть общее проявление космоса? Имела ли она начало на Земле, зародилась ли в ней? Или же в готовом виде проникла извне в нее с других небесных светил?
Вернадский задавал себе один вопрос за другим, сверяясь со всей своей памятью и познаниями. Там, где собственной памяти или познаний оказывалось недостаточно, он обращался за новыми знаниями к книгам как к великой памяти человечества. Но ответа не находил.
Полный хозяин в минералогии и геологии, он знал, что не только в настоящих геологических условиях, но на протяжении всех известных геологических веков на Земле существовала жизнь, одинаковым образом отражавшаяся на химических процессах земной коры. И нигде не было ни малейшего признака самопроизвольного зарождения организмов. Наоборот, все указывало на то, что во все это время – десятки и сотни миллионов лет – живое происходило всегда из живого.
Современные организмы непрерывно связаны с организмами прошлыми, и живое вещество составляет единое во времени явление с живым веществом древнейшей геологической эры.
Но, в свою очередь, и биологи также твердо знали, что ни в природных, ни в лабораторных условиях никто никогда не наблюдал самопроизвольного зарождения, а все до сих пор производившиеся опыты синтеза живого неуклонно давали отрицательные результаты.
И Вернадский пишет в Новую Александрию, где Самойлов уже занимал кафедру минералогии сельскохозяйственного института:
«Тогда жизнь есть такая же часть космоса, как энергия и материя», – и тут же напоминает, что, «в сущности, ведь все рассуждения о приносе зародышей на Землю с других небесных тел в основе своей имеют то же предположение вечности жизни».
Гипотезой о вечности жизни начинается длинный ряд неожиданных, почти сказочных обобщений Вернадского, навстречу которым шли не менее удивительные и неожиданные открытия, совершенно менявшие мышление натуралистов XX века.
Бесстрашие самобытной мысли подсказывало Вернадскому иногда спорные выводы и обобщения. Но в конкретной своей научной деятельности он всегда, по сути дела, руководствовался диалектико-материалистическим методом. Только это и позволило ему завершить становление геохимии как науки, увидеть намного раньше других громадное геологическое значение радиоактивности, создать биогеохимию и подойти к анализу положения и роли человечества на нашей планете.
В 1896 году французский физик Анри Беккерель указал на способность соединений урана испускать лучи особого свойства, названные тогда беккерелевскими лучами. Заинтересованные этими лучами, Мария Склодовская и ее муж Пьер Кюри открыли новый химический элемент, названный ими радием. Радий обладал излучающей способностью в миллион раз большей. Вскоре Склодовская-Кюри указала, что та же способность свойственна еще одному элементу – торию.
Одновременно с работами Кюри явление радиоактивности исследовал Резерфорд. Экспериментально доказанное явление радиоактивности обратилось в научный факт.
Были найдены и другие радиоактивные элементы: полоний, актиний, радон, ионий. Еще позже оказалось, что по крайней мере два элемента из давно известных, калий и рубидий, обладают, хотя и в слабой степени, той же способностью.
В 1902 году после открытия радия и полония начали вскрываться самые неожиданные последствия этого открытия.
В 1903 году Пьер Кюри открыл в радиоактивных элементах непрерывное, идущее вместе с распадом атома тепловое лучеиспускание, прямо пропорциональное количеству радиоактивно распадающихся атомов и времени. Кюри всегда интересовался геологическими науками и заключил, что материя земной коры проникнута атомами, практически являющимися неиссякаемым источником ее нагревания.
Через три года эти научные идеи получили подтверждение в работах английского физика Стрётта.
Столь важные и для геологической науки следствия новейших открытий физики были в то время только достоянием физиков. По крайней мере Вернадский узнал о них впервые лишь на Дублинском съезде Британской ассоциации наук в августе 1908 года.
Заседания происходили в здании Тринити-колледжа, принадлежавшего старинному Дублинскому университету. С докладом выступил профессор минералогии и кристаллографии Джон Джоли. Речь его была посвящена геологическому значению открытия явлений радиоактивности.
Джоли первый, как геолог, понял значение нового геологического фактора. Выступая перед виднейшими представителями науки, он попытался объяснить некоторые загадочные явления, давно уже установленные геологами.
Джоли объяснил, например, загадочное явление «плеохроичных двориков», или ореолов. Так называются окрашенные кольца вокруг микроскопических включений радиоактивных минералов, содержащихся в горных породах. Происхождение их объяснить никто не мог. Джоли существование этих «двориков» связывал с включениями радиоактивных минералов. В подтверждение своей догадки Джоли вместе с Резерфордом воспроизвел явление «двориков» в лаборатории, доказав их радиоактивное происхождение: они образуются в результате изменения окраски нерадиоактивных минералов под действием излучений радиоактивных включений.
– Существование «двориков», – добавил он, – как следов нахождения определенных радиоактивных элементов могло бы служить доказательством того, что процесс их распада шел в течение геологического времени с тем же темпом, с каким он идет сейчас.
Ссылаясь на точные числа присутствовавшего на заседании Стрётта, Джоли показал повсеместность атомов радия в земном веществе и атмосфере. Исходя из этих данных, он сделал вывод, что количество получаемого радиоизлучением тепла так велико, что, принимая во внимание постоянную температуру Земли, нахождение радия должно с глубиной практически уменьшаться.
– Если бы количество урана, тория и образовавшихся из них элементов в толще Земли такое же, какое мы наблюдаем вокруг нас, то Земля была бы расплавленным или раскаленным телом, – сказал он. – Во всяком случае, количества тепла, испускаемого радиоактивными элементами, совершенно достаточно для объяснения крупнейших геологических явлений, таких, как существование магмы в глубине с температурой около тысячи градусов, вулканических извержений, смещения континентов и создания гор, не говоря уже о горячих источниках.
Однако общепринятого объяснения этих явлений существованием внутри Земли тепла, оставшегося от ее космического происхождения, Джоли отвергнуть не решился.
– Ход радиоактивного распада совершенно независим от сил природы, известных на Земле, – заявил он дальше. – Изучая его, мы устанавливаем генеалогию вновь образующихся в его результате элементов. Количественные соотношения между ними неизменны, так как, разбиваясь, радиоактивные атомы дают начало новым элементам, имеющим свою, совершенно отличную индивидуальность. Явление радиоактивности самым основным образом меняет наши представления. Оно связывает материю со временем в том смысле, что элемент материи современной науки – атом – имеет строго определенную длительность, конечное существование и неизбежно распадается в ходе времени! – торжественно провозгласил Джоли в заключение.
Русскому гостю докладчик не мог сказать большего. Ученик Менделеева, Вернадский прибыл сюда еще с менделеевским представлением неизменности элементов, неделимости атома. Все это теперь в один миг рушилось.
Благодаря при прощании докладчика, Вернадский с полной искренностью сказал ему:
– Вы открыли мне глаза!
На другой день последовали выступления Джозефа Томсона, Стрётта, ныне лорда Релея, возведенного в звание пэра Англии за научные заслуги, и ученика Томсона – Эрнеста Резерфорда. Все это были химики и физики – экспериментаторы, последовательно после Максвелла занимавшие должность директора знаменитой Кавендишевской лаборатории, люди широкого кругозора, с огромными интересами и с глубоким охватом окружающего.
Наибольшее внимание привлек Резерфорд. Это был довольно плотный, невысокий человек с голубыми, очень веселыми глазами и выразительным лицом. Он беспрерывно двигался на кафедре, говорил очень громко, не умея снижать голоса, и в этом чувствовалась простота и искренность новозеландского фермера, сыном которого он был.
Через несколько лет Резерфорд указал, что изучение радиоактивности привело быстро к пониманию, как устроен атом.
Всем известная теперь модель атома по Резерфорду есть не что иное, как некая солнечная система, состоящая из ядра – солнца и электронов – планет.
Все это противоречило основам тогдашней физики, казавшимся незыблемыми. Ведь электроны, вращаясь вокруг центра, должны терять свою кинетическую энергию и рано или поздно упасть на ядро! Трудно было освоиться и с новым понятием материи, атом которой состоит из ядра и находящихся в постоянном движении электронов подобно тому, как находятся в непрерывном движении планеты Солнечной системы.
И тем не менее научная подготовка Вернадского, научная атмосфера, в которой он сам жил и мыслил, были таковы, что ему понадобились не века, не годы, а только часы и дни для того, чтобы примкнуть полностью к научному движению, в корне менявшему все основы человеческого мировоззрения, основы всех наук.
Отсюда начинается научный подвиг Вернадского – долгая и страстная борьба с геологами за новое решение геологических проблем. В геологии тогда господствовала теория Канта – Лапласа. Землю представляли остывающим огненным шаром, на котором зародилась жизнь, как только достаточно охладилась его кора. Геологи сравнительно недалеко отходили от библейских дат сотворения мира – 7000 лет назад. Они считали возраст Земли в 100—200 миллионов лет.
Джоли, указывая на достаточность радиоактивного тепла для объяснения ряда явлений, не решился вступить в борьбу с привычной огненно-жидкой теорией происхождения Земли.
Это сделал Вернадский.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































