Текст книги "Последний венецианский дож. Итальянское Движение в лицах"
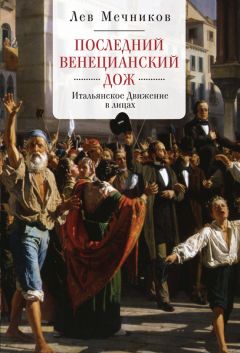
Автор книги: Лев Мечников
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Уже в начале текущего столетия Уго Фосколо восставал против слепой вражды своих соотечественников к именам, словам и формам, независимо от их содержания. Но протест этот, довольно слабый в самом Фосколо, мало вяжущийся с общим смыслом его деятельности, прошел почти бесследно, едва замеченный немногими. Гверраци делает этот протест основой всей своей литературной деятельности. Он указывает на то, что люди ненавидят призраки, давно истлевшие и переставшие быть опасными или вредными, и что в силу этой рутинной ненависти, они горячо любят и верят в то, что не должно и не может быть предметом ни веры, ни любви. Слепая ненависть к иноземцам составляла один из основных устоев рутинного итальянского миросозерцания и считалась как бы залогом итальянского возрождения.
Гверраци весьма настойчиво нападает на этот пункт, однако ж, он не проповедует примирения, прощения врагу. Но перед боем он считает не излишним оглянуться, пересчитать врагов и друзей… Он видит, что старые перегородки, которыми подавленная Италия, еще во времена первого гвельфо-гибеллинского союза против своей независимости, думала отделить козлищ от доброго стада, давным-давно уже сгнили, несмотря на заботливый за ними уход патриотических антиквариев. Он видит, что несмотря на почти трехвековой застой, на кажущуюся неподвижность, в действительности все изменилось. Врагов у Италии множество, и тем хуже и тем опаснее, что их не замечают, или даже курят им фимиам. Таких скрытых врагов итальянского возрождения Гверраци находит всюду: в рядах его пропагандистов и защитников, в природе, даже в себе самом, не имеющем уже силы отказаться от стремлений и сомнений, возбужденных в нем знакомством с общеевропейской мыслью, нежелающем уступить свое право быть человеком ради обязанности быть итальянцем всего прежде и всему наперекор. И в нем действительно существует внутреннее раздвоение, неурядица, отсутствие примирения, угаданное в нем Мадзини во время первого их свидания. Бини представляет несколько другой оттенок того же самого нравственного состояния. Пантеист и эпикуреец, он не обвиняет природу в безнравственности за то, что она «дает пышный и красивой цветок цикуте, убившей Сократа; блестящую одежду ядовитому боа»; он не негодует на океан за то, что тот «покорно лизал могучие ребра испанской флотилии, везшей смерть и разрушение в Америку, и подло разбивает утлое челноки рыбаков» (Гверраци, «Assedio di Firenze»).
Полное равнодушие природы к бедствиям людей не оскорбляет талантливого юношу. Он умеет наслаждаться «богатым рисунком на шкуре боа» и «ядовитым цветком цикуты», но он не забывает, что в этих формах – смерть. Он ближе к микеланджеловскому: «жизнь и смерть – два великие произведения одного и того же автора»; оттого он трезвее и спокойнее, чем Гверраци; он меньше негодует. Из сознания, что природа вовсе не благодетельная нянька или нежно любящая мать, он приходит к мужественному выводу, что человеку самому следует предохранять себя, если он не хочет бесследно погибнуть в анархическом хаосе космического бытия. Если Бини и негодует, то он негодует на людей за то, что в них часто не хватает смелости для подобного сознания; что они почти добровольно мешают себе уяснить и определить свои воззрения на безразличные явления природы… Кроме нескольких небольших статей в «Ливорнском Указателе», Бини не написал ничего; мы не стали бы распространяться здесь о его мировоззрении, если бы оно не представляло собою, так сказать, гавани, в которой Гверраци постоянно стремится отдохнуть и успокоиться от своего внутреннего разлада; но более артист и человек страстных порывов, Гверраци меньше, чем Бини, понимал свою собственную умственную работу. Он не без боли и страданий переходил через ряд нравственных пыток, которыми загородили путь к развитию современному ему человеку. В самых этих страданиях он искал и находил какую-то прелесть, избрав, как и следовало ожидать, себе в руководители Байрона (а позже Гейне). Между всеми байронистами тридцатых годов, Гверраци резко отличается тем, что он всего более сохранил самобытность в своем подражательном влечении. Благодаря этому сочетанию в нем «своего» и «усвоенного», он акклиматизировал на итальянской почве не внешнюю форму, а существенный смысл байронизма и глубоко потряс сон своих соотечественников.
С байронизмом непосредственно вяжется другая его характеристическая черта – ядовитая ирония, по образцу Гейне и Бернса. Итальянские критики, мало знакомые с этим элементом, редким в южно-романских литературах, где сарказм чаще отливается в менее утонченную форму Рабле, Боккаччо или Сервантеса, принимали этот смех за равнодушное глумление… Когда появился отпечатанный в Швейцарии «Осёл» Гверраци, написанный им частью в тюрьме, частью в изгнании в Германии, доктринеры накинулись на него с особенной яростью. Им в первый раз открылась возможность застать своего давнишнего врага без обороны со стороны общественного мнения, всегда горячо державшего его сторону. Действительно, в этом своем сочинении автор платит слишком значительную дань Гейне, т. е. именно тому из современных писателей, который всего менее доступен итальянцам или нужен им. Немногие оценили ядовитую силу насмешки Гверраци, никогда еще не проявлявшуюся в нем с такою полнотою и глубиною, как в этом причудливом сочинении. Но его фантастическая форма и то, что есть в нем гуманно-мистического, послужили препятствием к тому, чтобы «Осёл» был оценен и понят всеми наравне с остальными произведениями автора, хотя и более слабыми по исполнению. Масса читателей осталась холодна. Критика пользовалась случаем, чтобы выставить автора совершенно чуждым итальянскому быту, совершенно равнодушным к вопросам, к которым оставаться равнодушным в глазах итальянцев составляет худшее из возможных преступлений против общественности… Клеветы и оскорбительные намеки посыпались на бедного автора со всех сторон. Не думаю, чтобы кто-нибудь серьезно поверил им, но во всяком случае, время издания «Осла», – вместе с тем и время первого изгнания Гверраци, – самое тяжелое время всей его жизни.
«Манцони», – говорит Чезаре Канту (в «Истории Ста лет»[100]100
«Storia di cento anni 1750–1850» – историческое сочинений Ч. Канту, опубликованное в 1851 г.
[Закрыть]) – «наказал Италию своим молчанием», за то что схоластики и рутинеры осмелились высказать нечестивый образ мыслей о его «Обрученных» («Promessi sposi»). Гверраци не смолк под выстрелом доктринерских батарей, а доказал, что он прав, изданием в свет давно уже начатой им «Осады Флоренции». Знаменитый и действительно замечательный роман этот представляет собой высший предел если не художественного, то умственного и политического развития автора.
III
Гверраци оказал великую услугу Италии своим энергическим протестом против отчуждения ее от прочей Европы. Однако ж, не следует думать, чтобы до него никто не руководствовался иностранными образцами: в произведениях Уго Фосколо заметно сильное отражение немецких поэтов. Манцони своими «Обрученными» акклиматизирует в Италии вальтер-скоттовский роман. Но роман этот, хотя и английского происхождения, по самой своей сущности чисто «националистический». Никто не отличается таким коснением в самом узком и исключительном патриотизме, как подражатели и последователи Вальтер Скотта во всех европейским литературах. Самые «Обрученные» с их идеализацией местного колорита и с нео-гвельфскими стремлениями их автора, не давали итальянской мысли живительного толчка, не будили стремления вперед, а скорее влекли назад к давно отжитому. Вальтер-скоттовское направление, имевшее свой исторически-законный повод к существованию, тем не менее заключает в себе зачатки, едва ли благоприятные для истинного прогресса: с одной стороны оно будит романтически-реакционные инстинкты своей идеализацией и прославлением местных бытовых условий и побуждает к национальной разобщенности; с другой оно усыпляет мысль своей археологической художественностью. Поэтому-то оно нигде не продержалось долго, где были элементы умственного движения, где мысль упорно стремилась вперед и не хотела только похудожественнее устроиться на покое. Страна, по преимуществу отличающаяся жизненностью, Франция представляет нам первый пример быстрого перерождения вальтер-скоттовского романа в Гюго, в Дюма, в Э. Сю. Отсюда быстро начинает распространяться на всю Европу новое романтическое направление, «безобразное как современная действительность», часто бессодержательная, подкрашенная, как парижская бульварная красавица, но тревожная, возбуждающая.
В Италии (мы умалчиваем о некоторых второстепенных лириках, вдохновлявшихся по Байрону и по Шиллеру) заимствование извне ограничивалось почти исключительно вальтер-скоттовской националистической школой. Вслед за Манцони – Джованни Розини, Чезаре Канту и пр. утрируют националистическую археологичность своего родоначальника. Массимо д’Азелио[101]101
Массимо д’Адзелио, иначе д’Азелио (d’Azeglio; 1798–1866) – писатель, художник, государственный деятель.
[Закрыть] представляет собой последовательный переход из Вальтер Скотта в Дюма. Он пользуется нейтрально-безжизненной формой исторического романа, чтобы проводить отрывочно и всем понятными намеками некоторые мысли, очень трудно проскальзывавшие тогда в печати. К сожалению, его талантливая, но поверхностная политиканская натура недостаточно богата и сильна, чтобы стать Атлантом нового литературного периода…
При таких условиях является в свет повесть о «Битве при Беневенто»[102]102
«La battaglia di Benevento» – исторический роман, опубликованный в 1827 г., и посвященный итальянской истории XIII в., военно-политическому конфликту между Карлом Анжуйским и Манфредом Швабским (Сицилийским) и итоговой битвой 1266 г.
[Закрыть], – первое беллетристическое произведение Гверраци, если не считать его неудачной драмы «I Bianchi е i Neri»[103]103
«Белые и черные» – драма Гверраци, написанная в середине 1820-х гг.
[Закрыть], и едва ли не самое замечательное из произведений всей итальянской литературы этого периода.
«Битва при Беневенто», исторический роман или повесть, – разумеется, вяжется с вальтер-скоттовским направлением той казенной своей стороной, которой не избег еще ни один исторический роман или повесть – я говорю о более или менее длинных археологических описаниях и других подробностях, о геройски-чудовищных поединках и сражениях, где закованные в железо рыцари, обнявшись в судорожной злобе с своими врагами, перепрыгивают с ловкостью балетной феи со скалы на скалу (в повести о «Битве при Беневенто» – с борта одного корабля на другой), получают и наносят баснословное количество ударов, и т. п. Такие страницы, скопированные более или менее удачно с Вальтер Скотта и его подражателей, притом утрированные – как утрировано все у Гверраци – и переполненные напыщенного лиризма, портят не только этот первый юношеский роман Гверраци, но даже наиболее зрелые и наилучшие его произведения. Этой своей стороной он непосредственно вяжется с итальянскими романистами вальтер-скоттовского направления. Зато во всех других отношениях, исполненная существенных промахов и недостатков, «Битвы при Беневенто» была в самом деле нова и во многом самобытна. Еще новее и еще самобытнее должна она была казаться в Италии, где для значительного большинства читателей было совершенной загадкой – откуда черпал автор свое вдохновение? У кого заимствовал он свою антиклассическую, судорожную манеру?
Эта повесть Гверрацци должна была показаться читателям чем-то новым уже и потому, что в ней не было главнейшего недостатка тогдашних итальянских романистов: исключительной национальности, требующей отчуждения от всех других чужих национальностей. Для Гверрацци избранная им историческая эпоха, героическая и декоративная сторона повести, служит только предлогом, чтобы выставить перед публикой собственную свою личность, переполненную сомнений, тревог, разъедавших мысль и сердце лучшей части современного ему человечества. Эту субъективность ставят ему в укор не только его литературные зоилы и враги, но даже многие из его приверженцев. Мадзини, как мы уже видели, обвиняет за нее молодого писателя в излишней гордости, в поглощении собственной своей особой (он высказал это обвинение печатно в «Генуэзском Указателе» и впоследствии повторял его несколько раз в журнале «Молодая Италия»). А между тем, благодаря именно этим своим качествам, Гверраци играл в итальянской литературе столь видную и блестящую роль.
Личность автора «Битвы при Беневенто» гораздо интереснее, чем все первостепенные и не первостепенные его герои. В том и заключается интерес самой повести, что живая мыслящая личность ее автора проглядывает везде на первом плане.
Гверраци резко отличался от всех современных ему итальянских писателей, за исключением одного только Леопарди, тем, что он не заглушил в себе ни одной из тех тревог и сомнений, которые составляли неотъемлемую принадлежность каждого мыслящего человека его времени, что он не успокоился на каком-нибудь голословном, рутинном и догматическом полурешении. Он переливал, так сказать, в душу читателя то нравственное брожение, которое происходило в его собственной душе. Брожение это отражалось даже на внешней стороне его повести, придавало ей беспокойный, нервный, судорожный характер… Итальянские критики, спокойно спавшие в своем эстетическом замке, были пробуждены ее появлением; спросонок они не шутя перепугались и сильно осердились на беспокойного автора. Они увидели в начинающем романисте непростительные стремления к уродливому, чудовищному (tenderize al brutto), столь возмущавшие их в «варварской», т. е. не итальянской литературе.
Гверраци, тогда еще только что познакомившийся с мрачной поэзией Байрона, в этой первой своей повести (также и в некоторых других), действительно близок к тому, чтобы перескочить барьер, отделявший мрачное, скептически-страждущее, от натянутых и безобразных вымыслов французской cole echevele[104]104
«Растрепанная школа» (франц.), поэтическое направление 1820-1830-х гг.
[Закрыть]. В этом отношении он и В. Гюго представляются нам как два родные брата-близнеца, разительно схожие между собой. «Битва при Беневенто» заключает в себе все достоинства и недостатки всех лучших романов и повестей Гверраци, как «Изабелла Орсини», «Вероника Чибо», «Герцогиня Сан-Джульянская» и «Беатриче Ченчи». Их нет или они, по крайней мере, мало заметны в лучшем его произведении «Осада Флоренции».
Но несмотря на все недостатки произведений Гверраци, значение этого писателя в итальянской литературе было громадное. Он служил пигментом или бродилом, выводившим итальянскую мысль из застоя, в который ее погружала одинаково как консервативная, так и революционная рутина. Гверраци заменил мертвую поэзию прошлого, – которую до него в Италии считали единственно-возможной, – живой, анархической поэзией Байрона… Классики и романтики единодушно восстали за это против него, они обвиняли его в безграмотности, цитировали Данте и академические словари. Но молодое поколение заучивало наизусть целые страницы произведений Гверраци, неподдельно восхищалось его часто напыщенной, но страстной, энергической прозой, заражалось его тревогами и сомнениями, которые, раз возбуждены в человеке, неизбежно выведут его на дорогу мышления и самостоятельного умственного труда. Это одно уже избавляло Гверраци от необходимости вклеивать между строк своих повестей политические намеки и замаскированные обрывки старых истин, по образцу Массимо д’Азелио: он и без них был достаточно богат чисто современным смыслом и значением.
Гверраци долго остается под преобладающим влиянием Байрона и даже в своей «Осаде Флоренции» не вполне освобождается от него. Но зависимость всех без исключения новейших поэтов от своего английского первообраза, как известно, имеет много ступеней. Гверраци начинает с низшей из них, с той, где он ученической рукой копирует мрачные рембрандтовские фигуры своего учителя, принимает их за объективные воплощения близких ему страстей и мыслей, не замечая, что байроновские герои вовсе не лица, что они существуют только отрицательной своей стороной, что они мифы, антитезы.
В «Битве при Беневенто» Гверраци еще так детски верит в реальность байроновской поэзии, что он думает создать живое лицо из отрывков всех этих Манфредов, Гяуров, Лоры и пр. Лицо это, – герцог Казертский, – естественно выходит более карикатурно, чем трагично. То же самое случалось повально со всеми недальнозоркими подражателями Байрона, увлекавшимися одной его стороной – поэтичностью страдания. Байроновские герои страдают от того, что они не живые люди, не в самом деле лица, а сконцентрированные олицетворения тех человеческих стремлений, которые попраны, задавлены исключительным, односторонним развитием человечества. Как громадное большинство байронистов, Гверраци не понял этого. Его герои не отвлечения, или, по крайней мере, он усиленно заботится о том, чтобы они не были ими. С итальянской пластичностью он рисует те их стороны, которыми они тесно вяжутся с жизнью. Он даже не показывает – в чем эта жизнь так горько им противоречит? А без этого совершенно не понимает – отчего они так упорно, так настойчиво страдают? Автор сам не дает себе в этом ясного отчета, и потому вынужден пополнять легко всем приметный психический пробел невероятным сцеплением неблагоприятных случайностей, которые могли бы мотивировать страдания его героя. Этим он только еще более охлаждает и утомляет интерес и внимание читателя; и именно этой своей стороной он всего ближе подходит к свирепой школе французских романистов.
Гверраци охотно останавливается на психическом анализе; но только не заходит глубоко в душу. Для этого он слишком итальянец, у него не подымается рука на серьезные замкнутые истины, особенно если они освящены некоторыми патриотически-либеральным авторитетом. Несмотря на это, он, однако ж, изумил и напугал своих современников именно тем, что пошел слишком далеко в отрицании. Выше мы видели, что даже Мадзини «обдавало холодом от его, полу-печальной, полу-эпиграмматической улыбки».
Герои Гверраци все преступники, томимые раскаянием, убедившиеся, что цель, которую они преследовали в большей части случаев кровавым путем, не стоила жертв и мучений, сопряженных с ее достижением. Но этого раскаянья далеко не всегда бывает достаточно, чтобы погрузить сильно одаренного человека в ту бездну нравственных мучений, которую автор предполагает за своими героями. Я говорю: предполагает, потому что Гверраци действительно только более или менее косвенными намеками дает знать читателю, что намерен свести его в один из самых ужасных адских углов, в который тень Виргилия по забывчивости не свела Данте. Но читатель нелегко верит этому, потому что действующие лица романов и повестей Гверраци в большинстве случаев вовсе не заслуживают столь жестоких наказаний. Иной его герой, которого он думает выставить самым мрачным злодеем, поправшим все божеские и человеческие законы и на свою беду сохранившим сознание своей преступности, в сущности оказывается просто добрым малым, или же недальновидным пройдохой, которого разборчивый Плутон, пожалуй, даже и не впустит в свое мрачное царство. Гверраци есть самое полное отражение байронизма в Италии; но тем не менее байроновская его сторона есть с тем вместе и самая слабая сторона его произведений. Это объясняется, может быть, не только личными способностями автора, сколько условиями итальянской среды, не особенно нуждавшейся в байронизме.
Но уже в первые свои произведения Гверраци вносит и свой собственный, самобытный элемент живой восприимчивости, пластического стремления к наслаждению жизнью помимо всяких общепринятых условий и приличий. Страстность эта тоже доводит его героев до преступления; но за ним следует не раскаяние, не разочарование…
Этот самобытный оттенок в Гверраци довольно робко проглядывает в первой его повести («Битва при Беневенто») в лице молодого стрелка из свиты короля Манфреда. Его пылкий нрав в противоречии с полулакейским званием, – мотив почти тождественный с «Рюи Блазом» В. Гюго, и обещает с первых же страниц живую и интересную драму. Но автор не сдерживает обещания. Он спешит дать своему стрелку самую аристократическую генеалогию, как будто она нужна для того, чтобы оправдать в его собственных глазах честолюбивую мощь молодого героя и его противо-этикетную любовь к молодой королевне.
Гораздо полнее и выдержаннее именно в этом отношении одна из последующих повестей – «Вероника Чибо», которую мы не затруднимся отнести к самым удачным из ряда чисто-художественных произведений Гверраци. Самая ее краткость составляет ее достоинство. Гверраци вообще трудно дается целость, психическое единство. Его причудливый юмор утомляет читателя; воображение дробится, перебегая с предмета на предмет, не находя на чем сосредоточиться. «Вероника Чибо», как картинка, недоделанная в подробностях, но проникнутая от начала до конца одним горьким, но невымученным чувством, производит более сильное впечатление. Содержание ее незатейливо; интерес не сосредоточен на одной личности, поставленной правда на ходули для того, чтобы она могла лучше заслужить благосклонное внимание публики.
IV
Отсутствие националистических и патриотических мотивов в поименованных выше произведениях Гверраци вовсе еще не доказывает, чтобы увлекаясь общеевропейским гуманитарным движением, он забывал свои обязанности гражданина угнетенной Италии. Теория искусства для искусства никаким образом не может считать его в числе хотя бы временных своих приверженцев.
«По моему, – говорит он, – совестливый писатель должен направлять все свои усилия к тому, чтобы его сочинения отвечали практически прямо полезной его отечеству цели». А в другом месте: «Отечество есть тот алтарь, на который и Авель, и Каин равно должны приносить свою жертву, как бы скудна она ни была. Я не превозношу до небес тех, которые, словно ангелы бесплотные, только и любят, что одну родину; но всеми своими привязанностями я считаю себя всегда обязанным поступиться для блага родины», и т. п.
Впрочем, самая жизнь Гверраци лучше всяких признаний и выписок служит опровержением часто взводившихся на него обвинений в отсутствии «итальянских чувств» и в политическом индифферентизме.
В самой первой молодости мы встречаем его деятельным и горячим приверженцем всех политических кружков, тогда очень немногочисленных в Италии. Вместе с Джусти и Леопарди он устраивает общество под названием «Accademia Labronica», не имевшее строго определенной цели и находившееся под влиянием недальнозоркого политика Коллетты[105]105
Пьетро Коллетта (Colletta; 1775–1831), неаполитанский общественный деятель, историк, жил в изгнании в Тоскане.
[Закрыть]. Эта не литературная деятельность Гверраци рано ознакомила его с тюрьмой и ссылкой и в то же время еще более убедила его в несостоятельности повального тогда в Италии мелочного политиканства. Не находя в себе силы создать, по примеру Мадзини, такие формулы, которые бы давали прочные устои итальянскому движению и выводили бы его из сферы узко-националистической в гуманитарную, Гверраци действительно в своей литературной деятельности как будто избегает затрагивать непосредственно наиболее насущные гражданств вопросы. Но уже с самого начала своей литературной карьеры Гверраци задался мыслью написать «Народную эпопею итальянского возрождения» и хотел олицетворить ее в своем романе «Осада Флоренции», вступительные главы которого он читал уже Мадзини в Монтепульчано в 1829 г. Это замечательное произведение появилось в свет (первоначально в рукописи, так как цензура не допустила ее в печать) более чем через десять лет спустя. Политические преследования, которым Гверраци подвергался постоянно, начиная с 1829 г., раздражали его восприимчивую натуру и заставили, по его собственному признанию, изменить первоначальный план этого романа. Вместо стройного художественного целого, которое он первоначально думал создать из «Осады Флоренции», он решился сделать страстный, жгучий дифирамб. «Нужен бешенный ураган, чтобы взволновать это море грязи, – пишет он в предисловии, – и моя “Осада Флоренции” будет этим ураганом. Я написал эту книгу, потому что не мог дать генерального сражения врагам Италии».
Лучшие люди итальянского общества отозвались на клич, обращенный к ним Гверраци. «Осада Флоренции» стала школой, в которой воспиталась марсальская Тысяча.
«Я убежден, – говорит Гверраци в своих записках, – что в том печальном положении, в какое мы сами поставили нашу родину, едва ли кто мог бы написать произведение более содействующее общему благу, чем моя “Осада Флоренции”. Я основываю это свое гордое сознание на том, что лучшая наша молодежь, читая эту книгу, чувствовала сильнее свой позор, свое угнетение. Мое сочинение не могло выйти лучше, чем оно есть: виною тому мое воспитание, гонения, которые я терплю с детства, наконец самая моя природа. Оно не могло быть хуже, потому что моя совесть не допустила бы меня написать чтобы то ни было иное… Моя совесть призывала меня к возрождению Италии, и я, по мере сил, исполнил ее призвание».
Таким образом автор сам дает нам мерку для оценки своей «Осады Флоренции». В его глазах это не столько художественное произведение, сколько «генеральное сражение, данное им врагам Италии», гражданский подвиг. Публика не безусловно приняла эту мерку и была права, потому что и с чисто художественной точки зрения этот роман представлял слишком много замечательного и нового. Мы не намерены останавливаться здесь над эстетическим разбором его красот и над указанием его довольно многочисленных недостатков, разбросанности, растянутости, напыщенно-лирических отступлений. Несомненно, что этот роман представляет собой образец совершенно нового вида исторического романа. Здесь историческая эпоха является не обстановкой какой-нибудь личной драмы, а история и драма отождествляются. Герой «Осады Флоренции» не Вико, сын Макиавелли; не мелодраматический изменник Джованни Бандини (измене которого приписывают падение Флоренции), ни даже Франческо Ферруччи, капитан Флорентийской республики, этот Гарибальди XVI в. Героиня здесь сама Флоренция, остававшаяся в рассказываемую эпоху такой же, какой она была в лучшие годы процветания итальянского муниципального быта – «пирамидой, в основании которой стоят Якопо Нарди, защищающий с дюжиной безоружных ребят (giovini) ратушу против войск Медичи, Микеланджело Буонаротти, собственноручно копающий ров вокруг укреплений, созданных по его плану, подчиняющий сознанию обязанностей гражданина свою гениальность; а на вершине – робкие старцы della Signoria[106]106
Синьория – орган самоуправления.
[Закрыть], забывшие, что есть на свете неподдельный энтузиазм, рыдающие при восторженных речах гонфалоньера Кардуччо, готовые на уступки, на признание правления оптиматов, лишь бы сохранить на плечах свои старческие головы и удержать свои не менее пустые, не менее дряхлые привилегии».
«Моему роману (мы опять цитируем самого автора) следовало быть народной эпической поэмой, а потому я решился на место той бледной личности, вокруг которой романисты школы Вальтер Скотта обыкновенно группируют все события, поставить целый народ, национальную идею».
Эпоха, которую выбрал Гверраци, представляла ему все, что он только мог пожелать, чтобы выставить свой художественный прием в наиболее выгодном для него свете. Падение итальянской муниципальности представляет собой именно один из исторических моментов, полных невыдуманного, живого, быстро развивающегося, чисто драматического интереса. Люди особенно мощного закала, восприимчивые, деятельные на добро и на зло, группируются блестящей плеядой в обоих лагерях. Карл V, папа Климент VII, Филипп Оранский, Бандини; а со стороны Флоренции – Ферруччи, Кардуччо, Данте Кастильоне, Микеланджело, и главнейшим образом народ – popolo magro гвельфских муниципальных республик, – этот своеобразный исторический элемент, который не имеет себе элемента ни в одной европейской истории. Эффектность неравной борьбы, в которой город, имеющий всего 7000 жителей, отвыкших от войны, поглощенных торговой деятельностью, – держится один против сильной лиги папы и императора, – эффектность эта, еще более усиливается тем трагическим значением, которое имело падение Флоренции для Италии вообще. С падением Флоренции гражданская жизнь Италии кончилась. Осталось много порывов прекрасных, великодушных порывов, но разрозненных, почти не имевших смысла в самой Италии, где их никто не оценил и не понял. И после этого много итальянских имен прославились в науках, в художествах, подвинули вперед общеевропейское развитие; но все это не находило отзыва в самой Италии. Ее пьеса была сыграна, занавес опущен. Крепкие руки держали его, и антракт продолжался более двух веков: до самого наполеоновского вторжения.
Пересказать содержание разбираемого романа чрезвычайно трудно: пришлось бы перечислять разрозненные эпизоды последнего момента трагической борьбы, итальянской муниципальной борьбы против общеевропейского унитарно-государственного и авторитетного строя. Ряд превосходно начерченных исторических картин составляет главнейшую прелесть особенно начала «Осади Флоренции». Во второй его половине становится уже чересчур очевидно, что автор оставил свой план создания художественно-народной эпопеи и торопливой рукой набрасывает краски, спеша создать свою «дикую бурю», которая должна рассеять и освежить уже чересчур сгустившуюся миазматическую атмосферу. И эта торопливость исполнения портит не одну только художественную сторону произведения: инстинкт необузданной мести, преобладающий во второй части сочинения, вводит Гверраци в противоречие с самим собой, заставляет его платить непомерную дань той итальянской патриотической исключительности, против которой он восставал всей своей предыдущей и значительной частью своей последующей деятельности. Здесь встречаются дикие личности в роде Мортичино дельи Антинори. Если в лице изменника Джованни Бандини Гверраци (по его собственному толкованию) хотел доказать, «до чего доводит слепая ярость, когда она направлена против родины», то в лице Мортичино он, может быть неумышленно, показал, что это качество немногим похвальнее и в том случае, когда она находит себе оправдание в огуловом всеобщем патриотическом настроении. Обычный и основной гуманизм Гверраци во второй части «Осады Флоренции» заявляет себя только тем, что не допускает автора увлечься подобными зверскими проявлениями даже в сочувственном ему лагере: он не прикрашивает их, не идеализирует, а просто поставляет их на вид читателю во всей их возмутительной наготе.
В первой главе романа Гверраци вводит читателя в комнату умирающего Макиавелли, которого он заставляет перед смертью говорить очень длинную поучительную речь, собравшимся вокруг него друзьям. Друзья эти – Ферруччо, которому он, как достойнейшему, препоручил своего сына Вико; Данте Кастильонский; монах фра Бенедетто Фойянский, ученик Савонаролы; Мартелли и поэт Аламанни, только что вернувшийся из изгнания – все, игравшие очень важную роль в политических событиях, последовавших немедленно за смертью Макиавелли во Франции. Заставлять умирающего дряхлого старика говорить в течение нескольких часов сряду, цитировать целые страницы из своих сочинений, – конечно, большой промах в романисте. Но Гверраци до такой степени верно передает существенный характер знаменитого секретаря Флорентийской республики, которого жизнь и воззрения опередившие свой век своей трезвой реальностью, были столь дурно поняты и подали повод ко многим нелепым подозрениям и обвинениям, что читатель, пораженный этой высшей правдой, даже и не замечает романической натяжки. Макиавелли перед смертью забывает все и помнит только Флоренцию, над которой уже готова разразиться гроза. Те слова, которые говорит он перед смертью своим друзьям, выясняют его характер и его сложную политику несравненно лучше, чем могли бы сделать целые тома критических рассуждений и исследований. Кроме того, они знакомят читателя с эпохой действия, заставляют его с живым интересом следить за дальнейшим ходом событий, решающих судьбу муниципально-республиканской Италии, и которые Макиавелли предвидел. Затем вы уже как с знакомыми встречаетесь с героями этой гигантской борьбы, хотя бы встречали их имена первый раз на страницах «Осады Флоренции»… И до самого конца длинного романа вы видите перед собой образ Макиавелли, совмещающего в себе одном всю мудрость последних лет итальянской муниципальной истории, умирающего в то самое время, когда он всего нужнее для отечества…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































