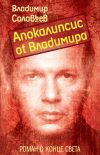Читать книгу "Умозрение и Апокалипсис"

Автор книги: Лев Шестов
Жанр: Эзотерика, Религия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Х
Соловьев до последних дней своих не хотел это признавать: «для философа по призванию нет ничего более желательного, чем осмысленная или проверенная мышлением истина; поэтому он любит самый процесс мышления, как единственный способ достичь желанной цели и отдаться ему без всяких посторонних опасений и страхов».[34]34
Соч., VIII, 152 (Теоретическая философия).
[Закрыть] «Осмысленная», «проверенная мышлением» истина! Как будто бы и в самом деле так просто и ясно. Несколько дальше он заявляет: «Существенная особенность философского умозрения состоит в стремлении к безусловной достоверности, испытанной свободным и последовательным (до конца идущим) мышлением». Но ведь и Ренан только и стремится, что к проверке и достоверности: сколько раз он об этом говорит. «Только наука чиста… Ее обязанность доказывать, а не убеждать или обращать… Одна наука ищет чистой истины. Только она приводит достаточные основания для истины и вносит строгие критические приемы в свои доказательства».[35]35
Renan. “Orig. du Christianisme”, I, XXVIII (Предисловие).
[Закрыть] Правда, как я уже указывал, Ренан не слишком задумывается над тем, что такое «достаточные основания» или «строгие критические приемы». Он, как многие ученые, даже перворазрядные, в этом отношении отличается большой наивностью – он даже не чувствует, какие тут заключаются трудности. Как пример (все из того же предисловия) – его слова: «мы отвергаем сверхъестественное на том же основании, на котором отвергаем существование центавров: никто их не видел». Когда-то Ларошфуко не менее уверенно (и наивно) заявлял: «с великими страстями обстоит так же, как и с привидениями: все о них говорят, никто их не видел». Очень остроумно, очень импонирует – спору нет. Но «достаточных оснований» и «строгих критических приемов» тут и под лупой не разглядишь. Откуда известно Ларошфуко, что никто никогда не видел великих страстей или привидений? Или Ренану – центавров и сверхъестественного? Переспросили они, что ли, всех когда-либо живших людей? И затем, если бы кто-нибудь им сказал, что своими глазами видел, разве они бы поверили ему? Ясно, что «видение» – тут ни при чем. И Ларошфуко и Ренан вперед знают, что ни великих страстей, ни привидений, ни сверхъестественного нет и быть не может и отсюда заключают, что никто ничего подобного видеть не мог. Основания – не слишком «достаточные» и приемы не очень строго критические! И это называется «свободным» исследованием… Но то Ренан и Ларошфуко – а ведь Соловьев хотел быть философом, и ему уже никак не полагалось прибегать к таким легковесным соображениям. Но, видно, и философы не так озабочены «доказательностью», как это принято думать, и не слишком тоже дорожат «свободным» исследованием. У них иная забота!
Соловьев, вообще говоря, человек сдержанный, в очерках теоретической философии не может удержаться от бранных слов по адресу своего воображаемого теоретического противника. Он пишет: «если на ваше заявление… какой-нибудь самоуверенный потомок второго сына Ноева возразит и т. д.». Теоретический спор – и вдруг брань – да еще какая: потомок второго сына Ноева, т. е. хамское отродье. И это не случайно вырвавшееся слово! При спорах о «последних основаниях» наступает момент, когда все так называемые доказательства исчерпываются и приходится искать иных способов защиты своих истин. И тогда выясняется, что вовсе и не в достоверности дело, что нужно совсем не убедить инакомыслящего, а принудить к соглашению и что если увещания не действуют, то надо его посрамить, опозорить. Вот почему в «Теоретической философии» нашлось место для таких слов, как «потомок второго сына Ноева». То же можно было бы сказать, и обычно говорится, иначе. Например: «человек существует достойно, когда подчиняет свою жизнь и свои дела нравственному закону и направляет их к безусловно нравственным целям».[36]36
Вл. Соловьев. «Национальный вопрос в России». Предисловие.
[Закрыть] Это литературнее, спокойнее – но под этим скрывается все то же «хамово отродье». Недаром Соловьев так много говорил о стыде и хотел свою этику обосновать на чувстве стыда. Вы видите, что и гносеологии, т. е. учению о достоверности нашего познания, приходится оберегать свои права теми же способами, что и этике. Если не принудить человека, он, очевидно, ни за что не согласится окончательно и навсегда принять ни устанавливаемые Соловьевым «достоверности», ни восхваляемые им нормы.
Бывают, правда, люди, которых ни брань, ни угроза не проймут, а обещаемые награды не соблазняют: на брань они ответят бранью, а на обещание наград – издевательством. Соловьеву это следовало бы знать – ведь он читал Достоевского: не только «Записки из подполья», но и его последние вещи («Кроткая», «Сон смешного человека»), написанные в ту пору, когда они были близки и в Оптину Пустынь вместе ездили. Что же, он и по поводу Достоевского вспоминал о втором сыне Ноевом? Ведь как раз Достоевский в названных произведениях – да и во многих других – издевается над нашими достоверностями и очевидностями и даже над всем «высоким и прекрасным». Но Соловьев «прощал» Достоевскому подпольного человека за старца Зосиму, не замечая, по-видимому, что настоящий святой – это вечно мятущийся человек из подполья и что старец Зосима – только обыкновенный лубок; голубые глаза, тщательно расчесанная борода и золотое колечко вокруг головы.
Соловьев весь был во власти того, что Гарнак назвал das Hohelled des Hellenismus. Оттого, вопреки его уверениям, что он ищет Бога, он искал только истины и добра. Точно подражая Толстому или Маркиону, он писал: «та воля, с которой мы рождаемся, воля нашей плоти, подчинена природе, а природа подчинена греху, господствующему в ней. Пока мы действуем только от себя или от своей воли, мы неизбежно действуем от греха, как рабы и невольники греха».[37]37
«Духовные основы жизни», 293.
[Закрыть] Или еще сильнее: «преграда, отделяющая от сущего добра или Бога (так и написано – „сущего добра или Бога“ – чем не Толстой?), есть воля человека. Но этою же самою волею человек может решиться не действовать от себя и от мира, не поступать по своей мирской воле. Человек может решить: я не хочу своей воли. Такое самоотречение или обращение человеческой воли есть ее величайшее торжество… Бог не хочет быть внешним фактором, который невольно навязывается нам: Бог есть внутренняя истина, которая нравственно обязывает нас признать ее. Верить в Бога есть наша нравственная обязанность».[38]38
Ib., 282.
[Закрыть] Все это общие места философии, все это можно найти и у Гегеля, и у Шеллинга, и у любого представителя немецкого идеализма. Но хотя немецкие философы всегда очень хлопотали о том, чтобы связать свои идеи с христианством – ведь Соловьев все же восставал против них, говорил о «кризисе» западноевропейской мысли и искал нового слова в Священном Писании. И вдруг вместо нового он повторяет старые слова и еще с большей настойчивостью, чем его учителя, подчеркивает зависимость религии от морали и принудительность (хотя бы внутреннюю – разница не велика!) истины откровений. Ни Гегель, ни Шеллинг так не наседают: верить в Бога есть наша нравственная обязанность. Почему «обязанность»? Откуда у Соловьева страх, что если он не обяжет, не свяжет человека, то человек Бога не примет? Разве вера в Бога есть обязанность? Ведь вера в Бога есть великая прерогатива человека, дар небес, сравнительно с которым все остальные дары кажутся ничтожными или, лучше сказать, без которого жизнь и все, что есть в жизни, становится призрачным, почти не существующим. Можно ли говорить о Боге, как об обыкновенной земной истине, которая обязывает, принуждает – нравственно или как-нибудь иначе? И что тогда остается от свободы?
Правда, так почти говорил Шеллинг. Почти – потому что Шеллинг был большим мастером своего дела и умел с несравненным искусством подавать под видом «философии откровения» свое умозрение и свою мораль. Он, конечно, тоже ценит только принудительную, принуждающую истину. И тоже, хотя прославляет свободу, требует прежде всего от людей покорности истине. Приведу несколько его суждений, главным образом, из той статьи, которая имела особенное влияние на Соловьева. Она называется «О сущности человеческой свободы». Больше всего Шеллинг ненавидит, как и полагается философу, случайность, произвол и человеческую «самость». Он, конечно, по-своему прав. «Философский ум должен объяснить факт существования мира».[39]39
Schellings Werke, Auswahl, Bd III, 515.
[Закрыть] А как объяснить, пока такие вещи, как случай, произвол и самость, существуют на свете? Поэтому выставляется еще одно положение: an sich zweifelhaft ist alles was ein Sein und nicht Sein-Könnendes ist.[40]40
Ib., Ill, 627.
[Закрыть][41]41
Сама по себе двойственность есть все, чем является бытие и невозможность быть (нем.).
[Закрыть] Раз это установлено, раз мы уверились, что несомненно существует только то, что (по нашему, конечно, разумению) может существовать – открывается широкий путь умозрению и принуждающей истине. Шеллинг уже вправе заявить: «случай невозможен, случай противоречит разуму и необходимому единству целого; и если бы свободу нельзя было спасти иначе, то ее нельзя было бы спасти». Потому «произвольное добро так же невозможно, как и произвольное зло. Истинная свобода гармонирует со святой необходимостью, т. к. дух и сердце, связанные только своим законом, добровольно утверждают то, что необходимо».[42]42
Ib., 479 и 487.
[Закрыть] Зачем все это говорится, зачем так настаивает Шеллинг на том, что истинная свобода гармонирует со святой необходимостью и зовет нас к добровольному утверждению того, что необходимо? Пусть он сам собственными словами отвечает на эти вопросы. Вы сейчас увидите, чего он добивается, и, может быть, поймете, чего добивался Соловьев, веривший по русской традиции, что Шеллингу удалось построить «философию откровения» и разрешить или положить начало разрешению «кризиса» западноевропейской мысли. Вот что пишет Шеллинг: «общая возможность зла состоит, как показано, в том, что человек свою самость (Selbstheit) возводит в господствующее начало и во всеобщую волю (Allwillen), вместо того, чтобы видеть в ней основание и орган, – а духовное в себе превращает в средство. Если в человеке темный принцип самости и своеволия совершенно проникается светом и с ним совершенно соединяется, тогда Бог, как вечная любовь или как истинно существующее, есть в нем связь сил».[43]43
Ib., 486.
[Закрыть] Для Шеллинга, как и для Соловьева, Бог есть «связь сил». Больше всего он боится, как бы эта «связь» не распалась. Оттого он ополчается на самость с ее своеволием. И, как всегда в таких случаях делается, клевещет на самость, вернее, валит с больной головы на здоровую. Самость отнюдь ведь не стремится превратиться в Allwillen. Такого рода стремления существуют в мире – но только самости они не захватывают. Иное дело своеволие (Шеллинг мог бы – и это было бы справедливее – говорить о свободе: ведь он борется, и ему не до справедливости). Самость действительно своевольна, своеволие ее родная, изначальная стихия. Но своеволие ничего общего не имеет с жаждой неограниченного господства. Как раз наоборот, своеволие, и именно то своеволие, которое мы наблюдаем в живом человеке (т. е., по Шеллингу, в самости), тяготится господством. И если иногда бывает иное, то это, так сказать, уже позднейшая формация, точнее деформация самости. К господству тянутся иные силы – прямо противоположные самости, то, что называется общими принципами и началами. Они сами воли не имеют, и воли в других не допускают и не выносят. С тех пор, как люди начали «мыслить» в угоду той теоретической потребности, без удовлетворения которой ценность жизни становится сомнительной, с тех пор, как они уверовали, что мышление есть «единственный способ» достичь высшей цели жизни, с тех только пор идея «господства» получила такое обаяние и стала прельщать умы. У Шеллинга бывали мгновения, когда он как будто бы прозревал, когда он чувствовал, что обычный метод разыскания истины – подведение человека под власть начала или принципа – не может привести к «откровению». Его заражал иногда пример Якоби, которого он (особенно в молодости своей) так безжалостно критиковал. Но дух Гегеля все-таки брал верх над ним. «Der Begriff ist nur contemplativ und hat mit der Notwendigkeit zu tun, während es hier um etwas ausser der Notwendigkeit liegendes, um etwas gewolltes handelt»,[44]44
Ib., 706.
[Закрыть][45]45
Понятие только созерцательное и имеет дело с необходимостью, тут же имеется в виду нечто находящееся вне необходимости, что-то своевольное (нем.).
[Закрыть] – писал он. И даже еще решительней: «Persönlich nennen wir ein Wesen gerade nur, inwiefern es ihm zusteht ausser der Vernunft, nach eigenem Willen zu sein».[46]46
Ib., 637.
[Закрыть][47]47
Личностью мы называем существо лишь постольку, поскольку оно может существовать помимо разума и по своей собственной воле (нем.).
[Закрыть] Но – это только вспышки мгновенного света, так же быстро погасающие, как и неожиданно загорающиеся. В глубине души Шеллинг был убежден, что философия откровения, как и всякая философия, должна стремиться к общему и необходимому и что личность находит свое оправдание и свой смысл лишь постольку, поскольку она покорно занимает предназначенное ей место в общем и добровольно подчиняется необходимости, потому именно и называемой святой необходимостью. В 1850 году престарелый Шеллинг заканчивает свою речь «об источниках вечных истин» тем же стихом Гомера, которым заканчивает Аристотель свою метафизику. Он, для торжественности, приводит его в подлиннике – я дам в русском переводе: Не хорошо многовластие; да будет единый господин. Идея «всеединства», предполагающая, конечно, идею господства, никогда не покидала Шеллинга – ни в молодые годы, когда философия тождества вполне удовлетворяла его «теоретическую потребность», ни в старости, когда на место философии тождества пришла философия откровения. Правда, Шеллинг «второго периода» постоянно говорил о Боге, но совершенно очевидно, что Бог призывается лишь затем, чтоб насытить теоретический голод. «Можно было бы сказать, – пишет Шеллинг, – Бог, собственно говоря, есть сам по себе ничто»; он не что иное, как отношение и только отношение, потому что он только господин… Он в самом деле существует, так сказать, ни для чего другого, как только затем, чтоб быть господином бытия». Он уверяет, что это единственное определение Бога, признаваемое христианством. В пояснение своей мысли он цитирует слова Ньютона: «Deus est vox relativa et ad servos refertur»; и еще: «Deus est dominatio Dei no in corpus proprium, sed in subditos».[48]48
Бог – понятие относительное и относится к слугам. Бог есть господство не в самом себе, но в подчиненных (лат.).
[Закрыть] И у Ньютона, и у Шеллинга Deus сам собою превращается в Deitas, Dominus – в Dominatio.[49]49
Бог, Божество, Господь, господство (лат.).
[Закрыть] Правда, он приводит еще слова Ньютона, которые будто бы нас приближают к библейскому представлению о Боге: «Deus sine dominio et causis finalibus nihil aliud est quam Fatum et Natura»,[50]50
Бог без господства и конечной цели есть не что иное, как рок и природа (лат.).
[Закрыть] но сейчас же возвращается к своему. «Gott ohne Herrschaft oder, wie ich mich künftig ausdrücken werde, Gott ohne Herrliehkeit, da dies die wahre und ursprüngliche Bedeutung des Worts ist: Gott ohne Herrliehkeit wäre blosses Fatum und Natur… Dieser Satz steht auf jeden Fall fest… Dies muss festgehalten werden, dass Gott, so wie Er ist, Herr ist».[51]51
Бог без господства, или, как я впредь буду несколько искусственно выражаться, Бог без великолепия – ибо это есть истинное и первоначальное значение этого слова – Бог без великолепия был бы просто роком или природой… Это утверждение безусловно… Надо твердо усвоить, что Бог как таковой есть господин (нем.).
[Закрыть] Думаю, что читатель не посетует на меня за обильные выписки из Шеллинга. Если бы место позволяло, нужно было бы их удвоить или утроить. Шеллинг имел огромное влияние на русскую философскую мысль. У нас все были убеждены, что с него начинается новая эра, что он отрекся от гегелевской диалектики и искал истину в Откровении. Но – повторю еще раз: Гегель преследовал Шеллинга не только при жизни, но и после смерти. Шеллинг о том лишь и мечтал, чтоб быть таким, как Гегель. Оттого он видит в Боге прежде всего властителя, и даже не властителя, а власть, оттого для него Herrschaft равнозначаще с Herrliehkeit и в Боге он видит Божество. Оно так и быть должно: из Бога ничего не выведешь – Бог, как и созданная им «самость», своеволен, но из понятия Божества уже можно беспрепятственно выводить. А в этом ведь задача всякой диалектики, не только гегелевской: найти первое общее понятие, из которого потом сама собой, естественно вытекает вся наша сложная действительность. Гегель называл это Selbstbewegung des Begriffs.[52]52
Самодвижение понятия (нем.).
[Закрыть] Шеллинг беспощадно высмеивал гегелевское «самодвижение понятия» – там, где Гегель показывал самодвижение, Шеллинг ясно различал руку философа, подталкивающего понятие. Но, высмеивая Гегеля, Шеллинг делал то же, в чем он упрекал своего врага. Ибо, если нет «самодвижения», если нет «саморазвития», как тогда доказывать, как «объяснять факт вселенной», как философствовать? Философия, то, что все обычно под философией разумеют, становится не то, что невозможной – но как будто и ненужной. Не нужно ни господина над бытием, не нужно и господства. Для Шеллинга же сущность Herrliehkeit в Herrschaft, как мы сейчас от него слышали, без Herrschaft он никакой Herrliehkeit не примет, т. е. без твердого закона ему и мир не мил. Почему, спросите вы. Но ведь Соловьев уже за него ответил: в нас существует теоретическая потребность, без удовлетворения которой ценность жизни становится сомнительной.
XI
Мы видим, что не отдельные «самости» стремятся поставить себя во главе мироздания и превратиться в Allwillen, единую для всех волю. По-видимому, есть что-то в мире, что ставит себе задачей покорить все живое, все «самости», как говорят на своем «умышленном» языке немецкие идеалисты и их верный ученик Соловьев. Это загадочное «что-то» ищет и вечно искало господства, и ему безропотно и безвольно покорились эллинские мудрецы, – они же в этой покорности усмотрели победу духа над материей. Fata volentem ducunt, nolentem trahunt – говорили Цицерон и Сенека, как бы нехотя признаваясь в том, что более тонкие философы предпочитали держать про себя. Древние, по-видимому, чувствовали, что они вовсе не добровольно идут, что их насильно влечет куда-то непобедимая роковая сила. Но говорить об этом они считали недозволенным. Это не согласно было с их представлением о философском достоинстве: какой это такой философ, если его насильно, точно пьяного в участок, тащат! Они предпочитали делать вид, что их не тащат, а что они сами, по своей охоте, идут и всегда твердили, что их охота совпадает с тем, что им уготовила судьба. Это значат и слова Шеллинга – «истинная свобода гармонирует со святой необходимостью» и «дух и сердце добровольно утверждают то, что необходимо». Тот же смысл и в утверждении Соловьева: «человек может решить: я не хочу своей воли. Такое самоотречение или обращение своей воли есть ее высшее торжество». Как и в этике, так и в теории познания у Соловьева впереди всего одна забота: отделаться от живого человека, связать, парализовать его. Он это выражает так: «забыть о субъективном центре ради центра безусловного, всецело отдаться мыслью самой истине – вот единственно верный способ найти и для души ее настоящее место: ведь оно зависит от истины, и ни от чего более». Как и книги немецких идеалистов, книги Соловьева полны такого рода утверждениями. Истина и добро ведут у него непрерывную и беспощадную борьбу с тем, что на школьном языке называется «эмпирическим субъектом», но что по-русски значит с живым человеком. Все искусство, вся диалектика направлены к тому, чтоб доказать, что право повелевать и распоряжаться дано истине и добру, а что благо человеческое и смысл человеческого существования в том, чтоб слушаться и исполнять приказания. Так учили древние, так учили Шеллинг и Гегель. Полагаю, что читателю не бесполезно будет, прежде чем перейти к обсуждению державных прав истины и добра, которые с таким верноподданническим вдохновением отстаивает Соловьев, послушать еще и Гегеля.
Нравственные законы не делаются и не выдумываются – «sondem sie sind und weiter nichts… So gelten sie der Antigone des Sophokles als der Gotter ungeschriebenes und untrügliches Recht:
Nicht etwa jetzt und gestern, sondern immerdar
Lebt es, und keiner weiss, von wannen es erschien.
Sie sind… Wenn sie sich meiner Einsicht legitimieren sollen, so habe ich schon ihr unwankelndes Ansichsein bewegt, und betrachte sie als etwas, das vielleicht wahr, vielleicht auch nicht wahr für mich sei. Die sittliche Gesinnung besteht aber eben darin, unverrückt in dem fest zu beharren, was das Rechte ist und sich alles Bewegens, Rüttelns und Zurückführens desselben zu enthalten».[53]53
(Ср. у Соловьева VII, 225—31, где Соловьев тоже говорит о Софокловой Антигоне и почти что пересказывает Гегеля.)
[Закрыть][54]54
Законы существуют, и больше ничего… Таким образом, они имеют силу для Антигоны Софокла как неписанное и непременное право богов:
[Закрыть] Я нарочно привожу в подлиннике эти слова Гегеля: перевод никогда не передаст того благоговейного тона и торжественного пафоса, которыми они исполнены. Не только Соловьеву – самому Шеллингу никогда не удавалось подняться на такую «высоту» в своих философских парениях. Гегель не рассуждает, не аргументирует: он молится, и поклоняется, и повелительно требует, чтоб все вместе с ним молились и поклонялись. Поклонялись законам, которые вперед оправданы тем, что не хотят ни пред кем оправдываться, не хотят даже рассказать, откуда и когда они пришли. Всякая попытка не то что отказать им в повиновении, но хотя бы допросить их, вперед рассматривается, как бунт и мятеж. Не менее чем законы нравственности требовательны и законы мышления. «Indem ich denke, gebe ich meine subjektive Besonderheit auf, vertiefe ich mich in die Sache und lasse das Denken für mich gewähren, und ich denke schlecht, indem ich von dem Meinigen etwas hinzutue».[55]55
Пока я мыслю, я отрекаюсь от своей субъективной личности и углубляюсь в вещь и предоставляю мышлению действовать за себя, и я плохо мыслю, когда прибавляю что-либо свое (нем.)
[Закрыть]
Кто кого обучил, истина ли добро или добро – истину, но мы видим из приведенных мною показаний сведущих людей, что и у истины, и у добра одна забота: поставить себя впереди и во главе всего бытия. Так что, если в стремлении к неограниченному господству видеть, как Шеллинг, начало зла, то его нужно искать не в индивидуальной личности, к этому нисколько непричастной, а в тех высших принципах, поклонение которым принято считать поклонением в духе и истине. Отдельная личность, спору нет, своевольна. Она хочет многого и различного. Хочет сегодня одного, завтра – другого. Но ей никогда не приходит и на ум, как гегелевскому или шеллинговскому добру или их же истине, делать свои хотения обязательными для всех. Наоборот, она и в других больше всего на свете любит то своеволие, которое она в себе ценит, как первое условие жизни. Но обычная и давняя клевета философов на «самость» в том именно и состояла, что они ей приписывали стремление к господству, в то время, когда, наоборот, такое стремление в природе того, что они всегда брали под свою защиту и охрану – в природе начал, «вечных законов», «неизменных принципов». Принципы и начала не понимают и не признают своеволия – это так. Им это не нужно: они ведь ничего не чувствуют: не знают ни радостей, ни горя, ни тревоги, ни надежды. Им нужно только – да и то «нужно» здесь можно только сказать лишь метафорически: им и это не нужно – чтоб были порядок и твердая неизменность. Они суть, они существуют, и не только не хотят оправдываться пред живыми существами (чуют своими мертвыми душами, что, если дойдет до оправдания – все пропадет), но даже не позволяют поднимать и вопрос об оправдании. Мы есьмы – и есьмы прежде, чем вы все «эмпирические субъекты», стало быть, не мы к вам, а вы к нам на суд попадете – говорят они своим немым и тоже мертвым языком.
И вот мы были свидетелями: лучшие философские умы соблазнялись мертвыми речами мертвых сущностей. «В начале было добро и истина» – нужно им поклониться, нужно на них молиться. И вырвать из себя все, что протестует и возмущается против неизвестно когда и откуда пришедших властителей. Это называлось и сейчас называется философией. Людям кажется, что, если они возьмут сторону сильных, то их – не то что помилуют, их тоже не помилуют, – но они будут вместе с властителями, им достанется часть власти. Herrschaft и, стало быть, на них распространится свет той Herrlichkeit, о которой нам рассказал Шеллинг. И они не добровольно, конечно – какая живая душа добровольно пойдет на такое дело! – но все же записывались в «слуги и поденщики истины» (Фихте так именно и говорил) и гасили в себе и в мире все, что способно было противиться и бороться с великим искушением.
И как будто добились своего. Мы слышали, как Соловьев возвестил, что величайшее торжество в отречении от своей воли. И ведь точно – торжество! Если убить в себе живую волю, если отречься от своей личности, теоретическая потребность получит высшее удовлетворение, т. к., кроме как живому человеку с его изменчивыми и капризными желаниями, некому будет нарушать от века установленный порядок и мешать спокойному саморазвитию духа и самодвижению понятий. Ведь не камни же или бревна возопиют, не треугольники же и круги восстанут против неизвестно кем и когда навязанных им законов! Если и людей, вообще все живые существа, заворожить так, чтоб они, точно камни и треугольники, во всем безвольно покорялись, как не радоваться, не торжествовать, не праздновать победу? Как не грянуть тогда das Hohelied des Hellenismus, ту песню песней «чужому Богу», которой греческое «мышление» одарило культурное человечество?
Теперь, думаю, понятно, почему Пушкин не был для Соловьева «мыслителем» и казался ему недостаточно нравственным человеком. Но тогда нужно признать, что и библейский Иов не был мыслителем и что его нравственные качества оставляли желать многого. И, в самом деле, книга Иова больше всего оскорбляла эллинскую образованность. Соловьев о ней почти не упоминает. А вспомнить очень следовало бы – хотя бы не затем, чтоб поучиться у Иова, а чтобы привлечь его к суду и осудить, как Соловьев осудил Пушкина и Лермонтова. Ведь спору быть не может: не Иов с его «воплями» «прав», а правы его друзья, которые принесли ему свои метафизические утешения. «Я покажу тебе, послушай меня; и что я видел, то расскажу тебе. Что мудрые возвестили и не сокрыли от отцов своих». Пред лицом Иова его друзья развивают те же мысли о «самости» и «своеволии», которые мы только что слышали от Шеллинга, Гегеля и Соловьева. Но Иов не унимается: «вы, люди, сплетающие ложь, врачи бесполезные все вы. О, если бы вы молчали! Это было бы вменено вам в премудрость» (XIII, 4, 5). Или – «слышал я много такого: скучные вы все утешители» (XVI, 2). «Земля, не закрой моей крови, и да не будет остановки воплю моему» (XVI, 18). Вся книга – это одно непрерывное состязание между «воплями» многострадального Иова и «размышлениями» его благоразумных друзей. Друзья, как истинные мыслители, глядят не на Иова, а на «общее». Но Иов об «общем» и слышать не хочет, он знает, что общее глухо и немо – и с ним нельзя разговаривать. «Я к Вседержителю хотел бы говорить, и представить мои доказательства Богу желал бы» (XIII, 3). Друзья в ужасе от слов Иова: они убеждены, что с Богом нельзя разговаривать и что Вседержитель озабочен прочностью своей власти и неизменностью своих законов, а не судьбами созданных им людей. Может быть, убеждены, что он вообще не знает никаких забот, а только властвует. Оттого и отвечают: «О ты, терзающий душу свою в гневе своем! Ужели для тебя опустеть земле и сдвинуться скале с места своего?» (XVIII, 4). И точно, неужто из-за Иова скалам сдвигаться? И необходимости поступиться святыми правами своими? Ведь это предел человеческого дерзновения, ведь это «бунт», «мятеж» одинокой человеческой личности пред вечными законами всеединства бытия! Так должен был бы и Соловьев говорить с Иовом – ведь так приблизительно он говорил по поводу судьбы Лермонтова или Пушкина! Или, вы думаете, что пред лицом живого Иова он стал бы «мыслить» иначе и догадался бы, что бывают случаи, когда молчание становится премудростью? Может быть, с живым он бы не стал так говорить, верней всего, что не стал бы так говорить. Но так как он в своей «философии» старался «мыслить» так, как если бы он сам не был живым человеком и как если бы вообще на свете не было живых людей, то все, что он писал, было как бы повторением речей Елифаза, Вилада и Елигу. Про Иова они говорили, что он пьет хулу, как воду, а про себя каждый из них уверял: «наверное неложны слова мои, беспорочно мыслящий пред тобой» (XXXVI, 4). Совсем так, как Соловьев с Пушкиным и Лермонтовым разговаривал.
Но библейский Бог, как известно, рассудил иначе. В конце книги Иова мы читаем (XLII, 7): «сказал Господь Елифазу, Фемянитянину: возгорел гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы не говорили предо Мною так справедливо, как раб Мой Иов». Т. е. беспорочное (иначе «достоверное») мышление друзей Иова, как жертва Каина, отвергнуто Богом, а «вопли» Иова Бог призрел.
Книга Иова, в которой «вопли» торжествуют над «мышлением», в которой Бог признает, что ради человека может быть нарушен вечный порядок природы и скалы могут сдвигаться с мест своих, казалась грекам наиболее возмутительным из того, что мог придумать и сказать смертный. Для них было аксиомой, что «целое первее частей своих и ими предполагается». Эти слова я, правда, взял из речи Соловьева об Огюсте Конте[56]56
VIII, 233.
[Закрыть] – но идея не ему принадлежит, хотя он ее по всяким поводам многократно развивает. Идея стара, как и сама философия, и являлась всегда краеугольным камнем, на котором держались умозрительные системы как древности, так и нового времени. Сущность и смысл самого понятия «умозрения» – умного зрения в том и состоит, что человек приучается видеть в себе часть единого целого и убеждает себя, что смысл его существования, его «назначение» – безропотно и даже радостно сообразовать свою жизнь с бытием целого. В машине винты, колеса, передаточные ремни и т. д. Но и люди, из которых образуется вселенная, и отдельные части, из которых составляется машина, сами по себе значения не имеют. Смысл их бытия лишь в том, чтоб «целое» – машина в первом случае, мир – во втором, беспрепятственно функционировали и непрерывно двигались в однажды навсегда установленном направлении. Умное зрение открыло «всеединство» (еще Фалес «увидел», что все есть вода, одна и та же вода) – и идея всеединства, идея целого, объединяющего бесконечное множество частей, стала и доныне остается основоположением философии. «Объяснить», «понять» мироздание значит показать, что все части, из которых оно составляется – и живые люди и неодушевленные предметы, имеют чисто служебное назначение – они должны слушаться, подчиняться, повиноваться.
Правда, Соловьев, как Шеллинг и Гегель, постоянно говорит о свободе. Но вся свобода его свидится, как и у немецких идеалистов, к свободе повиноваться. «Истина» оставляет за собой исключительное право решать, что есть добро и что есть зло, и решает вперед, что добро вовсе не в том, что человек любит, и зло не в том, что ему противно и ненавистно. Добро в том, что истина похвалит человека, зло в том, что она его укорит. И в похвалах истины человек обязан видеть свое высшее благо. О том, чтоб человеку самому была предоставлена свобода решать, что есть зло и что есть добро, не может быть и разговора. Такая свобода отрицается не только за человеком, но и за Богом. И Бог нравственно обязан идти по путям, указуемым добром. Если Бог не покорится, если он предпочтет неистовство и юродство Иова мудрым и разумным речам его друзей – то он дурной Бог и нужно ждать нового, чужого Бога, который, как учил Маркион, вырвет людей из власти Творца, выведет их из созданного им мира и даст им настоящую жизнь.