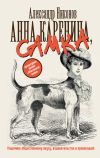Текст книги "Анна Каренина. Том 2. Части 5-8"

Автор книги: Лев Толстой
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
II
На террасе собралось все женское общество. Они и вообще любили сидеть там после обеда, но нынче там было еще и дело. Кроме шитья распашонок и вязанья свивальников, которым все были заняты, нынче там варилось варенье по новой для Агафьи Михайловны методе без прибавления воды. Кити вводила эту новую методу употреблявшуюся у них дома. Агафья Михайловна, которой прежде было поручено это дело, считая, что то, что делалось в доме Левиных, не могло быть дурно, все-таки налила воды в клубнику и землянику, утверждая, что это невозможно иначе; она была уличена в этом, и теперь варилась малина при всех, и Агафья Михайловна должна была быть приведена к убеждению, что и без воды варенье выйдет хорошо.
Агафья Михайловна с разгоряченным и огорченным лицом, спутанными волосами и обнаженными по локоть худыми руками кругообразно покачивала тазик над жаровней и мрачно смотрела на малину, от всей души желая, чтоб она застыла и не проварилась. Княгиня, чувствуя, что на нее, как на главную советницу по варке малины, должен быть направлен гнев Агафьи Михайловны старалась сделать вид, что она занята другим и не интересуется малиной, говорила о постороннем, но искоса поглядывала на жаровню.
– Я на дешевом товаре всегда платья девушкам покупаю сама, – говорила княгиня, продолжая начатый разговор… – Не снять ли теперь пенки, голубушка? – прибавила она, обращаясь к Агафье Михайловне. – Совсем тебе не нужно это делать самой, и жарко, – остановила она Кити.
– Я сделаю, – сказала Долли и, встав, осторожно стала водить ложкой по пенящемуся сахару, изредка, чтоб отлепить от ложки приставшее к ней, постукивая ею по тарелке, покрытой уже разноцветными, желто-розовыми, с подтекающими кровяным сиропом, пенками. «Как они будут это лизать с чаем!» – думала она о своих детях, вспоминая, как она сама, бывши ребенком, удивлялась, что большие не едят самого лучшего – пенок.
– Стива говорит, что гораздо лучше давать деньги, – продолжала между тем Долли начатый занимательный разговор о том, как лучше дарить людей, – но…
– Как можно деньги! – в один голос заговорили княгиня и Кити. – Они ценят это.
– Ну, я, например, в прошлом году купила нашей Матрене Семеновне не поплин, а вроде этого, – сказала княгиня.
– Я помню, она в ваши именины в нем была.
– Премиленький узор; так просто и благородно. Я сама хотела себе сделать, если бы у нее не было. Вроде как у Вареньки. Как мило и дешево.
– Ну, теперь, кажется, готово, – сказала Долли, спуская сироп с ложки.
– Когда крендельками, тогда готово. Еще поварите, Агафья Михайловна.
– Эти мухи! – сердито сказала Агафья Михайловна. – Все то же будет, – прибавила она.
– Ах, как он мил, не пугайте его! – неожиданно сказала Кити, глядя на воробья, который сел на перила и, перевернув стерженек малины, стал клевать его.
– Да, но ты бы подальше от жаровни, – сказала мать.
– A propos de Варенька[31]31
Кстати о Вареньке (фр.).
[Закрыть] – сказала Кити по-французски, как они и все время говорили, чтоб Агафья Михайловна не понимала их. – Вы знаете, maman, что я нынче почему-то жду решения. Вы понимаете какое. Как бы хорошо было!
– Однако какова мастерица сваха! – сказала Долли. – Как она осторожно и ловко сводит их…
– Нет, скажите, maman, что вы думаете?
– Да что же думать? Он (они разумели Сергея Ивановича) мог всегда сделать первую партию в России; теперь он уж не так молод, но все-таки, я знаю, за него и теперь пошли бы многие… Она очень добрая, но он мог бы…
– Нет, вы поймите, мама, почему для него и для нее лучше нельзя придумать. Первое – она прелесть! – сказала Кити, загнув один палец.
– Она очень нравится ему, это верно, – подтвердила Долли.
– Потом второе: он такое занимает положение в свете, что ему ни состояние, ни положение в свете его жены совершенно не нужны. Ему нужно одно – хорошую, милую жену, спокойную.
– Да, уж с ней можно быть спокойным, – подтвердила Долли.
– Третье, чтоб она его любила. И это есть… То есть это так бы хорошо было!.. Жду, что вот они явятся из леса, и все решится. Я сейчас увижу по глазам. Я бы так рада была! Как ты думаешь, Долли?
– Да ты не волнуйся. Тебе совсем не нужно волноваться, – сказала мать.
– Да я не волнуюсь, мама. Мне кажется, что он нынче сделает предложение.
– Ах, это так странно, как и когда мужчина делает предложение… Есть какая-то преграда, и вдруг она прорвется, – сказала Долли, задумчиво улыбаясь и вспоминая свое прошедшее со Степаном Аркадьичем.
– Мама, как вам папа сделал предложение? – вдруг спросила Кити.
– Ничего необыкновенного не было, очень просто, – отвечала княгиня, но лицо ее все просияло от этого воспоминания.
– Нет, но как? Вы все-таки его любили, прежде чем вам позволили говорить?
Кити испытывала особенную прелесть в том, что она с матерью теперь могла говорить, как с равною, об этих самых главных вопросах в жизни женщины.
– Разумеется, любила; он ездил к нам в деревню.
– Но как решилось? Мама?
– Ты думаешь, верно, что вы что-нибудь новое выдумали? Все одно: решилось глазами, улыбками…
– Как вы это хорошо сказали, мама! Именно глазами и улыбками, – подтвердила Долли.
– Но какие слова он говорил?
– Какие тебе Костя говорил?
– Он писал мелом. Это было удивительно… Как это мне давно кажется! – сказала она.
И три женщины задумались об одном и том же. Кити первая прервала молчание. Ей вспомнилась вся эта последняя пред ее замужеством зима и ее увлечение Вронским.
– Одно… это прежняя пассия Вареньки, – сказала она, по естественной связи мысли вспомнив об этом. – Я хотела сказать как-нибудь Сергею Ивановичу, приготовить его. Они, все мужчины, – прибавила она, – ужасно ревнивы к нашему прошедшему.
– Не все, – сказала Долли. – Ты это судишь по своему мужу. Он до сих пор мучается воспоминанием о Вронском. Да? Правда ведь?
– Правда, – задумчиво улыбаясь глазами, отвечала Кити.
– Только я не знаю, – вступилась княгиня-мать за свое материнское наблюдение за дочерью, – какое же твое прошедшее могло его беспокоить? Что Вронский ухаживал за тобой? Это бывает с каждою девушкой.
– Ну, да не про это мы говорим, – покраснев, сказала Кити.
– Нет, позволь, – продолжала мать, – и потом ты сама не хотела мне позволить переговорить с Вронским. Помнишь?
– Ах, мама! – с выражением страдания сказала Кити.
– Теперь вас не удержишь… Отношения твои и не могли зайти дальше, чем должно; я бы сама вызвала его. Впрочем, тебе, моя душа, не годится волноваться. Пожалуйста, помни это и успокойся.
– Я совершенно спокойна, maman.
– Как счастливо вышло тогда для Кити, что приехала Анна, – сказала Долли, – и как несчастливо для нее. Вот именно наоборот, – прибавила она, пораженная своею мыслью. – Тогда Анна так была счастлива, а Кити себя считала несчастливой. Как совсем наоборот! Я часто о ней думаю.
– Есть о ком думать! Гадкая, отвратительная женщина, без сердца, – сказала мать, не могшая забыть, что Кити вышла не за Вронского, а за Левина.
– Что за охота про это говорить, – с досадой сказала Кити, – я об этом не думаю и не хочу думать… И не хочу думать, – повторила она, прислушиваясь к знакомым шагам мужа по лестнице террасы.
– О чем это: и не хочу думать? – спросил Левин, входя на террасу.
Но никто не ответил ему, и он не повторил вопроса.
– Мне жалко, что я расстроил ваше женское царство, – сказал он, недовольно оглянув всех и поняв, что говорили о чем-то таком, чего бы не стали говорить при нем.
На секунду он почувствовал, что разделяет чувство Агафьи Михайловны, недовольство на то, что варят малину без воды, и вообще на чуждое щербацкое влияние. Он улыбнулся, однако, и подошел к Кити.
– Ну, что? – спросил он ее, с тем самым выражением глядя на нее, с которым теперь все обращались к ней.
– Ничего, прекрасно, – улыбаясь, сказала Кити, – а у тебя как?
– Да втрое больше везут, чем телега. Так ехать за детьми? Я велел закладывать.
– Что ж, ты хочешь Кити на линейке везти? – с упреком сказала мать.
– Да ведь шагом, княгиня.
Левин никогда не называл княгиню maman, как это делают зятья, и это было неприятно княгине. Но Левин, несмотря на то, что он очень любил и уважал княгиню, не мог, не осквернив чувства к своей умершей матери, называть ее так.
– Поедемте с нами, maman, – сказала Кити.
– Не хочу я смотреть на это безрассудство.
– Ну, я пешком пойду. Ведь мне здоро́во. – Кити встала, подошла к мужу и взяла его за руку.
– Здорово, но все в меру, – сказала княгиня.
– Ну что, Агафья Михайловна, готово варенье? – сказал Левин, улыбаясь Агафье Михайловне и желая развеселить ее. – Хорошо по-новому?
– Должно быть, хорошо. По-нашему, переварено.
– Оно и лучше, Агафья Михайловна, не прокиснет, а то у нас лед теперь уж растаял, а беречь негде, – сказала Кити, тотчас же поняв намерение мужа и с тем же чувством обращаясь к старухе. – Зато ваше соленье такое, что мама говорит, никогда такого не едала, – прибавила она, улыбаясь и поправляя на ней косынку.
Агафья Михайловна посмотрела на Кити сердито.
– Вы меня не утешайте, барыня. Я вот посмотрю на вас с ним, мне и весело, – сказала она, и это грубое выражение с ним, а не с ними тронуло Кити.
– Поедемте с нами за грибами, вы нам места́ покажете. – Агафья Михайловна улыбнулась, покачала головой, как бы говоря: «И рада бы посердиться на вас, да нельзя».
– Сделайте, пожалуйста, по моему совету, – сказала старая княгиня, – сверху положите бумажку и ромом намочите: и безо льда никогда плесени не будет.
III
Кити была в особенности рада случаю побыть с глазу на глаз с мужем, потому что она заметила, как тень огорчения пробежала на его так живо все отражающем лице в ту минуту, как он вошел на террасу и спросил, о чем говорили, и ему не ответили.
Когда они пошли пешком вперед других и вышли из виду дома на накатанную, пыльную и усыпанную ржаными колосьями и зернами дорогу, она крепче оперлась на его руку и прижала ее к себе. Он уже забыл о минутном неприятном впечатлении и наедине с нею испытывал теперь, когда мысль о ее беременности ни на минуту не покидала его, то, еще новое для него и радостное, совершенно чистое от чувственности наслаждение близости к любимой женщине. Говорить было нечего, но ему хотелось слышать звук ее голоса, так же как и взгляд, изменившегося теперь при беременности. В голосе, как и во взгляде, была мягкость и серьезность, подобная той, которая бывает у людей, постоянно сосредоточенных над одним любимым делом.
– Так ты не устанешь? Упирайся больше, сказал он.
– Нет, я так рада случаю побыть с тобою наедине, и, признаюсь, как мне ни хорошо с ними, жалко наших зимних вечеров вдвоем.
– То было хорошо, а это еще лучше. Оба лучше, – сказал он, прижимая ее руку.
– Ты знаешь, про что мы говорили, когда ты вошел?
– Про варенье?
– Да, и про варенье; но потом о том, как делают предложение.
– А! – сказал Левин, более слушая звук ее голоса, чем слова, которые она говорила, все время думая о дороге, которая шла теперь лесом, и обходя те места, где бы она могла неверно ступить.
– И о Сергее Иваныче и Вареньке. Ты заметил?.. Я очень желаю этого, – продолжала она. – Как ты об этом думаешь? – И она заглянула ему в лицо.
– Не знаю, что думать, – улыбаясь, отвечал Левин. – Сергей в этом отношении очень странен для меня, Я ведь рассказывал…
– Да, что он был влюблен в эту девушку, которая умерла…
– Это было, когда я был ребенком; я знаю это по преданиям. Я помню его тогда. Он был удивительно мил. Но с тех пор я наблюдаю его с женщинами: он любезен, некоторые ему нравятся, но чувствуешь, что они для него просто люди, а не женщины.
– Да, но теперь с Варенькой… Кажется, что-то есть…
– Может быть, и есть… Но его надо знать… Он особенный, удивительный человек. Он живет одною духовною жизнью. Он слишком чистый и высокой души человек.
– Как? Разве это унизит его?
– Нет, но он так привык жить одною духовною жизнью, что не может примириться с действительностью, а Варенька все-таки действительность.
Левин уже привык теперь смело говорить свою мысль, не давая себе труда облекать ее в точные слова; он знал, что жена в такие любовные минуты, как теперь, поймет, что он хочет сказать, с намека, и она поняла его.
– Да, но в ней нет этой действительности, как во мне; я понимаю, что он меня никогда бы не полюбил. Она вся духовная…
– Ну нет, он тебя так любит, и мне это всегда так приятно, что мои тебя любят…
– Да, он ко мне добр, но…
– Но не так, как с Николенькой покойным… вы полюбили друг друга, – докончил Левин. – Отчего не говорить? – прибавил он. – Я иногда упрекаю себя: кончится тем, что забудешь. Ах, какой был ужасный и прелестный человек… Да, так о чем же мы говорили? – помолчав, сказал Левин.
– Ты думаешь, что он не может влюбиться, – переводя на свой язык, сказала Кити.
– Не то что не может влюбиться, – улыбаясь, сказал Левин, – но у него нет той слабости, которая нужна… Я всегда завидовал ему, и теперь даже, когда я так счастлив, все-таки завидую.
– Завидуешь, что он не может влюбиться?
– Я завидую тому, что он лучше меня, – улыбаясь, сказал Левин. – Он живет не для себя. У него вся жизнь подчинена долгу. И потому он может быть спокоен и доволен.
– А ты? – с насмешливою, любовною улыбкой сказала Кити.
Она никак не могла бы выразить тот ход мыслей, который заставлял ее улыбаться; но последний вывод был тот, что муж ее, восхищающийся братом и унижающий себя пред ним, был неискренен. Кити знала, что эта неискренность его происходила от любви к брату, от чувства совестливости за то, что он слишком счастлив, и в особенности от не оставляющего его желания быть лучше, – она любила это в нем и потому улыбалась.
– А ты? Чем же ты недоволен? – спросила она с тою же улыбкой.
Ее недоверие к его недовольству собой радовало его, и он бессознательно вызывал ее на то, чтоб она высказала причины своего недоверия.
– Я счастлив, но недоволен собой… – сказал он.
– Так как же ты можешь быть недоволен, если ты счастлив?
– То есть как тебе сказать?.. Я по душе ничего не желаю, кроме того, чтобы вот ты не споткнулась. Ах, да ведь нельзя же так прыгать! – прервал он свой разговор упреком за то, что она сделала слишком быстрое движение, переступая через лежавший на тропинке сук. – Но когда я рассуждаю о себе и сравниваю себя с другими, особенно с братом, я чувствую, что я плох.
– Да чем же? – с тою же улыбкой продолжала Кити. – Разве ты тоже не делаешь для других? И твои хутора, и твое хозяйство, и твоя книга?..
– Нет, я чувствую и особенно теперь: ты виновата, – сказал он, прижав ее руку, – что это не то. Я делаю это так, слегка. Если б я мог любить все это дело, как я люблю тебя… а то я последнее время делаю, как заданный урок.
– Ну, что ты скажешь про папа́? – спросила Кити. – Что ж, и он плох, потому что ничего не делал для общего дела?
– Он? – нет. Но надо иметь ту простоту, ясность, доброту, как твой отец, а у меня есть ли это? Я не делаю и мучаюсь. Все это ты наделала. Когда тебя не было и еще не было этого, – сказал он со взглядом на ее живот, который она поняла, – я все свои силы клал на дело; а теперь не могу, и мне совестно; я делаю именно как заданный урок, я притворяюсь…
– Ну, а захотел бы ты сейчас променяться с Сергей Иванычем? – сказала Кити. – Захотел бы ты делать это общее дело и любить этот заданный урок, как он, и только?
– Разумеется, нет, – сказал Левин. – Впрочем, я так счастлив, что ничего не понимаю. А ты уж думаешь, что он нынче сделает предложение? – прибавил он, помолчав.
– И думаю, и нет. Только мне ужасно хочется. Вот постой. – Она нагнулась и сорвала на краю дороги дикую ромашку. – Ну, считай: сделает, не сделает предложение, – сказала она, подавая ему цветок.
– Сделает, не сделает, – говорил Левин, обрывая белые узкие продороженные лепестки.
– Нет, нет! – схватив его за руку, остановила его Кити, с волнением следившая за его пальцами. – Ты два оторвал.
– Ну, зато вот этот маленький не в счет, – сказал Левин, срывая коротенький недоросший лепесток. – Вот и линейка догнала нас.
– Не устала ли ты, Кити? – прокричала княгиня.
– Нисколько.
– А то садись, если лошади смирны, и шагом.
Но не стоило садиться. Было уже близко, и все пошли пешком.
IV
Варенька в своем белом платке на черных волосах, окруженная детьми, добродушно и весело занятая ими и, очевидно, взволнованная возможностью объяснения с нравящимся ей мужчиною, была очень привлекательна. Сергей Иванович ходил рядом с ней и не переставая любовался ею. Глядя на нее, он вспоминал все те милые речи, которые он слышал от нее, все, что знал про нее хорошего, и все более и более сознавал, что чувство, которое он испытывает к ней, есть что-то особенное, испытанное им давно-давно и один только раз, в первой молодости. Чувство радости от близости к ней, все усиливаясь, дошло до того, что, подавая ей в ее корзинку найденный им огромный на тонком корне с завернувшимися краями березовый гриб, он взглянул ей в глаза и, заметив краску радостного и испуганного волнения, покрывшую ее лицо, сам смутился и улыбнулся ей молча такою улыбкой, которая слишком много говорила.
«Если так, – сказал он себе, – я должен обдумать и решить, а не отдаваться, как мальчик, увлеченью минуты».
– Пойду теперь независимо от всех собирать грибы, а то мои приобретения незаметны, – сказал он и пошел один с опушки леса, где они ходили по шелковистой низкой траве между редкими старыми березами, в середину леса, где между белыми березовыми стволами серели стволы осины и темнели кусты орешника. Отойдя шагов сорок и зайдя за куст бересклета в полном цвету с его розово-красными сережками, Сергей Иванович, зная, что его не видят, остановился. Вокруг него было совершенно тихо. Только вверху берез, под которыми он стоял, как рой пчел, неумолкаемо шумели мухи, и изредка доносились голоса детей. Вдруг недалеко с края леса прозвучал контральтовый голос Вареньки, звавший Гришу, и радостная улыбка выступила на лицо Сергея Ивановича. Сознав эту улыбку, Сергей Иванович покачал неодобрительно головой на свое состояние и, достав сигару, стал закуривать. Он долго не мог зажечь спичку о ствол березы. Нежная пленка белой коры облепляла фосфор, и огонь тух. Наконец одна из спичек загорелась, и пахучий дым сигары колеблющеюся широкою скатертью определенно потянулся вперед и вверх над кустом под спускавшиеся ветки березы. Следя глазами за полосой дыма, Сергей Иванович пошел тихим шагом, обдумывая свое состояние.
«Отчего же и нет? – думал он. – Если б это была вспышка или страсть, если б я испытывал только это влечение – это взаимное влечение (я могу сказать взаимное), но чувствовал бы, что оно идет вразрез со всем складом моей жизни, если б я чувствовал, что, отдавшись этому влечению, я изменяю своему призванию и долгу… но этого нет. Одно, что я могу сказать против, это то, что, потеряв Marie, я говорил себе, что останусь верен ее памяти. Одно это я могу сказать против своего чувства… Это важно», – говорил себе Сергей Иванович, чувствуя вместе с тем, что это соображение для него лично не могло иметь никакой важности, а разве только портило в глазах других людей его поэтическую роль. «Но, кроме этого, сколько бы я ни искал, я ничего не найду, что бы сказать против моего чувства. Если бы я выбирал одним разумом, я ничего не мог бы найти лучше».
Сколько он ни вспоминал женщин и девушек, которых он знал, он не мог вспомнить девушки, которая бы до такой степени соединяла все, именно все качества, которые он, холодно рассуждая, желал видеть в своей жене. Она имела всю прелесть и свежесть молодости, но не была ребенком, и если любила его, то любила сознательно, как должна любить женщина: это было одно. Другое: она была не только далека от светскости, но, очевидно, имела отвращение к свету, а вместе с тем знала свет и имела все те приемы женщины хорошего общества, без которых для Сергея Ивановича была немыслима подруга жизни. Третье: она была религиозна, и не как ребенок безотчетно религиозна и добра, какою была, например, Кити; но жизнь ее была основана на религиозных убеждениях. Даже до мелочей Сергей Иванович находил в ней все то, чего он желал от жены: она была бедна и одинока, так что она не приведет с собой кучу родных и их влияние в дом мужа, как это он видел на Кити, а будет всем обязана мужу, чего он тоже всегда желал для своей будущей семейной жизни. И эта девушка, соединявшая в себе все эти качества, любила его. Он был скромен, но не мог не видеть этого. И он любил ее. Одно соображение против – были его года. Но его порода долговечна, у него не было ни одного седого волоса, ему никто не давал сорока лет, и он помнил, что Варенька говорила, что только в России люди в пятьдесят лет считают себя стариками, а что во Франции пятидесятилетний человек считает себя dans la force de l'âge[32]32
В расцвете лет (фр.).
[Закрыть], a сорокалетний – un jeune homme[33]33
Молодым человеком (фр.).
[Закрыть]. Но что значил счет годов, когда он чувствовал себя молодым душой, каким он был двадцать лет тому назад? Разве не молодость было то чувство, которое он испытывал теперь, когда, выйдя с другой стороны опять на край леса, он увидел на ярком свете косых лучей солнца грациозную фигуру Вареньки, в желтом платье и с корзинкой шедшей легким шагом мимо ствола старой березы, и когда это впечатление вида Вареньки слилось в одно с поразившим его своею красотой видом облитого косыми лучами желтеющего овсяного поля и за полем далекого старого леса, испещренного желтизною, тающего в синей дали? Сердце его радостно сжалось. Чувство умиления охватило его. Он почувствовал, что решился. Варенька, только что присевшая, чтобы поднять гриб, гибким движением поднялась и оглянулась. Бросив сигару, Сергей Иванович решительными шагами направился к ней.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.